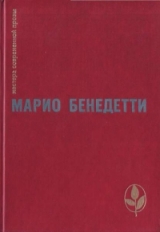
Текст книги "Весна с отколотым углом"
Автор книги: Марио Бенедетти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
В ИЗГНАНИИ (Предпоследнее пристанище)
Смерть товарища, а тем более такого дорогого всем нам, как Лувис Педемонте [25]25
Уругвайский журналист, умерший в эмиграции на Кубе.
[Закрыть], всегда потеря, рана. Но когда смерть празднует свою победу в изгнании, даже в окружении друзей, как в данном случае, все равно, потеря приобретает особую силу, особое значение.
Сужденная природой разлука, неизбежный естественный конец всегда несет в себе элемент возвращения. Смерть – это прежде всего возвращение в родные края, в родную землю, в нашу землю, не похожую ни на какую другую в мире. И самое горькое, наверное, именно в том, что человеку, умершему в изгнании, отказано в этом возвращении.
И потому во все время долгой тяжкой болезни Лувиса так больно нам было видеть, как он улыбался, как весело строил планы на будущее, а еще больнее – притворяться, говорить с ним о будущем, уверять, что он, без сомнения, вдохнет воздух родного квартала, увидит сияющее в блеске солнечного дня побережье – сердце Монтевидео, насладится виноградом и персиками – роскошью бедняков.
Трудно говорить человеку о простых радостях, придающих вкус и смысл жизни – и его жизни тоже, – когда знаешь, что смерть шагает за ним по пятам, и никому не дано оградить его, спасти, умереть вместо него, заклясть неотвязную спутницу, чтобы он остался с нами, живой, и ты даже не смеешь дать волю рыданиям.
С самого начала нелегко нам было жить в изгнании, вдали от родины. Теперь стало еще хуже – пришло время умирать на чужбине. Уже пять или шесть имен в списке ушедших. Одиночество, болезни да пули сгубили их, а кто знает, скольких еще недосчитаемся мы, затерянные в бескрайних далях изгнания.
Еще горше, когда подумаешь, что смерть в изгнании означает: не один Лувис, а и все мы лишены пока что высокого права сойти с поезда на той станции, с которой начинали жизненное странствие. У нас отняли возможность умереть дома, просто дома, лишили своей родной смерти, которая знает, на каком боку ты спишь и какими мечтами питаешь бессонницу.
И теперь, когда ушел Лувис, наш товарищ, которого любили как мало кого другого, ушел, не возвратясь домой, мы клянемся бороться не только за то, чтобы изменить жизнь, но и за то, чтобы сохранить смерть, нашу родную смерть, которая есть и начало и рождение, смерть на своей земле.
Лувис был замечательным журналистом, революционером, бойцом, верным другом, он горяча восхищался Кубинской революцией, но, наверное, все его качества можно выразить в нескольких словах: он был истинным человеком из народа, простым, скромным, страстным, великодушным, любящим, трудолюбивым, веселым, мужественным, добрым; ведь все эти черты и есть лучшие черты нашего народа.
И еще отличался Лувис двумя особенностями, редко соседствующими в изгнаннике: он всегда жил страданиями и борьбой своей далекой родины, видел ее образы, слышал голоса и в то же время обладал удивительным умением трудиться, где бы он ни был, на пользу людям; все свои творческие силы отдавал он Кубе, ибо понимал, защищал и любил Кубинскую революцию как свою, ощущал, что, в сущности, она и есть своя, потому что она – наша.
Бед и печалей хватало в его изгнаннической жизни, но никогда не служили они ему причиной, а еще менее того – предлогом, чтобы, замкнуться в себе самом, обречь себя на одиночество. Он понимал, что лучшее лекарство против изгнаннической тоски – влиться в общество, принявшее изгнанника, и, следуя этому своему правилу, отвалено и весело взялся за работу и трудился на пользу Кубы наравне с кубинцами, оставаясь в то же время истинным уругвайцем.
Вспомним, что в капиталистическом обществе, в числе других пошлостей, принято, когда речь заходит об умершем, говорить о «последнем пристанище». Но для Лувиса, для нашего товарища, могила, в которую мы его опустили, будет предпоследним пристанищем, ибо последнее его пристанище – наша память, наши сердца, полные любви. В этом его пристанище двери распахнуты настежь, а в окна глядят небеса.
Так победим мы смерть на чужбине. Победим, потому что уверены, что с теми из нас, кому суждено дождаться возвращения на родину, вернется и Лувис. Вернется в нашей памяти, в нашей жизни, в наших сердцах. И сердца наши, память и жизнь станут лучше, ибо в них поселился честный и верный, достойный и великодушный, простой и чистосердечный человек из народа.
РАНЕНЫЕ И УВЕЧНЫЕ (Правда и отсрочка)
Под вечер она пошла к свекру. Она не была у него недели две. Просто потому, что работали они в разное время.
– Вот те на! – сказал дон Рафаэль, расцеловавшись с нею. – Наверное, что-то страшное случилось, если собралась ко мне.
– Зачем вы так говорите? Вы же знаете, я люблю с вами беседовать.
– И я люблю с тобой поболтать. Но ты ко мне приходишь только тогда, когда тебе нелегко.
– Может быть… Вы уж меня простите.
– Да ладно! Приходи, когда хочешь. Трудно тебе, легко – ты приходи. Как Беатрис?
– Простудилась немножко, а вообще хорошо. Последнее время лучше учится.
– Она девица умная, да еще и хитрая. Скажем так, в деда. Ты ее из-за простуды не привела?
– Из-за простуды, да… но больше потому, что я хотела с вами посоветоваться.
– Ну, что я говорил! Ладно, в чем дело?
Она села, а скорей – упала на зеленый диван, невольно обвела взором не слишком прибранную комнату, обиталище одинокого старика, и печально улыбнулась.
– Трудно начать, особенно потому, что это вы. И все-таки только с вами я хочу поговорить о…
– О Сантьяго?
– Да. Вернее – и да, и нет. О Сантьяго тоже, но главное – обо мне самой.
– Какие вы, женщины, эгоистки!
– Не мы одни. Нет, серьезно, дон Рафаэль, я хочу поговорить о нас с Сантьяго.
Дон Рафаэль тоже сел, только в качалку. Взор его стал немного грустнее, но, прежде чем заговорить, он покачался туда – сюда, туда – сюда.
– Что же у вас не в порядке?
– Я не в порядке.
Дон Рафаэль, по всей видимости, не хотел тянуть.
– Ты его разлюбила?
Она не могла и не собиралась приступать к делу так прямо, и в горле у нее что-то клекнуло. Потом она судорожно вздохнула.
– Спокойней, спокойней!..
– Не могу. Смотрите, руки дрожат.
– Если это тебе поможет, скажи. Я уже несколько месяцев как догадался и ничего не испугаюсь.
– Догадались? Значит, это видно?
– Нет, Грасиела, вообще – не видно, видно мне, потому что я тебя знаю давно, а Сантьяго – мой сын.
Прямо перед ней висела репродукция Сезанна «Курильщик». Сотни раз видела она этот образ покоя, но сейчас ощутила, что ей не выдержать взгляда проницательных глаз. Прежде, под вечер, в сумерках, Курильщик глядел рассеянно и отрешенно, а теперь почему-то воззрился на нее – может, потому, что трубку он держал совсем как Сантьяго. Она отвела взор и снова посмотрела на свекра.
– Конечно, вы назовете это глупостью, безумием… – сказала она. – Что ж, мне и самой так кажется.
– В мои годы ничто не кажется безумным. Как-то привыкаешь к внезапным порывам, к необдуманным поступкам, прежде всего к своим.
Вероятно, ей стало легче. Она открыла сумочку, взяла сигарету, закурила и протянула пачку дону Рафаэлю.
– Спасибо, не надо. Полгода не курю. А ты и не заметила?
– Почему же вы бросили курить?
– Так, сосуды, ничего серьезного. Знаешь, и впрямь помогло.
Сперва было очень трудно, особенно после еды. А теперь привык. Она медленно втянула дым; видимо, это придало ей смелости.
– Вы спросили, разлюбила ли я Сантьяго. Если я отвечу «нет», я солгу. Если отвечу «да», скажу неправду.
– Надо понимать, все очень сложно?
– Не без того… Конечно, в одном смысле слова я его люблю как любила. Он ведь ничего мне плохого не сделал. Кто-кто, а вы знаете, как прекрасно он себя вел. Не только в политике, в борьбе – в семье тоже. Со мной он всегда был очень хорошим!
– В чем же тогда дело?
– Понимаете, я люблю его как лучшего друга, как верного товарища. Да что там, в конце концов, он отец Беатрис!
– И тем не менее?..
– И тем не менее по-женски я его не люблю. В этом смысле он мне не нужен, вы понимаете?
– Конечно, понимаю. Не такой я дурак. Кроме того, ты очень ясно и очень убежденно говоришь.
– В общем… как бы это сказать?.. Скажу очень грубо, вы уж меня простите. Я больше не хочу с ним спать. Это ужасно, да?
– Нет. Я думаю, это печально, но, в сущности, и вся наша жизнь – не праздник.
– Если бы он не был в тюрьме, я бы не так страдала. Это со многими бывает. Мы могли бы поговорить, подумать. Сантьяго бы все понял, я знаю, хотя ему было бы грустно или больно. Но он в тюрьме.
– Да, в тюрьме.
– Вот я и страдаю, вот и мечусь. Он – там, взаперти, но и я тут не на свободе.
Зазвонил телефон. Грасиела сразу поникла – звонок нарушил атмосферу доверия, помешал исповеди. Дон Рафаэль встал и поднял трубку.
– Нет, сейчас не один. Приходи завтра. Очень хотел бы тебя видеть. Да, правда, хотел бы. Гостья, но ты не беспокойся. Ну хорошо, к вечеру жду. Можешь часов в семь? Чао.
Дон Рафаэль повесил трубку, сел в качалку, посмотрел на удивленную Грасиелу и поневоле улыбнулся.
– Что ж, я старый, но не настолько! И потом, очень трудно, когда ты совсем один.
– Я немножко удивилась, но я за вас рада, Рафаэль. Кроме того, мне ведь и стыдно… Смотришь на свой пуп и думаешь, что только твои проблемы важны. Знаете, не всегда помнишь, что у других они тоже есть.
– Ну, мои дела я бы проблемой не назвал. Видишь ли, она не девочка, хотя куда моложе меня, как же иначе. Главное, она прекрасный человек. Не знаю, надолго ли это, но сейчас мне хорошо. Ты доверилась мне, и я тебе доверюсь: я меньше боюсь, больше радуюсь, больше хочу жить.
– Нет, правда, это хорошо, я довольна.
– Верю.
Дон Рафаэль протянул руку к книжному шкафу, открыл его, вынул бутылку и два стакана.
– Выпить не хочешь?
– Оно бы неплохо.
Прежде чем пить, они посмотрели друг на друга, и она улыбнулась.
– Удивилась я вашим делам и чуть не забыла про свои.
– А вот теперь – не верю.
– Я шучу. Как тут забудешь!
– Грасиела, и это все? Не хочешь спать с Сантьяго, когда он выйдет, и все, или еще что-то?
– Раньше ничего другого не было. Мы как-то отдалились друг от друга, я от него отдалилась. Я не хотела, чтобы мы с ним спали, когда он выйдет.
– А теперь?
– Теперь все иначе. Кажется, я влюбляюсь.
– Вон что!
– Не влюбилась, только влюбляюсь.
– Значит, влюбилась.
– Может, и так. А может – нет. Вы его знаете, это Роландо.
– А он тебя любит?
– Ему тоже нелегко. Они с Сантьяго очень дружили. Не думайте, я понимаю, что это еще больше все усложняет.
– Значит, по-твоему, положение сложное?
– Конечно. Очень.
– Что же ты думаешь делать? Что сделала? Сантьяго не написала?
– Потому я к вам и пришла. Я не знаю, что делать. Сантьяго мне пишет как влюбленный. Уверена, он не лжет. С одной стороны, мне очень стыдно отвечать как ни в чем не бывало. А с другой стороны, какой ужас, только представьте – там, взаперти, узнать, что я ему не жена и влюбилась в одного из его лучших друзей. Такое письмо эти садисты не задержат. Иногда мне кажется, что написать все равно надо, иногда – что это не нужно и жестоко.
– Тяжело тебе?
– Да.
– Я думаю, сейчас ты правильно сказала, это не нужно и жестоко. Сантьяго живет ради тебя и Беатрис.
– А вы?
– Я его отец. Это другое дело. Родителей получают, а не выбирают. Жену и детей как бы сами создают, тут воля свободна. Конечно, он любит меня, и я его люблю, но мы не были так уж близки. Мать – с ней иначе, они понимали друг друга, он очень страдал после ее смерти. Конечно, ему тогда было пятнадцать лет. А теперь, ты уж поверь мне, только вы с Беатрис – его будущее, близкое ли, далекое, это неважно. Там, в тюрьме, он думает, что снова будет с вами обеими, как раньше.
– Да, так он и думает.
– Ну вот, ты сама говоришь, если бы он не был в тюрьме, все было бы проще. Не слишком приятно, а проще. Расстаться всегда тяжело, но иногда оставаться вместе против воли – еще хуже.
– Что вы мне посоветуете?
Дон Рафаэль допил виски. Теперь вздыхает он.
– Нельзя лезть в чужую жизнь.
– Так ведь Сантьяго ваш сын.
– Ты тоже мне вроде дочери.
– Я это всегда чувствовала.
– Знаю. Потому все еще сложнее.
Опять звонит телефон, дон Рафаэль не берет трубку.
– Не беспокойся, это не Лидия. Я ведь тебе не сказал, как ее зовут? В такое время звонит один зануда. Ученик, справки ему нужны, библиография.
По-видимому, ученик упрям и терпелив или терпелив и упрям. Телефон звонит снова. Потом затихает.
– Если уж ты спросила, я за то, чтобы ничего такого не писать. Притворяйся, как притворялась. Знаю, это нелегко. Но помни, ты на свободе. Ты еще что-то любишь, чем-то занимаешься. А у него – четыре стены да решетка. Правда его убьет. Я бы не хотел, чтобы мой сын сломился именно теперь, когда он столько перенес. Позже, когда он выйдет – он выйдет, я знаю, – ты сможешь все прямо ему сказать, хотя ему будет очень больно. И еще скажи, что я велел тебе молчать. Сперва он сорвется, закричит, как в доброе старое время, может – заплачет. Ему покажется, что рухнул мир. Но тогда он будет на свободе, не в тюрьме, и у него, как теперь у тебя, будут и другие интересы. Так я считаю. Ты сама просила говорить прямо.
– Да, просила.
– Согласна ты со мной?
Теперь казалось, что он волнуется больше, чем она. Наклоняя бутылку, он заметил, что рука, держащая бокал, чуть-чуть дрожит. Заметила это и Грасиела.
– Спокойней, спокойней, – сказала она, как сказал он ей вначале. Напряжение спало, но засмеялся он с натугой.
– Наверное, вы правы. Так будет лучше всего. Во всяком случае, другого выхода не видно.
– Я сам понимаю, что ни реши – все трудно принять. И знаешь почему? Потому что невозможно принять то, что случилось с Сантьяго.
– Наверное, я сделаю, как вы сказали. Буду притворяться.
– Кроме того, мы не знаем, что будет со всеми нами. Теперь он тебе не нужен, потом ты опять можешь его полюбить.
– Вам кажется, я легкомысленная, да?
– Нет. Мне кажется, у всех у нас – и здесь, и в других местах – разладилась жизнь. Мы стараемся ее наладить, кто как может, начать сначала, навести мало-мальский порядок в наших чувствах, отношениях, утратах. Но только зазеваешься – опять все расползается, опять хаос. Прости такой нелепый повтор, с каждым разом хаос этот становится хаотичней.
Грасиела прикрыла глаза. Он с удивлением на нее взглянул. Наверное, испугался, что она заплачет. Но она подняла веки, и глаза были только влажны, а может – просто блестели. Пристально посмотрев на свой бокал, она протянула его свекру.
– Налейте-ка мне еще.
ДОН РАФАЭЛЬ (Вести об Эмилио)
Какой-то я выжатый, потерянный. Как будто задыхаюсь, хотя одышки и нет. Как будто впервые познал муки отцовства. Как будто вижу себя за стеклом витрины, и я – манекен (у нас говорили «болван»), которому смеха ради оставили только галстук. Кажется, слава богу, я ее убедил, но убедил ли себя? Лицемерить грешно, однако я не уверен, что искренность – всегда во благо. Хочется трезво смотреть на жизнь, широко, современно, гибко. Только вот что плохо – я ведь отец. А когда Сантьяго выйдет из тюрьмы (адвокат прислал мне довольно обнадеживающее письмо), здесь его ждет еще одна тюрьма, другая. Он будет смотреть на Грасиелу сквозь тюремную решетку чужой любви. Брать Беатрис по субботам, ходить в зоологический сад, иногда – в кино, и задавать осторожные вопросы, потому что каждый ответ, самый простодушный, разбередит ему душу и наведет на дурные мысли. И потом: он увидит Роландо, кем же тот будет для него? Старым соратником, чуть ли не товарищем по тюрьме или нынешним любовником жены? Что же такое с моим сыном? Я знаю, чем он наделен, даже в избытке, но вот чего ему не хватает? Почему, по какой причине это могло произойти? Мне легко представить, чем он покоряет людей, но я и помыслить не могу, почему его не любят. Какой недостаток унаследовал он от меня или от матери? Надо бы до этого докопаться. Надо найти моего настоящего сына, которого я еще не знаю. Сегодня я снова читал единственное письмо, которое он тайно переслал, минуя цензуру (до сих пор не пойму, через кого). Как ни странно, письмо это мне, а не Грасиеле. «Видишь ли, Старик, это письмо не прочтут чужие глаза, и я решил записать тебе прямо и нагло, а ты терпи, читай. Кому-то я должен послать знак из этой пустыни, так кому же, если не тебе? Знак послать я должен, чтобы совсем не развалиться. Не пугайся, это метафора. Но суть передает, правда? Скажу без экивоков: не бойся, я никого не выдал, чего нет, того нет. Кое – чему ты меня учил, и этому я научился. Но и героем меня назвать нельзя. Удивишься ты, если я скажу, что до сих пор не знаю, почему я молчал, по убеждению или по расчету? Скорее – по расчету. Я заметил странную штуку: пока отрицаешь все, пока молчишь как дубина, бить тебя все равно бьют, но иногда вроде и верят, что ты не врешь и впрямь ничего не знаешь. А вот если ты, по слабости, скажешь какую-нибудь ерунду, ненужную мелочь, которая никому повредить не может, все пойдет иначе. Теперь им кажется, что ты знаешь гораздо больше, и тут уж они тебе покажут! Когда на все отвечаешь «нет», они над тобой измываются – как иначе? – но вполне может случиться, что в один прекрасный день тебя оставят в покое, поверив в твое неведение. Если же скажешь хоть что-то, в покое тебя не оставят. Спасибо, если отступятся на время, но потом опять тобой займутся. Тогда их охватывает какая-то мания – выжать из тебя все. Вот почему я повторю, что сам не знаю, из расчета молчал или из принципа. Наверное, все же из расчета. В конце концов, не это важно. Как бы то ни было, я доволен, из-за меня не пострадал никто. Но с тобой я хотел говорить не об этом. Ты знаешь, что в таких случаях говорят адвокаты – «он никого не убивал». Знаешь, верно? Так вот, я убил. Надеюсь, инфаркт тебя не хватит? Держись! Этого не знают ни адвокат, ни друзья, ни Грасиела. Теперь знаешь ты, и знаешь потому, что мне надо сбросить это бремя. Сам видишь, я рискую, когда так пишу. Каким бы верным ни был путь, все равно рискую, а все-таки пишу, одному мне это не вынести. И я расскажу тебе. К той поре я дней десять укрывался в одном из тайников, они у нас были. Два дня я сидел там один, на улицу носа не высовывал, ел одни консервы, читал какой-то детектив, слушал транзистор – через наушники, чтобы не привлекать внимания. Жалюзи я не поднимал ни днем, ни ночью, конечно, и не зажигал света, чтобы все думали, что тут никто не живет. Тайник этот хорош тем, что из него можно выйти на две разные улицы, и это придавало мне духу, потому что второй выход надежно скрыт, он ведет в длинный проход, куда выходит много других комнат. Почти ни в одной никто не живет, там иногда ночуют бродяги, народу почти нет, это мне тоже было на руку. Однако спал я вполглаза и вот как-то ночью открыл глаза совсем, потому что услышал едва уловимые звуки. Мне показалось, что звуки идут из садика. Я посмотрел сквозь жалюзи и увидел какую-то тень. Она чуть колебалась, но я не разглядел, человек это или карликовая сосна, которая росла перед домом, у ограды. Я застыл и почувствовал вскоре, что кто-то ходит по дому. Наверное (так я думаю теперь), они были убеждены, что дом пустой, и немного нарушили свои же правила осторожности. К тому же, кажется, их было мало, человека три, и пришли они не потому, что заподозрили эту квартиру, а потому, что искали везде и всюду. И тут сверкнул фонарь. Прошла бесконечная минута, и кто-то очень тихо спросил: «Сантьяго, что ты здесь делаешь?» Сперва я подумал, что это наш, но наши называли меня другим именем. Пришелец отвел фонарь, свет не слепил, и я увидел сначала форму, потом револьвер в руке, потом лицо. Знаешь, кто это был? Держись, Старик. Это был Эмилио. Да, тот самый, сын тети Аны, твой племянник. Ты и представить себе не можешь, что вспоминается в такую минуту. Времени на раздумья у меня не было. Скорей уж он взял бы верх, я не успел бы схватить оружие. В садике кто-то ходил, разговаривал. Он сказал снова: «Сантьяго, сдайся, так будет лучше. Я не знал, что ты с ними, но лучше сдайся». И посмотрел на револьвер, не на свой, на мой, который я не мог схватить. «Я тоже не знал, что ты с ними, Эмилио», – сказал я. Говорили мы шепотом. «Сколько лет не виделись», – прошептал он. «Да, хорошенькая встреча!» – прошептал я. И тут же сразу все решил. Я сложил кулаки, оба вместе, словно ждал наручников, и подошел к нему. «Хорошо, сдаюсь». Он мне поверил. Никому другому он не поверил бы, а меня подпустил к себе и даже, кажется, чуть-чуть опустил револьвер. Теперь я не знаю, что именно сделал – что-то дикое, – но через три секунды я его душил теми самыми руками, на которые он собирался надеть наручники. Душил и задушил. Не пойму, как все так тихо получилось. Тени в садике двигались, но там тоже было тихо, и никто не догадывался, что дом – не пустой. Я был не обут, но одет, я тогда спал одетым. Как можно скорее я кинулся к другим дверям, по дороге схватил сандалии, они лежали на кресле. Двери эти выходили в проход, ни жалюзи, ни глазка в них не было, приходилось рисковать, и я рискнул. Я вышел, проход оказался пустым. Было три часа ночи. Метров десять я шел, не бежал, и вдруг глазам своим не поверил: по улице медленно ехал автобус, старый, с открытыми дверями. Сидело в нем два человека. Я вскочил на ходу, а через полчаса сошел на площади Независимости. В газетах так ничего и не было об этой маленькой неудачной операции, даже не сообщили о подвиге самоотверженной жертвы гнусных убийц. Только известили о смерти, больше ничего. Хуже того – мы все (ты, я, Грасиела) и были теми родственниками, кому выражали сочувствие в их потере. Наверное, ты пошел на похороны. Я не ходил, конечно, хотя минуту-другую меня подмывало пойти. Но мне уже было не до того. Через год, когда нас взяли, при облаве на Вилья-Муньос, меня допрашивали сотни раз, били, пытали, но об этом не спросили. Почему они не догадались, я не узнаю никогда. Правда, никто в семье не думал, что Эмилио – полицейский. А если профессия требует тайны, почему он был тогда в форме? Ты спросишь, зачем я тебе это пишу. Я пишу тебе потому, что меня тяготит мое бремя, хотя иначе поступить я не мог. Мещанский предрассудок? Может, и так… Какая ирония судьбы! Больше я никого не убивал. Сколько было схваток, сколько раз я чудом оставался жив и чудом никого не пристрелил! Наверное, плохо целюсь. Как бы то ни было, на моем счету (это дебет или кредит?) нет другой смерти. В чем же проблема, спросишь ты? В том, что я не могу его забыть. Не могу забыть и своих рук на его горле. Мой двоюродный брат снится мне раза два – три в месяц, он снится мне, а убийство – не снится. Это не кошмары. Я вижу во сне давнее время, наше детство (он ведь на год старше меня?), когда мы играли в футбол на лужайке, за церковью, или летом, после полудня, ходили вместе в парк. Вы, взрослые, ложились отдохнуть, а мы, наслаждаясь немыслимой свободой, растягивались на траве или на уже опавших листьях, и мечтали, и строили планы, и в мечтах всегда были вместе, и путешествовали на корабле, не на самолете, самолетов мы боялись, и Эмилио говорил, что на палубе можно играть в камушки и в орлянку, а в самолете стюардессы не разрешат, и мы мечтали, и он собирался стать инженером, потому что любил тройное правило, а я – музыкантом, потому что играл на губной гармошке, точней – на гребенке, обтянутой папиросной бумагой, и еще мы толковали о вас, о стариках, и он объяснял: «Они нас не понимают, но любят», и мы назначали срок – в четырнадцать лет сбежим из дому, каждый из своего, и тогда начнутся приключения, которые мы столько раз пережили в разговорах. Такой Эмилио мне снится, поэтому сны – не страшные. Страшное начинается, когда я проснусь и вижу свои руки на его горле, шея у него – уже не тонкая, не гладкая, как в восемь, или девять, или десять лет, а короткая, толстая, грубая. Может быть, это мне показалось из-за форменного воротничка. Иногда – и здесь, и в предварилке – я о нем слышал. Никто не знает, что мы в родстве, и все его считают палачом, одним из самых лютых. Говорят, он наслаждался, всаживая шило в зад или в причинное место. Многие слышали, что он умер, и довольно давно, а как – не знают, и я ничего не говорю, когда кто-нибудь скажет: «Жаль, если он сам собой подох. Хорошо бы ему, гадюке, череп раскроили», и называют его поганым садистом, если не хуже. Так что мучит меня порой не столько ощущение вины, сколько странная мысль: в ту ночь я задушил свое собственное детство. Иногда я вспоминаю, как доверчиво он смотрел на мои кулаки; иногда думаю о том, что не случайно говорил шепотом. Может, он решил, что в доме еще кто-то есть, и испугался за себя, хотя видел, что я не дотянусь до револьвера. Может, боялся, как бы другие не убили меня по злобе или со страху, потому что я как-никак Сантьяго, двоюродный брат, и лучше, чтобы я был живым, не мертвым, а то родные узнают. И еще может быть, что он тоже вспомнил наши мечтания на траве и на листьях, и растерялся, и стал уязвим. А может быть, он понял не так быстро, как я, что мы теперь – враги, и в нашей борьбе нет ни дома, ни брата. Но я никого раньше не убивал, Старик, и единственное убийство запятнало меня навсегда. В лучшем случае это значит, что я слабый человек, хотя столько раз бывал сильным. Скажу тебе больше: я бы так не мучился, если бы застрелил его в бою. Я мучаюсь, потому что убил его иначе, низко, если не подло, злоупотребил минутой нерешительности, быть может – раз я хочу быть честным, я не могу избежать этой мысли, – минутой сочувствия. Да, теперь я знаю, что он стал мерзавцем, потерял жалость и совесть, и все говорят – я в том числе, – что так ему и надо, но тогда, когда я его душил скрюченными руками, я этого всего не знал и убил, чтобы меня не убили, того, кто мечтал со мной на ковре из листьев, и собирался вместе бежать из дому, и плавать на корабле, и на палубе играть в орлянку. Ты пойми, это разные люди, разные Эмилио, их – два. Понимаешь, Старик? Грасиеле я не признался и не признаюсь, она не поймет, она ведь все упрощает. Она скажет: «И прекрасно, одним палачом меньше» или «Как ты мог, он же твой брат?». И то, и другое неправда. Все сложнее, Старик, сложнее. Теперь вот еще что. Помни, больше таких оказий не будет (когда-нибудь, надеюсь, я тебе объясню, каким чудом это вышло). Ты мне так ответить не можешь, других верных путей тоже нет. И все-таки ты ответь. Ты мне ответишь, правда, Старик? Пиши, как всегда, через цензуру. Придется нам с тобой выбрать только два ответа, но мы будем знать, что означает один, что – другой. Так вот, запомни: если ты не одобряешь, не оправдываешь (этого я не жду), но хоть понимаешь меня, постарайся за две строки до конца вставить слово «понимаю». Если же тебе все это кажется гнусным и подлым, вставь «не понимаю». Идет? Чао, Старик».
Тогда я перечитал письмо раз десять и написал только через два дня. Кончил я так: «Внучка моя, а твоя дочь, умна и хороша, как прежде. Она уже учит французский, ты подумай! Иногда она приходит ко мне и рассказывает, что они проходили. Но я то ли глохну, то ли теряю память (ничего не попишешь, годы) и понимаю ее с трудом, когда, выговаривая как можно тщательней, она рассказывает мне сказку Перро. Чао, сынок».


![Книга Индийские волшебные повести [М. Амман : Сад и весна Н. Лахори : Роза Бакавали Х. А. Ашк : Цветник Чина ] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-indiyskie-volshebnye-povesti-m.-amman-sad-i-vesna-n.-lahori-roza-bakavali-h.-a.-ashk-cvetnik-china--272100.jpg)





