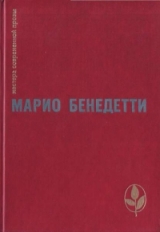
Текст книги "Весна с отколотым углом"
Автор книги: Марио Бенедетти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
ДРУГОЙ (Один лишь свидетель)
Вот черт, ну и круги под глазами, все повторяет и повторяет Роландо Асуэро, стоя перед зеркалом в проржавевшей рамке. И поделом, больно пью много, продолжает он и со строгим видом выкатывает глаза, но тогда получается явно похоже на психа. Орангутан, говорит Роландо четко и пытается улыбнуться, хотя резинка во рту мешает и голова с похмелья трещит. Орангутанами Сильвио называл вояк, давно, in illo tempore [4]4
В то время (лат.).
[Закрыть], когда жили они все вместе на крошечной вилле в Солисе, незадолго до того, как дела обернулись совсем скверно. Даже и гориллами их не назовешь, уверял Сильвио, самые настоящие орангутаны, да к тому же еще и психованные. И получается – психогутаны.
В последний раз отдыхали они тогда вместе все четверо: Сильвио, Маноло, Сантьяго и он, Роландо. И женщины тоже с ними, ясное дело супруги, как же иначе. Но супруг было только три: Мария дель Кармен, Тита и Грасиела; он, Роландо Асуэро, всегда был убежденным холостяком, а вводить своих случайных возлюбленных в компанию друзей, имеющих чересчур прочные семьи, – такого желания у Роландо не возникало никогда. Ну а женщин, конечно, волнуют, во всяком случае в те времена волновали, сплетни, моды, гороскопы да кулинарные рецепты, так что мужчины почти всегда располагались отдельно и вели разговор о том, как навести в мире порядок. И чуть-чуть было не нашли способ. Сильвио, например, парень, конечно, замечательный, но ведь до чего же наивен, просто невозможно. Между прочим, он тогда уверял, что никогда не сможет взять в руки оружие, а вот взял же и стрелял, и в него стреляли, теперь Сильвио в фамильном пантеоне семейства жены, которое хоть и пребывает в печали, однако же отнюдь не обеднело. А красотка Мария дель Кармен с двумя малышами торгует в мелочной лавке на Рамблас, в Барселоне, хотя теперь уж не знаю, может, еще где они приземлились. А Маноло, тот был ехидный, язвительный, колкий, в данном случае эти три слова хоть и сходны, но вовсе не синонимы. Скорее всего, Маноло таким образом прятал свою застенчивость. И вот доказательство: чрезмерно язвительным, колким и ехидным он никогда все же не был, а в конце концов оказывался мягким и уступчивым. Нежный, веселый он в альпаргатах, а взор, как море, глубок.За исключением нежный, эти слова танго полностью применимы к Маноло. Сантьяго же хоть и обжора, конечно, да зато человек хороший – вот что главное. И в ботанике знал толк, и в марксизме, и в филателии, и в авангардистской поэзии, да вдобавок еще Сантьяго – живой каталог истории футбола. И не думайте, будто он помнил всего только гол, забитый Пьендибени непробиваемому Заморе да олимпийский жест последнего – ты победил, Гектор! Это все знают, давно, можно сказать, в фольклор вошло. Сантьяго помнил наизусть всю record [5]5
Летопись (англ.).
[Закрыть]борьбы, игру за игрой, между Насасси и Домингос [6]6
Известные в Латинской Америке футболисты.
[Закрыть](извлекал подробности словно бы из рукава, как фокусник), помнил последние подвиги Перучо Патроне [7]7
Известные в Латинской Америке футболисты.
[Закрыть], уже в те времена, когда из каждых десяти мячей восемь он посылал прямехонько в голубое небо и тем не менее два остальных чудом увеличивали общий score [8]8
Счет (англ.).
[Закрыть], а чтобы не обвинили его в пристрастии, говорил о Скиаффино, какой он молодец, прямо гений, и ведь как раз в самом трудном – в умении сыграться с партнерами, и еще о каком-то великане по имени Обдулио, который всех себе подчинял, даже рыжего Гамбетту, и это не треп.
А вот сейчас, черт побери, ну и круги под глазами, снова и снова повторяет Роландо Асуэро, уставясь в зеркало в проржавевшей рамке, я предался страданью, испил свои года. Правда, что я предался страданью, но испил не года, а совсем другое. На душе тяжко, вот в чем причина. И почему это, когда время от времени, скажем раз в месяц, устраиваешь роскошную пьянку, думаешь, легче будет, а получается наоборот: чем больше пьешь, тем хуже и даже почти трезвеешь под конец. Почти трезвеешь, потому что кларет («rose» называют его люди, зараженные французской классической культурой) не действует, а впрочем, кларет – вещь шикарная, что говорить. Наверное, приливы тоски связаны с луной, все равно как нездоровье у девок. И ведь что интересно: не только у девок, а и у одиннадцати тысяч дев и даже у любой матери, обидно, верно? В конце концов, лучше быть знаменитым пьяницей, чем безвестным алкоголиком.
Кто придумал эту премудрость? Но правда и то, что безвестные алкоголики всегда оставляют тебя в дураках. Человек напивается или не напивается в силу разных причин: кто по привычке, кто – от безделья, от тоски, от растерянности, а незапятнанная чистота, суровые правила морали здесь вовсе ни при чем. Нечего сказать, хороши их суровые правила морали, думает Роландо Асуэро и хмурится. Начинает заводить часы, да так и застывает, нахмурясь, вспомнив про тех, что распоряжаются к северу от Рио-Браво [9]9
Рио-Браво-дель-Норте (Рио-Гранде) – река, являющаяся границей между США и Мексикой.
[Закрыть].
Но вот круги под глазами – тут империалисты, к сожалению, ни при чем, тут они не виноваты. «Один лишь свидетель – пламя свечи».А мне вот никто не поможет ни при свидетелях, ни без свидетелей. Будь проклято наше изгнание! В нем все дело. Даже бедняге психоаналитику с нами беда: отказался предъявить список пациентов, у которых подорвана нервная система, и, уж конечно, тех, которые стремятся подорвать существующую общественную систему. Ну и конечно, плохо ему пришлось. У тюремщиков свои методы лечения, и соперников они терпеть не намерены. Один лишь свидетель. Сильвио нет в живых, Маноло в Гётеборге, Сантьяго в тюрьме. Мария дель Кармен, вдова загубленного, торгует в мелочной лавке. А Тита разошлась с Маноло, живет теперь с метисом, очень серьезным человеком (я собираюсь «подружиться» с Эстеве – сом, написала она Роландо год назад), и не где-нибудь живет, а в Лиссабоне. Ну а Грасиела здесь, растерянная и прекрасная, работает секретаршей, и Беатрисита с ней, дочка Сантьяго. А что же он сам, Роландо Асуэро? Черт побери, ну и круги под глазами!
Уроженцы нашей благословенной и проклятой земли – в самом деле – народ мрачный. Ему, Роландо – почему не сказать правду? – нравятся здешние люди, улыбчивые, особенно женщины. Только бывают иногда дни и ночи, когда не очень-то они нравятся. Хочется, чтоб тебя понимали с полуслова. А приходится все растолковывать, да и слушать тоже. В постели со своей землячкой всегда лучше, и вот по какой простой причине: ежели ты в настоящую минуту (бывает же такое состояние, особенно после спешки, волнения, суматохи) не расположен к длительной беседе, ты можешь произнести или услышать всего лишь одно коротенькое словечко, и оно будет понятно, исполнено глубокого смысла, в нем светятся знакомые образы, общее прошлое и бог весть что еще. Ты не должен ничего объяснять, и тебе ничего не объясняют. И не надо душу выворачивать, плакать в жилетку. Руки знают, что делать, без слов: они достаточно красноречивы. И полуслова тоже, но только если ты понимаешь, что за ними таится. Все языки мира вмещают этот единственный в мире язык, повторяет снова и снова Роландо Асуэро, а потом опять заводит упорно и мрачно: черт побери, ну и круги под глазами.
В ИЗГНАНИИ (Вежливая просьба)
Около шести часов вечера, в пятницу, двадцать второго августа тысяча девятьсот семьдесят пятого года я сидел в квартире на улице Шелл в районе Мирафлорес города Лимы и читал, не предвидя никаких особых забот. Вдруг зазвонил внизу звонок, и чей-то голос осведомился, дома ли сеньор Марио Орландо Бенедетти. Это уже пахло дурно, посколько второе мое имя фигурирует лишь в документах и никто из друзей меня так не называет.
Я спустился, какой-то тип в гражданском предъявил удостоверение Полицейского управления и сказал, что хочет выяснить кое-что относительно моих бумаг. Поднялись наверх, тип заявил, что, согласно их сведениям, срок моей визы истек. Я показал свой паспорт с отметкой о продлении визы в положенный срок. «Тем не менее вам придется пойти со мной. Начальник хочет побеседовать с вами. Через полчаса вы вернетесь», – прибавил он. Это было неосторожно с его стороны, ибо после такого заверения я уже почти не сомневался, что меня вышлют. Полицейские всего мира говорят на одном языке.
В продолжение того недолгого времени, что мы ехали в Центральное полицейское управление, тип с упорством и наивностью, достойными худшего применения, ругал правительство, надеясь, видимо, заманить меня в ловушку и ожидая, что я пойду на приманку и тоже начну ругать перуанский переворот. Я хвалил – осмотрительно, но твердо.
В Центральном полицейском управлении после получасового ожидания меня принял инспектор. Он тоже начал с разговора о просроченной визе, и я снова показал паспорт. Тогда он заявил, что я зарабатываю в Перу деньги, а это запрещено лицам, въезжающим в страну в качестве туристов. Я отвечал, что мой случай – совершенно особый, поскольку с дозволения министерства иностранных дел и министерства труда газета «Экспресса» заключила со мной договор, каковой находится в настоящее время на рассмотрении в министерстве труда, о чем известно и в министерстве иностранных дел на самом высоком уровне. Услыхав о самом высоком уровне, инспектор несколько растерялся, однако чиновник, сидевший за соседним столом и занимавший, по всему судя, более высокий пост, сказал громко: «Не спорь с ним! Он всегда найдет подходящие доводы. Переходи сразу к сути дела». И повернулся ко мне: «Перуанское правительство желает, чтобы вы покинули страну». Я, естественно, спросил: «Можно узнать почему?» «Нет. Нам самим это неизвестно. Министр отдал приказ, мы исполняем», – «Сколько времени в моем распоряжении?» – «Если б была возможность – десять минут, но, поскольку такой возможности нет, мы не в состоянии отправить вас сейчас же, я вынужден сказать вам: уезжайте как можно скорее, через час, два». – «Могу я выбрать страну, куда поехать?» – «А куда бы вы хотели? Учтите, что дорогу мы вам оплачивать не будем». – «В Аргентине моя жизнь подвергалась опасности, меня преследовали фашистские молодчики из AAA [10]10
«Тройное А» – фашистская организация в Аргентине.
[Закрыть], на Кубе же я когда-то работал два с половиной года, там мне легче будет устроиться, так что я хотел бы знать, могу ли я выехать на Кубу?» – «Нет. Сегодня самолета на Кубу нет, а вы должны уехать немедленно». – «Ладно. Тогда скажите, какой выбор есть у меня на деле». – «Вот какой: либо мы доставим вас наземным транспортом к границе Эквадора, либо вы самолетом, вернетесь в Буэнос-Айрес».
Я стал лихорадочно соображать: перспектива примчаться ранним утром в военном грузовике на границу страны, которую я тогда совсем не знал, мне вовсе не улыбалась, и я сказал: «Поеду в Буэнос-Айрес. В Эквадоре я никогда не был». Пришлось подписать декларацию, где был вопрос о том, каким образом получаю я вознаграждение от «Экспрессе». Я отвечал, что через сберегательную кассу, и снова вынужден был упомянуть о договоре, о министерстве труда и т. д.
Вернулись ко мне в квартиру. Сначала на сборы дали мне всего четверть часа, потом час, но, пока они звонили по телефону и добивались места в самолете на Буэнос-Айрес, у меня оказалось довольно много времени; разрешили взять только один чемодан, так что многие вещи пришлось оставить.
Инспектор сообщил (теперь со мной обращались вежливее), что меня не выдворяют и не высылают, а потому в паспорте печать «выслан» не поставят. Он объяснил, что для высылки нужен правительственный декрет, а в данном случае декрета не было. Следовательно, меня всего лишь «вежливо просят выехать как можно скорее». Я спросил, что было бы, если бы я не согласился на эту вежливую просьбу. «Вам все равно пришлось бы уехать». Я сказал, что у меня на родине в таких случаях говорят: «что в лоб, что по лбу».
Я попросил разрешения позвонить кое-кому в Лиме. Не позволили. Лишили, следовательно, всякой возможности общения. Зато разрешили звонить в другие города. Тогда я позвонил брату в Монтевидео и просил передать моей жене – пусть едет в Буэнос-Айрес, там встретимся. Попытался также дозвониться двум – трем знакомым в Буэнос-Айресе, но связи не было. Я хотел, чтобы кто-нибудь встретил меня в аэропорту Эсеиса. Потом попросил, чтоб дали возможность поговорить хотя бы с хозяйкой квартиры. Разрешили, но с условием, что я скажу ей, будто сам решил вдруг покинуть Перу и потому оставляю квартиру. Я заявил, что такого говорить не стану, потому что эта дама всегда хорошо ко мне относилась. И потребовал, чтобы они сами ей позвонили. Сказали – нет.
Прошло несколько минут; инспектор спросил, что я хочу сказать хозяйке. Я отвечал: пусть мне позволят сообщить ей, что меня вынуждают уехать. В конце концов инспектор согласился. Итак, я позвонил хозяйке; было три часа ночи. Бедняжка чуть в обморок не упала. «Ах, сеньор, как это можно делать такое с вами, с таким любезным господином!» Я объяснил хозяйке, что составлю список своих вещей, остающихся в квартире, и впоследствии постараюсь сообщить, как поступить с ними.
Тут эти типы стали совсем добрыми и попросили отдать им poster [11]11
Плакат (англ.).
[Закрыть]со словами одной из моих песен, висевший на стене, а один даже просил подарить ему книгу. «А вы не боитесь, что это вас скомпрометирует?» – спросил я. «Я думаю, ничего», – отвечал он не слишком уверенно.
В ночные часы в Лиме довольно холодно, и потому двое (всего их было четверо) попросили у начальника разрешения пойти надеть джемперы. Тот разрешил. Я продолжал укладывать чемодан под бдительным надзором недремлющих стражей. И вдруг заметил, что оба стража… спят крепким сном. Пока они мирно храпели, я, сняв туфли, чтобы шаги мои по moquette [12]12
Палас (франц.).
[Закрыть]не нарушили их покой, принялся за дело. В моем распоряжении оказалось еще полтора часа, и за это время мне удалось гораздо лучше уложить свой чемодан и вволю попользоваться мусоропроводом.
Через полтора часа я надел туфли и весьма тактично потряс инспектора за плечо: «Простите, что разбудил, но уж ежели я такой нарушитель спокойствия, что меня высылают из страны, так уж будьте любезны не спать, а сторожить меня как полагается». Инспектор стал объяснять: дело в том, что они работают с самого рассвета и очень устали. Я отвечал, что понимаю, но только моей вины тут нет.
В половине пятого мы все впятером (двое других вернулись в джемперах) уселись в большой черный автомобиль и отправились в путь. Сначала заехали к хозяйке. Я отдал ей ключи от квартиры и список своих вещей. Потом поехали дальше, и тут я встревожился, признаться, по-настоящему – везли меня не обычной дорогой, а по каким-то пустырям, в полной темноте, освещаемой только лучами фар нашей машины. Ехали мы гораздо дольше, чем обычно едут в аэропорт. И, говоря откровенно, я вздохнул с облегчением, увидев вдали башню аэропорта. Выяснилось, что вылететь мне удастся только в субботу, в девять часов утра, самолетом компании «Аэроперу». К счастью, они не смогли добыть мне билет на восьмичасовой, чилийской компании «Лап».
За все это время мне ни разу не дали ни поесть, ни попить. В течение двадцати четырех часов у меня во рту не было и маковой росинки. Думаю, у стражей моих не было денег, потому что они и сами ничего не ели. Перед трапом инспектор вернул мне документы и сказал: «Вы, конечно, сердитесь на правительство, но не сердитесь на перуанцев». И пожал мне руку.
РАНЕНЫЕ И УВЕЧНЫЕ (Два пейзажа)
Грасиела вошла в спальню, сняла легкое пальто, погляделась в зеркало над туалетом и нахмурила брови. Потом она скинула блузку и юбку, растянулась на тахте. Согнула ногу, вытянула, заметила спущенную петлю. Села, сняла чулки, осмотрела, нет ли еще спущенных петель. Свернула чулки в комочек, положила на стул. Снова погляделась в зеркало и сжала виски пальцами.
Предпоследний свет еще сочился в окно. Вечер был свежий и ветреный. Грасиела подняла половинку жалюзи и выглянула во двор. Перед корпусом Б играли шестеро или семеро детей. Среди них была Беатрис, растрепанная и возбужденная, зато очень веселая. Грасиела нерешительно улыбнулась и провела рукой по волосам.
У тахты зазвонил телефон. Это был Роландо. Она снова легла, чтобы удобней было говорить.
– Погода мерзкая, а? – сказал он.
– Да нет, ничего. Я люблю ветер. Когда он дует в лицо, мне кажется, из меня что-то выметают. Ну, выметают все то, от чего я хочу избавиться.
– Что именно?
– Газет не читаешь? Не знаешь, как это называют? Вмешательство во внутренние дела другой страны.
– Республики.
– Ну, дружественной республики…
Она переложила трубку в левую руку, к левому уху, чтобы почесать за правым.
– Новости есть?
– Письмо от Сантьяго.
– Это хорошо!
– Оно какое-то странное.
– Почему?
– Там про пятна на стене и про фигуры, которые он представляет себе с детства.
– И я так делал.
– Все так делают, да?
– Да. Оригинального тут мало, но и загадочного тоже. Ты что, хочешь, чтобы он прислал тебе антиправительственную программу?
– Не говори глупостей. Просто, мне кажется, раньше он был посмелее.
– Был-то был, да ты из-за этого сидела месяц без писем.
– Нет, я узнала. Наказали их всех, вместе.
– А предлог самый простой: кто-нибудь, нарочно или нечаянно, написал лишнее. Нигде не установлено, чего нельзя писать, но это все знают.
Она не отвечала. Через несколько секунд он заговорил снова:
– Как Беатрис?
– Играет во дворе с ребятами.
– Это хорошо. Очень полезно. Хоть повеселится.
– Да уж побольше моего.
– Ты не права. Конечно, жизненную силу она унаследовала от Сантьяго, но и от тебя тоже.
– Именно что от Сантьяго.
– И от тебя. Просто теперь ты сдала.
– Может, и так. Понимаешь, я не вижу выхода. И потом, работа очень нудная.
– Найдешь другую, поинтересней. А пока потерпи.
– Ты еще скажи, что мне повезло.
– Вот именно, повезло.
– Скажи, что не всем высланным досталась такая работа. Шесть часов в день, два выходных.
– Не всем высланным досталась такая работа и так далее. Сказать, что ты ее заслужила, потому что лучшей секретарши и не найти?
– Скажи. Только от этого я и устаю. Было бы занятней, если бы я иногда ошибалась.
– Навряд ли. Может, ты и устаешь от хорошей работы, но шефы чаще устают от плохой.
Она опять не ответила, и он снова заговорил:
– Могу я сделать тебе одно предложение?
– Можешь, только честное.
– Скажем так, получестное.
– Значит, и можешь наполовину. Ладно, говори.
– Хочешь, пойдем в кино?
– Нет, Роландо.
– Картина хорошая.
– Верю. Вкус у тебя есть. В чем, в чем, а в кино ты разбираешься.
– И потом, это хоть немного смело бы с тебя паутину.
– Я на свою паутину не жалуюсь.
– Тем хуже. Повторяю предложение. Хочешь, пойдем в кино?
– Нет, Роландо. Спасибо тебе большое. Я совсем умоталась. Если бы не Беатрис, честное слово, легла бы без ужина.
– Опять нехорошо. Самое худшее – сдаться под тяжестью будней.
Привычным жестом секретарши Грасиела пристроила трубку между плечом и щекой. Теперь, когда руки были свободны, она могла разглядывать ногти и подправлять их пилкой.
– Роландо.
– Да?
– Бывало с тобой так: ты сидишь в купе, другой пассажир – напротив, и оба вы смотрите в окошко?
– Бывало, наверное. Точно не припомню. А что?
– Ты не замечал такой штуки: если вы начнете описывать пейзаж, у тебя он будет один, у него – немного другой?
– Знаешь, не замечал. Очень может быть.
– А я всегда замечаю. Я с детства люблю смотреть в окошко, когда сижу в вагоне. Очень люблю. Я никогда не читаю в дороге. И сейчас, если я еду, не лечу, мне читать не хочется. Меня завораживает бегущий пейзаж. Когда он бежит ко мне, я начинаю надеяться, что ли…
– А если ты сидишь на другом месте?
– Он убегает, тает, умирает. А я грущу.
– Как же ты сейчас сидишь?
– Не смейся надо мной. Я это ясно увидела вчера, когда читала письмо. Сантьяго в тюрьме, а пишет так, словно пейзаж бежит навстречу, а я, в сущности, на воле, но мне часто кажется, что пейзаж удаляется, исчезает.
– Что ж, неплохо. Конечно, как поэтический образ.
– Какие там образы! Это даже не проза. Я чувствую так, и все.
– Ну вот что, сейчас я говорю серьезно. Не нравятся мне такие чувства. Да, каждый только сам может решить свои проблемы, но иногда ему помогает, просто помогает, кто-нибудь близкий. Эту относительную помощь я тебе и предлагаю, если хочешь. Но главное, загляни себе в душу.
– Заглянуть в душу? Что ж, это можно. Только я не уверена, что она мне понравится.
ДОН РАФАЭЛЬ (Странная вина)
Сантьяго жаловался Грасиеле, что я ему давно не пишу. Это правда. Но что я могу ему сказать? Что он сам на это шел? Он и так знает. Что я себя все же корю, почему не поговорил с ним толком, когда еще было время говорить, а не проглатывать слова, и не убедил остановиться? Этого он, быть может, не знает, но, уж наверное, догадывается. Догадывается он и о том, что, сколько бы мы ни спорили, он все равно не свернул бы с пути, который выбрал. Неужели писать, что ночью, просыпаясь, я не могу уйти от ощущения, чувства, предчувствия: может быть, в этот самый час его пытают, или он приходит в себя после пытки, или готовится к ней, или проклинает кого-то? Наверное, ему не надо об этом думать. Хватит с него своих мучений, одиночества, скорби. Когда страдаешь сам, незачем представлять, как страдает другой. Но я представляю себе иногда, что ему вгоняют иглу в причинное место, и тут же, сразу, в этот самый миг меня пронзает боль, настоящая, не мнимая. А если я представляю, как его пытают водой, я задыхаюсь. Почему? Старая история, точнее, старый симптом: тот, кто пережил бойню, стыдится, что не погиб. Может быть, по какой-то важной причине (глупые я в расчет не принимаю) тот, кто избежал пытки, тоже стыдится. А может, мне просто не о чем писать. Некоторых вещей в тюрьму не напишешь, тем более политическому. Что до других дел, я сам не хочу упоминать их. За вычетом того и другого остается какая-то чушь. Хочет ли он, чтобы я писал ему глупости? Будь все иначе, я бы написал, а лучше – сказал одну штуку, но теперь – не стоит. Я имею в виду состояние Грасиелы. Ей нехорошо. Она все больше падает духом, все больше блекнет. Раньше она была красивой, милой, живой. И, самое худшее, я замечаю вот что: ей плохо потому, что она отдаляется от Сантьяго. Почему? Кто ее знает… Она восхищается им, в этом я уверен. За политику она на него не сердится, она сама верит (или верила) в это. Быть может, женщина хранит любовь только тогда, когда мужчина не просто существует, а живет вместе с ней? Быть может, Улисс становится теперь домоседом, а Пенелопа уже не хочет ткать и распускать ткань? Кто их знает… Но если я не смею поговорить с ней, хотя мы видимся почти каждый день, как же я напишу об этом ему в своих несчастных письмах? Конечно, я мог бы рассказать о школе, какие вопросы задают мне дети. Или о том, что иногда я думаю, не написать ли снова… Что? Роман? Нет, хватит с меня одной неудачи. Скорее уж сборник рассказов. Не для печати, для себя. В мои годы не очень важно, выйдет ли книга. Просто мне кажется, что это бы меня подбодрило. Вот уже пятнадцать лет, как я не пишу. Во всяком случае, не пишу «художественной прозы». Мне и не хотелось. А теперь – хочется. Что это? Знак? Симптом? Как его толковать? О чем он свидетельствует?


![Книга Индийские волшебные повести [М. Амман : Сад и весна Н. Лахори : Роза Бакавали Х. А. Ашк : Цветник Чина ] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-indiyskie-volshebnye-povesti-m.-amman-sad-i-vesna-n.-lahori-roza-bakavali-h.-a.-ashk-cvetnik-china--272100.jpg)





