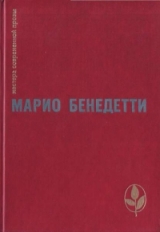
Текст книги "Весна с отколотым углом"
Автор книги: Марио Бенедетти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
РАНЕНЫЕ И УВЕЧНЫЕ (Очень страшно)
Грасиела поставила точку в конце отчета за второе полугодие и, прежде чем вынуть из электрической машинки первый экземпляр и семь копий, глубоко вздохнула. В комнате уже никого не было. Она проработала три часа сверхурочных. Не для денег, просто шеф очень спешил, а человек он хороший, и завтра ему сдавать отчет за второе полугодие.
Она подколола последнюю страничку к тридцати трем прежним. Завтра, с утра пораньше, надо будет разложить восемь экземпляров по папкам. Сейчас она слишком устала. Она сложила работу в нижний ящик, закрыла машинку пластиковым чехлом и посмотрела на свои испачканные руки.
Потом она зашла в ванную, как следует отмыла руки, причесалась, провела помадой по уже подмазанным губам (прежний слой поблек и потрескался) и оглядела себя в зеркале, не улыбнувшись, только подняла брови, словно спрашивая себя о чем-то, а может, убеждаясь, что очень устала. Сжала на секунду свеженамазанные губы, вернулась к столу, вынула сумку из верхнего ящика, сняла с вешалки плащ, надела его, открыла дверь, вышла в коридор. Прежде чем погасить свет и повернуть ключ, окинула комнату взглядом. Все было в порядке.
Когда открылась дверца лифта, она удивилась. Она никого не думала встретить, а там была Селия, которая тоже удивилась.
– Сотню лет тебя не видела! Что ты тут делаешь так поздно?
– Кончала отчет за второе полугодие. Очень длинный.
– Слишком ты шефу угождаешь. Смотри…
– Не беспокойся, он не в моем вкусе! А человек он хороший. Да он меня и не просил тут сидеть. Его вообще сегодня не было.
– Да ладно, не оправдывайся! Я в шутку.
Они вышли на улицу. Стоял туман, водители злились.
– Хочешь, чаю выпьем?
– Выпить хочу, только не чаю. Очень полезно, когда отстукаешь тридцать четыре страницы, восемь экземпляров.
– Вот и молодец. Пьем, гуляем!
Они уселись у окна. Молодой элегантный человек, сидевший за соседним столиком, окинул их внимательным взглядом.
– Прекрасно, – шепотом сказала Селия. – На нас еще смотрят.
– Тебя это радует или огорчает?
– Сама не знаю. Как когда. Если я в хорошем настроении и, что греха таить, хорошо выгляжу…
– Нет, а сейчас?
– Огорчает.
– И то слава богу.
Официант поставил на столик два бокала.
– За твое счастье!
– За счастье и свободу!
– Неплохой тост.
– Кажется, это лозунг Артигаса [13]13
Артигас, Хосе Хервасио (1764–1850) – деятель уругвайского национального освобождения.
[Закрыть].
– Правда? Откуда ты знаешь?
– Прожила бы ты столько с Сантьяго, тоже бы знала. Он на Артигасе просто помешался.
Селия отхлебнула глоточек.
– Какие у тебя новости?
– Да как всегда. Пишет часто, если его за что-нибудь не накажут. Держится хорошо…
– А могут его скоро выпустить?
– Могут-то могут, да навряд ли…
Улица в этот час была не слишком привлекательной, но женщины молча глядели на машины, на переполненные автобусы, на старушек с собачками, на многоречивых нищих, на оборванных детей, на детей приличных и на полицейских. Селия первая оторвалась от этого привычного зрелища.
– А ты? Ты как живешь? Устала от разлуки? Не хочешь, не отвечай.
– Я бы хотела тебе ответить, но я и сама не знаю.
– Не знаешь, как ты живешь?
– Ничего не знаю, совсем запуталась.
– Понятно.
– Может, и понятно, только на второй твой вопрос я ответить не могу. Насчет разлуки.
– А что такое?
– Ну, я терплю, и все. Притерпелась, что ли? Это странно.
– Я тебя не понимаю, Грасиела.
– Ты знаешь, как мы хорошо жили. Мы оба верили в одно и то же, хотя он в тюрьме, а я – вот здесь… Когда его увели, я думала, не вынесу. Мы не только любили, мы были друзьями. Ты представить себе не можешь, как я сперва мучалась.
– А сейчас?
– Не так все просто. Я его люблю. Как не любить, десять лет прожили вместе. Я очень страдаю, что он в тюрьме. И прекрасно понимаю, как плохо без него Беатрис.
– Ладно, кладем это на одну чашу весов. Что же на другой?
– Понимаешь, он от разлуки стал нежнее, а я – черствее. Я никому не говорю, даже самой себе, но тебе скажу: он мне все меньше нужен.
– Грасиела!..
– Знаю, знаю, это нечестно. Очень хорошо знаю. Не такая я дура.
– Грасиела!
– Но обманывать себя не могу. Я очень люблю его по-дружески, не по-женски. Он пишет, ему нужно мое тело, а я вот не тоскую по этим вещам. И казнюсь, понимаешь? Сама не знаю, что со мной творится.
– Причина должна быть.
– А, ты думаешь, есть кто-то другой! Нет, я одна.
– Точно?
– Ну, пока что одна…
– Почему ты прибавила «пока что»?
– Потому что «другой» может и появиться. Я не тоскую по Сантьяго, но я не деревяшка, Селия. Четыре с лишним года я ни с кем не сплю. Многовато, а?
– Не знаю…
– Откуда тебе знать, ты – с Педро. У тебя, слава богу, все в порядке. А если бы ты четыре года не видела его, не обнимала и он бы тебя не видел, не обнимал!
– Не знаю и знать не хочу.
– Правильно. Зачем тебе знать то, что тебя не касается? А я вот знаю. Ничего не поделаешь, так уж случилось. Поверь, приятного тут мало. Это и тяжело, и горько.
– Может, признаться ему, понемногу, из письма в письмо?
– Я и сама об этом думала. Нет, не смогу, очень страшно.
– Страшно? Почему?
– Боюсь, что он рухнет. Или я рухну. Не знаю.
ВЗАПЕРТИ (Как дополнить самого себя)
Когда я получаю письмо от тебя, я словно открываю окно. Ты столько рассказываешь о себе, о Беатрис, о Старике, о работе, о городе. Я вижу вашу жизнь, час за часом, и в любой момент могу представить: сейчас Грасиела печатает на машинке, а сейчас Старик ждет звонка, а сейчас Беатрис завтракает и сердится, потому что опаздывает в школу. Когда ты приговорен к неподвижности, очень хорошо шевелить не столько даже мозгами, сколько воображением. Можно вместить в настоящее все, что пожелаешь, или, очертя голову, ринуться в будущее, или податься в прошлое, но этого лучше не делать, потому что там – воспоминания, всякие: хорошие, средние и мерзкие. Там – любовь, то есть ты, и крепкая дружба, и низкое предательство. Там – все, чего я не сделал, хотя сделать мог, и все, что я сделал, хотя мог не делать. Там перекресток, где я выбрал неверную дорогу. Там начинается другой фильм – о том, что было бы, если бы я выбрал верную. Посмотрев ролика три, я выключаю проектор и думаю, что выбрал не так уж плохо. Может быть, окажись я на том перекрестке, я бы снова пошел туда же. Не совсем так же, конечно, но туда. Не так простодушно, не так спокойно, не так уверенно, но в том же направлении. Когда из жизни выпадает столько лет, это очень тяжело, а все-таки, в определенном смысле, это неплохо. Перед самой тюрьмой и даже раньше я совсем замотался, спешил, жил в постоянном напряжении, мне вечно приходилось что-то решать, у меня не хватало ни духу, ни времени, чтобы поразмыслить, подумать как следует, что же мы делаем, увидеть себя и других. Теперь у меня время есть, куда уж больше, и бессонных ночей хватает, и страшных снов, и призраков, всегда одних и тех же. Естественно, хотя и невесело, думать о том, зачем мне это время, зачем запоздалые, неуместные, бесполезные размышления. Однако зачем-то они нужны. Пустое время хорошо тем, что ты можешь обрести зрелость, понять свои пределы, слабости, силу, лучше увидеть правду о себе и потому, не ставя невыполнимых, мнимых целей, укреплять дух, упражняться в терпении, чтобы успешно совершить то, что когда-то выпадет сделать. В этих более чем странных условиях так привыкаешь во все вникать, что я решусь тебе признаться: хотя я и не могу составить пятилетний план кошмаров, я вполне способен по плану, по главам видеть сны наяву. Так я разбираю дотошней дотошного, что я хотел, любил, делал раньше, что хочу и люблю теперь, что буду делать. Ведь рано или поздно я снова смогу Что-то делать, как ты думаешь? Когда-нибудь я ведь выйду отсюда и снова стану жить в миру. Я стану другим, наверное – стану лучше, но я не возненавижу того, каким я был, скорее – я его дополню. Да, когда я получаю письмо от тебя, я словно открываю окно, но тогда мне очень хочется открыть и другие окна, хуже того – как это ни глупо, мне хочется открыть дверь. Но меня приговорили смотреть на внутреннюю сторону этой двери, на ее жестокую, неумолимую, крепкую спину, хотя добрый довод и здравый разум все же будут покрепче. Твое письмо – как окно, однако дверь еще заперта. Наверное, я слишком много раз повторил это слово – «дверь», но ты пойми, здесь оно – как наваждение. Не поверишь, оно для нас хуже, чем слово «решетка». Решетки – тут, они вполне реальны, мы их понимаем, мы привыкли к их дурацкой силе. Но они не станут ничем другим. Открытых решеток нет. Зато дверь… какой только она не бывает! Когда она закрыта (а она закрыта всегда) – это неволя, насилие, одиночество, злость. Если же она откроется (не для прогулки, и не для работы, и не для дезинфекции – это она все равно закрыта, – а туда, в мир), мы снова обретем настоящую жизнь, любимых людей, улицы, запахи, звуки, мы будем вкушать, видеть, ощущать свободу. Скажем, я обрету тебя, твои руки, губы, волосы – но стоит ли тщетно взламывать замок? Как бы то ни было, слово «дверь» тут в большом ходу, оно больше всех слов, которые ждут нас за дверью, потому что мы знаем: чтобы их обрести, чтобы снова сказать «жена», «сын», «друг», «улица», «кровать», «кофе», «книги», «площадь», «стадион», «пляж», «порт», «телефон», надо преодолеть это, главное слово. А дверь повернулась к нам железной, жестокой, непрошибаемой спиной, ничего не обещая, не подавая надежды, словно она замурована раз и навсегда. Однако мы не сдаемся, мы боремся с ней, пишем письма, думая одновременно и о цензоре, и об адресате, или измышляем письма посмелее, привычно одергивая самих себя, или жуем нескончаемые монологи, как этот, к примеру, который, быть может, не дойдет ни до бумаги, ни до конца. Самое главное, самое лучшее в этой борьбе – то, что мы даем себе обещания, мы надеемся (не на какие-то мнимые триумфы, а на те простые, строгие вещи, которые вполне возможны), мы представляем, как дверь открывают перед нами. Иногда, довольно редко, мы играем в карты или в шахматы. А вот в будущее мы играем часто, и в этой азартной игре порой плутуем или обдумываем матовую комбинацию, которую приберегаем для особых случаев, скажем для матча с Капабланкой или с Алехиным, хотя и не с Карповым, ведь он как – никак существует на самом деле. Кроме того, мы говорим о музыке и музыкантах, пока меня или моего товарища не уведут с музыкой кое-куда. Но и один, и с кем угодно я могу вспоминать, например, каких знаменитостей я видел. Когда уж совсем одиноко, я рассказываю себе, что видел в Солисе самого Шевалье, совсем старичком, но еще в форме, и он был так мил, что притворялся, будто сочиняет у нас на глазах свои доисторические шутки. Еще я видел Луи Армстронга и могу хоть сейчас услышать его задушевный, хриплый голос. Видел я и Шарля Тренэ в каком-то испанском заведении на улице Сориано. Все сидели на стульях, как в столовой, а мы, метисы, сидели на полу, а сам француз, довольно жеманный, но шустрый, пел нам песни, которые – я много позже узнал – называются «La mer» и «Bonsoir, jolie madame» [14]14
«Море», «Добрый вечер, прелестная дама» (франц.).
[Закрыть]. Видел я и Мариан Андерсон, не помню, в Содре или в Солисе, но помню прекрасно, как она, такая огромная и милая, стоит на сцене, словно бы наперекор трагической гибели своей расы. А много позже я видел Роб-Грийе, который очень связно объяснил, что в «Постороннем», у Камю, употребление прошедшего времени важнее, чем сюжет; и Мерседес Coca, которая пела одна, почти тайно, у Житловского на улице Дурасно; и Роа Бастоса (вот он и впрямь скромен), который говорил постыдно малочисленной публике, что Парагвай живет, как жил, в нулевом году; и дона Эсекиэля Мартинеса Эстраду [15]15
Мартинес Эстрада, Эсекиэль (1896–1964) – аргентинский писатель и поэт.
[Закрыть], лекцию он читал за несколько месяцев до смерти, о чем – не помню, потому что все время думал, какое у него желтое, изможденное лицо, только глаза острые и живые; и Нефтали Рикардо Рейеса [16]16
Рейес Басоальто, Нефтали Рикардо – настоящее имя знаменитого чилийского поэта Пабло Неруды (1904 – 197).
[Закрыть], который тонко, остроумно, поэтично, чуть рисуясь, рассказывал – не распевал, как псалом, – свои воспоминания об Исла-Негра [17]17
Исла-Негра – место, где находился загородный дом Неруды.
[Закрыть]; наконец, я видел человека с одного большого острова, затерявшись среди народа, который просто кипел и дрожал на этом длинном, ярком, неповторимом представлении, приятном отнюдь не для всех. Одних я видел в юности, других – в молодости, третьих – уже взрослым, и все эти воспоминания – мои, так что, когда занавес поднимается, на сцене очень интересно, и я аплодирую самому себе и кричу: «Браво! Бис!»
В ИЗГНАНИИ (Человек в подъезде)
С доктором Силесом Суасо [18]18
Силес Суасо, Эрнан (р. 1914) – боливийский государственный и политический деятель.
[Закрыть]я познакомился в Монтевидео лет эдак двадцать назад, он жил тогда в эмиграции (в те времена говорили не «эмигрант», а «высланный») и приехал в Уругвай после одного из многочисленных военных переворотов, что издавна пятнают историю Боливии. Я еще мало печатался, работал бухгалтером в большой компании по продаже недвижимости.
Как-то днем зазвонил на моем столе телефон, и низкий голос произнес: «Говорит Силес Суасо». Сперва я подумал, что кто-то меня разыгрывает, но все равно не смог сразу ответить – видимо, надеялся все же, а вдруг правда Силес Суасо? Итак, я пребывал в шоковом состоянии, однако Силес Суасо вмиг рассеял мои сомнения – пригласил зайти к нему в отель «Ногаро». Я ожидал, что разговор у нас пойдет о Боливии, о вояках, пришедших там к власти, но тем не менее недоумевал, не понимая, по каким соображениям выбрал Суасо именно меня. Однако все оказалось по-другому.
Несколькими годами раньше я опубликовал эссе о чувстве вины в произведениях Марселя Пруста. И вот Силес Суасо пожелал побеседовать со мной о Прусте и вообще о литературе. Пламенный борец за свободу, суровый человек, политический деятель, о гражданском мужестве которого ходили легенды, оказался утонченным интеллигентом и страстным любителем современной литературы.
Мы говорили о Прусте и пили чай с тостами. Не хватало только бисквитных пирожных. О политике речь заходила, лишь когда я касался этой темы, он же только отвечал на мои вопросы и предпочитал беседовать о литературе, причем чрезвычайно умно, обнаруживая тонкое понимание и глубокую проницательность.
После этой встречи мы не раз пили вместе чай в отеле «Ногаро», и я сохранил о наших беседах самые теплые и приятные воспоминания. Через некоторое время Суасо покинул Монтевидео, вернулся на свою горячо любимую родину и вновь погрузился в политическую жизнь с ее борьбой и превратностями.
Много лет не видел я Суасо, но постоянно следил за его неустанной борьбой, легальной, когда было возможно, а когда невозможно – подпольной. Однажды в Буэнос-Айресе (это было примерно в тысяча девятьсот семьдесят четвертом году) поздно вечером бежал я под проливным дождем, если не ошибаюсь, по улице Парагвай, ища, куда бы укрыться. Пробегая мимо какого-то подъезда, заметил я человека, тоже спасавшегося от ливня; лицо его показалось мне знакомым.
Я оглянулся. В подъезде стоял не кто иной, как доктор Силес. Он тоже узнал меня. «Вот как, и вы, значит, оказались в изгнании». – «Да, доктор. Когда мы беседовали с вами в Монтевидео, трудно было представить себе такое, не правда ли?» – «Действительно, трудно было представить». В полутьме я не мог видеть его усмешки, но живо вообразил ее. «Ну а в который же раз вы оказались в изгнании?» – «В третий», – отвечал я, несколько смущенный. «Тогда не огорчайтесь. Я – в четырнадцатый».
В тот вечер мы не говорили о Прусте.
БЕАТРИС (Эта страна)
Эта страна не моя, но она мне очень нравится. Я не знаю, больше она мне нравится, чем моя страна, или меньше. Когда я приехала, я была маленькая, и поэтому я не помню. Одна разница такая: у нас там кони, а тут лошади. Но все они умеют ржать. А коровы мычат, а лягушки квакают.
Эта страна больше, чем моя, потому что моя страна очень маленькая. Тут, в этой стране, живут дедушка Рафаэль и Грасиела, моя мама. Очень приятно жить в стране, где много миллионов людей. Когда Грасиела водит меня в центр, там очень много народу. Там столько народу, что, мне кажется, я уже видела все миллионы, которые тут живут.
По воскресеньям на улицах народу мало, и я спрашиваю, куда делись миллионы, которые я видела в пятницу. Дедушка Рафаэль говорит, что по воскресеньям люди сидят дома и отдыхают. «Отдыхают» значит «спят».
В этой стране очень много спят. Особенно по воскресеньям, когда спят все миллионы. Если каждый человек храпит девять раз в час (Грасиела храпит четырнадцать раз), каждый миллион храпит девять миллионов раз в час. Это значит, тут царит храпение.
Когда я сплю, я иногда вижу сны. Почти всегда я вижу эту страну, но иногда я вижу свою. Грасиела говорит, этого не может быть, потому что я не могу ее помнить. Но когда я сплю, я помню, хотя Грасиела говорит, что я выдумываю. А я не выдумываю.
Тогда я вижу во сне, как папа ведет меня за руку в Вилья-Долорес – это зоопарк. Он покупает мне бананы, чтобы я покормила обезьян, только это другие обезьяны, не здешние, потому что здешних я хорошо знаю, и их жен, и детей. Во сне я вижу обезьян из Вилья-Долорес, а папа говорит, смотри, какие прутья, в такой же клетке живу и я. Потом я просыпаюсь в этой стране и сильно плачу, а Грасиела подходит и говорит: не плачь, это сон.
Мне очень жаль, что тут столько миллионов, а папы нет.
РАНЕНЫЕ И УВЕЧНЫЕ (Сны наяву)
– Вот почему я не хочу, чтобы ты ходила одна.
– А что я такого сделала?
– Не притворяйся!
– Да что я сделала?
– Собиралась перейти на красный свет. – Так ведь машин не было.
– Были, Беатрис. – Очень далеко.
– Теперь пойдем.
Они проходят мимо универсама. Потом – мимо красильной мастерской.
– Грасиела!
– Что?
– Честное слово, я буду переходить только на зеленый свет.
– Ты уже обещала на той неделе.
– А теперь я правда буду. Ты меня простишь?
– Да разве в этом дело? Ты что, не понимаешь? Если идти на красный свет, тебя может переехать машина.
– Может.
– Что же я буду тогда делать? Что я напишу папе? Об этом ты подумала?
– Никто меня не переедет. Не плачь. Не плачь, пожалуйста! Я буду всегда переходить на зеленый. Грасиела! Мама! Не плачь!
– Да я не плачу, дурочка! Идем, идем.
– Еще рано. До звонка двадцать минут. Солнце такое хорошее. И я хочу побыть с тобой.
– Вот хитрюга!
Грасиела улыбнулась и немного успокоилась.
– Ты меня простила?
– Да.
– Ты пойдешь сегодня на службу?
– Нет.
– У тебя каникулы?
– Я много работала на той неделе, и мне разрешили сегодня отдохнуть.
– А что ты будешь делать? Пойдешь в кино?
– Наверное, нет. Я лучше пойду домой.
– А ты за мной придешь? Или мне одной идти? – Хотела бы я на тебя положиться…
– Положись, мама. Ничего со мной не будет. Правда. Беатрис не ждет ответа. Она целует скорее воздух, чем Грасиелу, и входит в школу. Грасиела стоит и смотрит ей вслед. Потом сжимает губы и уходит.
Идет она медленно, помахивая сумкой, иногда растерянно останавливается. Дойдя до проспекта, окидывает взглядом цепочку высоких домов. Те, кто собрался переходить, тут же толкают ее, задевают, что-то говорят, и тогда она тоже ступает на мостовую. Она еще не достигла другого тротуара, когда загорелся красный свет, и грузовик круто берет в сторону, чтобы разминуться с ней.
Теперь она идет по пустынной улице, где много мусорных ящиков, переполненных и вонючих. Она подходит к одному из них и с интересом смотрит. Тянется к нему, отдергивает руку.
Она минует два, три, пять, десять кварталов. Перед другим проспектом, на углу, стоит нищенка. Рядом спят двое очень маленьких детей. Когда Грасиела к ним подходит, нищенка начинает канючить.
– Почему вы просите милостыню?
Нищенка удивленно смотрит на нее. Она привыкла к подачкам, к отказам, к равнодушию. К беседам она не привыкла.
– Что?
– Я спрашиваю, почему вы просите.
– Кушать надо, сеньора. Подайте, Христа ради!
– А работать вы не можете?
– Нет, сеньора. Подайте, Христа ради!
– Не можете или не хотите?
– Не могу, сеньора.
– Почему?
– Работы нет. Подайте, ради Христа!
– Оставьте вы Христа в покое! Неужели трудно понять, что ему до вас нет дела?
– Не говорите так, сеньора. Нехорошо так говорить!
– Вот, возьмите.
– Спасибо, сеньора. Дай вам бог.
Теперь она идет уверенней и быстрее. Удивленная нищенка остается позади. Ребенок заплакал. Грасиела оборачивается, смотрит на всех троих, потом идет дальше.
Кварталах в двух от своего дома она различает Роландо. Он стоит, прислонившись к двери. Пройдя еще квартал, она машет ему рукой. Он ее, кажется, не видит. Она машет еще, и тогда он машет в ответ и движется ей навстречу.
– Откуда ты знал, что я иду домой?
– Очень просто. Я позвонил тебе на службу, и мне сказали, что тебя нет.
– Я чуть не пошла в кино.
– Да, я об этом подумал. Но погода такая хорошая, навряд ли ты засела бы в четырех стенах. Вот я и пошел сюда. Как видишь, угадал.
Он целует ее в обе щеки. Она шарит в сумке, находит ключ, открывает дверь.
– Заходи. Садись. Хочешь выпить?
– Нет, спасибо.
Грасиела раздвигает жалюзи, снимает плащ. Роландо пытливо на нее смотрит.
– Ты плакала?
– Что, заметно?
– Вид такой, будто ты попала в ливень.
– Чего там, мелкий дождик!
– А что случилось?
– Ерунда. Я зря рассердилась на нищенку, не зря – на Беатрис.
– На Беатрис? Она была такой примерной.
– Ну, это как сказать! Она меня всегда переспорит.
– Что же случилось?
– Да так, глупость. Она неосторожно переходит улицу. А я пугаюсь.
– И все?
Роландо протягивает ей сигареты, она качает головой. Тогда он закуривает сам. Выпускает кольцо дыма, смотрит на нее.
– Когда же ты решишься?
– На что?
– На то, чтобы признаться самой себе в том, в чем ты не признаешься.
– Не начинай все это снова, Роландо. Терпеть не могу наставительного тона.
– Я давно тебя знаю, Грасиела. Когда мы познакомились, ты еще и не видела Сантьяго.
– Это правда.
– Поэтому я понимаю, что тебе худо.
– Да, худо.
– И будет худо, пока не признаешься.
– Может быть. Но это трудно, жестоко.
– Знаю.
– Это касается Сантьяго.
– Вот как!..
– А главное, меня. Да нет, не так все сложно. Скорей жестоко. Не пойму, что творится, Роландо. Очень страшно это признать. Понимаешь, Сантьяго мне не нужен.
– С каких же пор?
– Не спрашивай, не знаю. Как нелепо!
– Рано еще оценивать.
– Нет, нелепо. Он мне ничего не сделал. Только попал в тюрьму. Как ты считаешь, можно причинить большее зло? Ну, он мне его и причинил. Сел в тюрьму. Оставил меня.
– Он тебя не оставил, Грасиела. Его увели.
– Знаю. Вот я и говорю, как нелепо. Знаю, что увели, а чувствую, что оставил.
– И обвиняешь его?
– Да нет, за что? Он хорошо держался, даже слишком, вынес пытки, устоял, никого не выдал. Куда лучше?
– А все-таки…
– А все-таки меня он оставил. Здесь, без него, у меня хватило духу пересмотреть нашу жизнь.
– Прекрасную, надо сказать.
– Да, прекрасную.
– Так что же?
– Теперь она не так прекрасна. Он, как и раньше, пишет мне нежные письма – пылкие, влюбленные письма, – но я их читаю словно они не ко мне. Можешь ты объяснить, что случилось? Может быть, в тюрьме он стал другим? Может быть, я стала другой в эмиграции?
– Все бывает. А кроме того, время может и обогатить, и улучшить человека.
– Я не лучше и не богаче. Я суше и беднее. Мне бы не хотелось еще больше беднеть и сохнуть душой.
– Грасиела, ты и сейчас согласна с тем, что он делал?
– Конечно. Ведь и я делала то же самое. Только он в тюрьме, а я – живу здесь.
– Ты упрекаешь его за уступки?
– С ума сошел! Он делал то, что надо. Как и я. В этом мы вместе, и тогда, и теперь. Изменилось другое. Не политическое, личное, понимаешь? Уж это-то мне ясно. Только не знаю, в чем дело, оттого и горюю. Если бы он причинил зло мне или хоть Кому-нибудь… Так нет же. Он очень хороший человек. Верный муж, верный друг, верный товарищ. Я была в него очень влюблена.
– А он?
– И он тоже. Он и сейчас меня любит. Это я не в себе.
– Грасиела, ты еще молодая. Ты красивая, умная, иногда – добрая. Наверное, тебе недостает живого общения. Тебе не на кого расходовать чувства.
– Ой, как сложно!
– Этого письма не дадут, особенно – подцензурные.
– Может быть…
– Разреши задать тебе нескромный вопрос?
– Задавай. А я могу не ответить.
– Идет.
– Ну спрашивай.
– А тебе не грезятся другие мужчины?
– Ты о чем, о любовных грезах?
– Да.
– Во сне или наяву?
– И наяву, и во сне.
– Ночью мне никто не снится.
– А днем?
– Днем? Смеяться не будешь? Днем мне грезишься ты.


![Книга Индийские волшебные повести [М. Амман : Сад и весна Н. Лахори : Роза Бакавали Х. А. Ашк : Цветник Чина ] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-indiyskie-volshebnye-povesti-m.-amman-sad-i-vesna-n.-lahori-roza-bakavali-h.-a.-ashk-cvetnik-china--272100.jpg)





