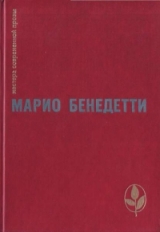
Текст книги "Весна с отколотым углом"
Автор книги: Марио Бенедетти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Марио Бенедетти
Весна с отколотым углом
Памяти моего отца, который был химиком и хорошим человеком
Разбито зеркало, оборван календарь.
Рауль Гонсалес Туньон
ВЗАПЕРТИ (Сегодня ночью я один)
Сегодня ночью я один. Друг мой (когда-нибудь ты узнаешь его имя) лежит в больнице. Человек он неплохой, но иногда хорошо побыть одному. Думать легче. Не надо представлять, что поставил ширму, чтобы думать о тебе. Ты скажешь, четыре года, пять месяцев, четырнадцать дней – срок, вполне достаточный для размышлений. Так и есть. Но этого мало, чтобы думать о тебе. Спешу тебе написать, пока светит луна. Она успокаивает меня, словно бальзам. Кроме того? она, хоть и слабо, освещает лист бумаги – у нас в это время не горит свет. Первые два года не было и луны, так что я не жалуюсь. Еще Эзоп сказал: «Кому-нибудь всегда хуже». А я скажу: «И намного».
Честное слово, смешно. Когда ты думаешь на воле, что – по той ли, иной ли причине – проведешь несколько лет взаперти, это кажется невыносимым, просто немыслимым. Однако, сама видишь, вынести это можно. Во всяком случае, я вынес. Конечно, бывало, впадал в отчаяние, не говоря уж о том, что я страдал физически. Но сейчас я веду речь о чистом, духовном отчаянии, когда начинаешь подсчитывать и получаешь в итоге сегодняшний день, помноженный на тысячи. И все-таки телу легче приспособиться, чем душе. Тело первым привыкает к новой разметке дня, к новым позам и ритмам, к новой усталости, к новому отдыху, к новым делам и новому досугу. Если ты не один, тебе кажется, что другой – наглый пришелец; но мало – помалу он становится собеседником. Нынешний – восьмой по счету. Надеюсь, я со всеми вел себя сносно. Самое трудное, когда отчаяние наступает у вас в разное время и ты заражаешь его или он – тебя. Бывает и так, что твой напарник ни за что не хочет сделать шаг навстречу, вы спорите, ссоритесь. Тут заключение помогает мало, скорее, оно ожесточает, мы оскорбляем друг друга, иногда – непоправимо, а это тем тяжелее, что жить вместе придется, никуда не денешься. Если же дошло до того, что мы перестаем разговаривать, становится особенно плохо, хуже одиночества. К счастью, за всю мою здешнюю жизнь был только один такой случай, да и то недолго. Мы так извелись от двухголосого молчания, что однажды взглянули друг на друга и враз заговорили. Потом все шло легко.
Месяца два я ничего от тебя не получал. Я не спрашиваю, в чем дело; я и сам знаю. Знаю, что есть, чего нет. Говорят, что через неделю все снова наладится. Скорей бы. Ты себе не представляешь, как важно для каждого из нас получить весточку. Когда нас выводят на прогулку, сразу становится известно, кто получил письмо, кто не получил. Первые сияют, хотя иногда пытаются скрыть свои чувства из жалости к другим. Эти недели, понятно, мы ходим как в воду опущенные, и жизнь становится еще трудней. Не отвечаю ни на один из твоих вопросов, потому что не знаю, о чем ты спрашиваешь. Но сам спрошу – не о том, что ты и сама знаешь (кстати, не хотел бы тебя искушать, чтобы ты, в шутку или, не дай бог, всерьез, не ответила: «Уже нет»). Спрошу я тебя о Старике. Он мне давно не пишет. Понять не могу, с чего бы не доходить его письмам. Как бы то ни было, их нет, не знаю уж почему. Иногда я перечитываю в уме, что ему писал, и не нахожу ничего обидного. Часто ли ты его видишь? И еще, как учится Беатрис? В ее последнем письмеце что-то напутано с датой. Удивительно, а? Как я ни притерпелся, ни душа, ни тело не привыкают жить без тебя. Во всяком случае, еще не привыкли. Привыкнут позже? Навряд ли. А ты как, привыкла?
РАНЕНЫЕ И УВЕЧНЫЕ (Политическая деятельность)
– Грасиела, – сказала девочка со стаканом в руке, – хочешь ли монаду?
На ней белая блузка, джинсы, сандалии. Довольно длинные черные волосы схвачены желтой лентой. Очень белая кожа. Лет девять, не больше десяти.
– Сказано тебе, не зови меня Грасиелой!
– Почему? Разве это не твое имя?
– Мое, конечно. Но ты меня зови мамой.
– Хорошо, только я не понимаю. Ты же зовешь меня не дочкой, а Беатрис.
– Это другое дело.
– Ну ладно, лимонаду хочешь?
– Да, спасибо.
Грасиеле на вид года тридцать два, а то и все тридцать пять; наверно, так оно и есть. Юбка на ней серая, кофта – красная. Волосы у нее каштановые, глаза большие и выразительные, губы яркие, почти без помады. Говоря с дочерью, она сняла очки, а теперь надела и опять читает.
Беатрис ставит стакан на столик, где уже стоят две пепельницы, и выходит из комнаты. Через пять минут она возвращается.
– Вчера мы подрались в классе с Лусилой.
– А!..
– Тебе неинтересно?
– Вечно вы с ней деретесь. От любви, что ли… Вы ведь дружите?
– Да.
– Так что же?
– Иногда мы деремся в шутку, а вчера серьезно.
– Вон что!..
– Она сказала про папу.
Грасиела снимает очки. Теперь ей интересно. Одним глотком она выпивает лимонад.
– Она сказала, если папа в тюрьме, значит, он преступник.
– А ты что ответила?
– Я сказала – нет, он политический. А потом подумала, что и сама не понимаю. Все время слышу, а толком не знаю, что это такое.
– Потому ты и подралась?
– Да, и еще она сказала, ее папа сказал, что политэмигранты отбивают хлеб у здешних людей.
– А ты что?
– Я не знала, что ответить, и я ее ударила.
– Теперь ее папа может сказать, что дети политэмигрантов бьют его дочь.
– Ну, я не била, а немножко ударила. А вот она полезла драться.
Грасиела наклоняется, чтобы поправить чулок, а может – чтобы подумать или оттянуть ответ.
– Это плохо, что ты ее ударила.
– Наверное, плохо. А что же мне было делать?
– Правда, ее папе не стоило говорить так. Кто-кто, а он-то должен знать.
– Почему это он должен?
– Потому что он разбирается в политике.
– А ты в ней разбираешься?
Грасиела смеется, расслабляется немного и гладит дочь по голове.
– Немножко. Мне еще далеко…
– До чего?
– До того, например, чтобы стать такой, как твой отец.
– А его посадили в тюрьму за то, что он разбирался в политике?
– Не совсем… Скорее, за политическую деятельность.
– Он что, убил кого-нибудь?
– Нет, Беатрис, никого он не убивал. Политическая деятельность – это другое…
Беатрис молчит. Кажется, она сейчас заплачет, но она улыбается.
– Принеси-ка мне еще лимонаду.
– Хорошо, Грасиела.
ДОН РАФАЭЛЬ (Поиски пути)
Главное – прижиться. Конечно, в такие годы нелегко. Почти невозможно. И все же. В конце концов, это моя ссылка. Не у каждого так бывает. Мне хотели навязать чужую. Зря старались. Я ее сделал моей. Как? Это неважно. Тут нет ни секрета, ни открытия. Скажем так, сперва надо подчинить себе улицы. Перекрестки. Небо. Кафе. Солнце и, что важнее, – тень. Когда почувствуешь, что улица тебе не чужая, она тоже перестает видеть в тебе чужака. Так и во всем. Сперва я ходил с палкой, как и подобает в шестьдесят семь лет. Но суть не в возрасте. Я просто ослабел, растерялся. Там я проходил ровно столько же, когда шел домой. А здесь мне не хватало сил. Люди не понимают такой тоски. Им кажется, тосковать можно лишь по небу, деревьям, женщинам. Словом, по родине. А у меня тоска не так конкретна. Ну хотя бы, к примеру, путь домой. Идешь спокойно, отдыхаешь и знаешь, что будет после каждого угла, фонаря, киоска. Здесь же я всему удивлялся. Это меня утомляло. Кроме того, приходил я не домой, а в «жилье». Устал от новизны, вот именно. Наверное, и палку завел, чтобы удивляться меньше. Или для того, чтобы земляки говорили: «Дон Рафаэль, там вы ходили без палки», а я бы мог ответить: «Да и вы не носили здешних курток». Они – мне, я – им. Удивлялся я, например, витрине, где лежали маски, очень яркие, просто колдовские какие-то. Никак не мог к ним привыкнуть, хотя они не менялись. Как увижу их, так хочу – или жду, скорее, – чтобы они изменились, и удивляюсь каждый день, что они те же самые. А палка меня выручала. Почему? Каким образом? А таким, что я мог на нее опереться, когда небольшое каждодневное разочарование грозило мне, то есть когда я видел, что маски все те же. Собственно, надежда моя не так уж нелепа. Маска – не лицо. Она ведь искусственная. Лицо меняется только после несчастного случая. Я имею в виду лицо, не выражение лица, то меняется часто. Маска же может меняться по тысяче причин. Ну скажем, опыта ради, или для забавы, или для удобства, или после починки, если что-нибудь испортится. Только месяца через три я понял, что от масок ждать нечего. Не изменятся, и не надейся. Тогда я стал смотреть на лица. В конце концов, это гораздо лучше. Лица не повторялись. Я смотрел на них и отказался от палки. Теперь мне не надо было на нее опираться, чтобы вынести удивление. Может, лицо меняется не за дни, а за годы, но те, что я видел (кроме худой, запуганной нищенки), были всегда новые. Я видел все классы общества; видел людей в роскошных машинах, и в дешевых, и в автобусах, и в креслах на колесиках, и даже тех, кто идет пешком. Теперь я не тосковал по старой знакомой дороге. В новом городе и путь ищешь иначе. Знаю, знаю, «искать свой путь» – не совсем то, но как еще назвать то, что мы делаем? Мы не совсем сбились с пути, и все же – сбились. Я это и сам понимал, но убедился вполне на первом уроке. Один ученик встал и сказал: «Разрешите спросить, учитель, почему ваша страна, либеральная демократия, так быстро стала военной диктатурой?» Я попросил его, чтобы он не называл меня учителем, у нас это не принято; на самом же деле я просто хотел подумать над ответом. Ответил я то, что все знали: процесс начался давно, в глубине, когда как будто бы царило спокойствие. Я написал на доске, какие он прошел стадии, охарактеризовал их, сделал выводы. Мальчик кивал. И в его умных глазах я прочитал, сколь ошибочен мой путь. С тех пор я каждый день иду домой по другой дороге. И возвращаюсь уже не в «жилье». Правда, это и не дом. Это – квартира, подобие дома, или, если хотите, конура с удобствами. А вот город мне нравится. Хорошо хотя бы то, что у здешних людей есть недостатки. Очень интересно их изучать. Конечно, и достоинства есть, но это скучно. Другое дело – недостатки. Скажем, банальность – поистине царство чудес, никак к ней не привыкнешь. Зачем далеко ходить? Моя палка – образец банальности; правда, теперь я хожу без палки. Когда я впадаю в банальность, я себя немного презираю, а это очень плохо. Нельзя себя презирать без достаточных оснований. У меня их нет.
В ИЗГНАНИИ (Зеленая лошадь)
Шесть месяцев назад в гостиничном номере чужого города он поскользнулся, упал и сильно ушиб голову. Потом началось отслоение сетчатки, теперь его оперировали. Врачи велели ему лежать две недели дома с повязкой на глазах, и он, конечно, полностью зависел от жены. Каждые три дня приходил хирург, разбинтовывал больной глаз, убеждался, что все в порядке, и снова его завязывал. Ему посоветовали хотя бы неделю никого не принимать, чтобы покой был полный. Зато он мог слушать радио и магнитофон. И, конечно, говорить по телефону.
Слушать радио было не скучно, как в спокойные времена, а иногда просто страшно – за январь года на городских помойках нашли десять или двенадцать трупов. Между новостями он слушал магнитофонные записи Шико Буарка, Вилъеттм, Начи Гевара, Сильвио Родригеса [2]2
Современные латиноамериканские певцы.
[Закрыть]и еще «Форель» Шуберта и какой-нибудь квартет Бетховена.
Кроме того, он что-нибудь воображал, это ему особенно нравилось. Казалось бы, ничего не делаешь, а все-таки похоже на творчество; ведь воображать еще интереснее, чем просто смотреть глазами на все, что предложит жизнь. Теперь было иначе. Теперь он сам измышлял и собирал реальность, а она вставала во всей красе на внутренней стенке закрытых глаз.
Прекрасная игра. Подумаешь, например: сегодня я создам зеленую лошадь под дождем – и, пожалуйста, она появится на обороте неподвижных век. Он не решался пустить ее вскачь или хотя бы рысью, врач приказал, чтобы зрачки не шевелились, а он толком не знал, открыв эту забаву, чувствует ли закрытый глаз движение лошади. Зато он вволю выдумывал статические картины. Ну скажем: трое детей (два беленьких, один черный, как на рекламе североамериканских монополий), первый – на роликах, второй – с кошкой, третий – с мячом. Или – а что такого? – голая девица; все ее стати он тщательно продумывает прежде, чем, составить облик. Или общий вид пляжа в Монтевидео, один кусок – пестрые зонтики, другой – почти пустой, только бородатый старик в шортах, а рядом – собака, которая преданно смотрит на него.
Неожиданно зазвонил телефон, и он легко дотянулся до трубки. То была старая приятельница, она знала об операции, но про здоровье не спросила. К тому же она знала, что квартира на Лас-Эрас-и-Пуэйредон не выходит на улицу, только в окошко ванной виден кусочек площади. Тем не менее она сказала: «Выйди на балкон, посмотри, как красиво маршируют солдаты». И повесила трубку. Тогда он сказал жене, чтобы та посмотрела из ванной. Этого надо было ждать – прочесывают город.
«Придется кое-что сжечь», – сказал он и вообразил, как встревожен – но смотрит жена. Несмотря на спешку, он попытался ее успокоить: «У нас ничего запрещенного нет, но, если они придут и увидят то, что можно купить в любом киоске – речи Гевары, или Вторую Гаванскую декларацию (я не говорю о Фаноне, Грамши и Лукаче, их они не знают), или номера «Милмтансии» и «Нотисиас», могут быть осложнения».
Она жгла книги и газеты, поглядывая время от времени на площадь. Пришлось открыть другие окна (они выходили в садик, разделявший два дома), чтобы не задохнуться от дыма и запаха. Длилось это двадцать минут. Он помогал ей: «Смотри, на второй полке, слева, четвертая и пятая книги, это «Эстетика и марксизм» в двух томах. Видишь? Так. А на нижней – «Рассказы о революционных боях» и «Государство и революция».
Она спросила, надо ли жечь «Социалистический кинематограф» и «Маркс и Пикассо». Он сказал, чтобы сперва сожгла другие. «Эти еще ничего. Не бросай пепел в мусоропровод. Попробуй спустить в уборную». От дыма он немного закашлялся. «Глазам не повредит?» – «Может, и повредит. Что ж, надо выбирать меньшее зло. А вообще, не думаю. Они хорошо завязаны».
Телефон опять зазвонил. Та же приятельница: «Ну как? Хорошо маршировали? Жаль, быстро кончилось». «Да, – сказал он, тяжело дыша, – очень красиво. Какая дисциплина, какие краски! С детства люблю, когда маршируют. Спасибо, что позвонила».
«Ладно, больше не жги, сегодня хотя бы. Ушли». Она тоже перевела дух, собрала на совок остатки золы, спустила в уборную, посмотрела, смыла ли ' их вода, и, расслабившись, села на кровать. Он нашел ее руку. «Завтра остальное сожжем, – сказала она. – Помедленней, поспокойней». – «Жалко. Некоторые тексты мне бывают нужны».
Потом он постарался думать о зеленой лошади под дождем. Почему-то она стала караково-черной, а на ней сидел человек в кепи, но без лица. Во всяком случае, он не мог разглядеть лицо на внутренней стенке век.
БЕАТРИС (Времена года)
Времена года – это зима, весна и лето. Зимой бывают теплые шарфы и снег. Когда старики и старушки зимой трясутся, про них говорят, что они дрожат от холода. Я не дрожу, потому что я не старушка, а девочка, и потом, я сажусь у отопления. В картинках и книгах зимой санки, но здесь их нет. Снега здесь тоже нет. Зима тут очень скучная. Дует страшный ветер, он свистит в ушах. Дедушка Рафаэль иногда говорит, что он уедет на зимние квартиры. Лучше бы он ехал на летние, а то он будет дрожать, он уже пожилой. Надо говорить «пожилой», а не «старик». У нас один мальчик сказал, что его бабушка – гадкая старуха. Я ему объяснила, что надо говорить: «гадкая и пожилая».
Еще все очень любят весну. Мама ее не любит, потому что весной аристовали папу. Нет, надо писать «арестовали», через «е», но слово и так, и так очень противное. Была весна, и на папе был зеленый свитер. Весной бывают и хорошие вещи, например, мой друг Арнольдо дает мне свои ролики. Он давал бы их и зимой, но Грасиела говорит, что я расположена к простуде и непременно заболею. У нас в классе больше расположенных нет. Грасиела – моя мама. Еще весной очень хорошо, что цветут цветы.
Летом лучше всего, потому что солнце есть, а уроков нету. Летом дрожат только звезды. Люди потеют. Пот – вроде воды. Когда потеешь зимой, это значит, у тебя бронхит. Летом у меня потеет лоб. Летом беглые преступники ходят на пляж, потому что в купальном костюме никто их не узнает. На пляже я преступников не боюсь, а боюсь собак и больших волн. Моя подруга Тересита не боялась волн, она очень храбрая, и один раз чуть не утонула. Какому-то дяденьке пришлось ее спасти, и теперь она тоже боится волн, а собак все равно не боится.
Грасиела, моя мама, часто говорит, что есть еще одно время, осень. Я говорю, может быть, и есть, только я ее не видела. Грасиела говорит, что осенью много сухих листьев. Хорошо, когда чего-то много, хотя это и осенью. Никак не пойму, что за осень, потому что тогда не тепло и не холодно, как же одеваться? Наверное, поэтому я и не знаю, когда бывает осень. Если не холодно, я думаю, что лето, а если не жарко, я думаю, что зима. А на самом деле осень. У меня есть одежда для зимы, для весны и для лета, но осенью она не годится. Там, где папа, сейчас осень, и он мне написал, что очень рад, потому что сухие листья летят к нему сквозь решетку, а он себе представляет, что это мои письма.
ВЗАПЕРТИ (Как там твои призраки?)
Сегодня я долго рассматривал пятна на стене. К этому я пристрастился с детства. Сперва я представлял себе лица, предметы, животных; потом измышлял страхи и даже ужасы. Теперь, на мое счастье, я превращаю их в лица и вещи и ничуть не пугаюсь, хотя и тоскую немного по тем далеким временам, когда страшнее всего были собственные страхи, вызванные пятном на стене. Мы, взрослые, боимся (или извиняем свой страх) по вполне реальным, не призрачным причинам. Кстати, как твои призраки? Подкорми их, не давай им ослабеть. Нехорошо жить без них; нехорошо, когда все у нас – из плоти и крови. Однако вернемся к пятнам. Мой товарищ по камере читал увлеченно «Педро Парамо» [3]3
«Педро Парамо» – роман известного мексиканского писателя Хуана Рульфо (р. 1918).
[Закрыть]но я помешал ему, чтобы спросить, – заметил ли он пятно, наверное от сырости, у самых дверей. «Да нет, а теперь, когда ты сказал, вижу, есть там пятно. А что такое?» Он нахмурился, но ему стало любопытно. Пойми, тут, у нас, заинтересовать может все. Не стоит и говорить, что для нас значит, если мы увидим птицу у решетки или (так было со мной в прежней камере) если подружишься с мышкой и будешь беседовать с ней в тот час, когда люди читают «Ангел господень», а кто и «Бес полуденный», как говаривала Соня, помнишь? Так вот, я спросил товарища, потому что мне было интересно, увидит он лицо, животное или предмет в этом пятне. Он присмотрелся, потом сказал: «Профиль де Голля». Вот это да! Мне казалось, там, скорее, зонтик. Я сказал ему, и он хохотал минут десять. Да, еще у нас хорошо то, что мы много смеемся. Не знаю, очень ли нам смешно, но чувство такое, будто внутри все встало на место, будто есть причина для радости, будто все обрело смысл. Надо бы лечить себя смехом для пользы души и общества; однако, сама понимаешь, веселого здесь мало. Ну например, разве посмеешься, когда думаешь, сколько я вас не видел – тебя, Беатрис, Старика? А уж тем более когда прикинешь, сколько времени еще не увижу. Да, тут не до смеха. Думаю, что и не до слез. Кто как, а я не плачу, но и не горжусь такой стойкостью. Я видел многих, которые ревут полчаса и выходят на сушу, очистившись, набравшись духу, словно этот срыв что-то выправил в них. Иногда мне жалко, что я не привык плакать. А может, я боюсь, что мою душу слезы не выправят, а растравят. У меня и так многие винтики еле держатся, незачем рисковать. Кроме того, скажу тебе честно, главное – не в этом. Главное – в том, что мне и не хочется плакать, не плачется как-то. Не думай, что я не страдаю, не тоскую и прочее. Странно и ненормально не страдать в таком месте. Но у каждого своя манера. Я лично побеждаю маленькие срывы тем, что начинаю размышлять. Чаще всего это мне удается, но бывает и так, что не находишь мыслей, которые могли бы помочь. Немножко подправляя классика (кто же это был?), замечу, что есть порывы разума, которые чужды чувству. Расскажи мне о себе, что ты чувствуешь, что думаешь, что делаешь. Как бы я хотел пройти по улицам, по которым ты ходишь, чтобы и в этом мы были с тобой вместе! Жаль, я мало путешествовал. Да и ты сама, если бы не стечение обстоятельств, никогда бы, наверное, не увидела этого города, этой страны. Может быть, иди все нормально (нормально?) в нашей жизни, в нашем браке, в наших мечтах семилетней давности, мы бы и накопили достаточно, чтобы поехать далеко – не в Буэнос-Айрес, или в Асунсьон, или в Сантьяго (помнишь?), а в Европу – Париж, Мадрид, Рим, а то и Лондон. Как это все было давно! Землетрясение вышвырнуло нас на землю, на эту землю. Теперь, сама видишь, если тебе приходится уехать, ты едешь в другую, но американскую страну. Что ж, вполне разумно. Даже те, кто – по той, по иной ли причине – сейчас в Стокгольме или в Париже, в Брешии, Амстердаме, Барселоне, хотели бы оказаться в одном из наших городов. В конце концов, и я не у себя. И я, как вы, тоскую по своей стране. Изгнание – внутреннее ли, внешнее – вот имя нашей участи. Знаешь, эту фразу могут вычеркнуть. Но тот, кто это сделает, должен бы сперва подумать, не изгнан ли он сам из истинной своей страны. Если фраза осталась, ты заметишь, как я понятлив. Сам удивляюсь. Такова жизнь, старушка, такова жизнь. Если же фраза исчезла, не горюй, не так она важна. Крепко тебя целую.


![Книга Индийские волшебные повести [М. Амман : Сад и весна Н. Лахори : Роза Бакавали Х. А. Ашк : Цветник Чина ] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-indiyskie-volshebnye-povesti-m.-amman-sad-i-vesna-n.-lahori-roza-bakavali-h.-a.-ashk-cvetnik-china--272100.jpg)





