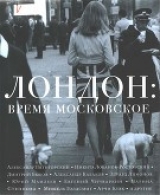
Текст книги "Лондон: время московское"
Автор книги: Марина Степнова
Соавторы: Дмитрий Быков,Анна Матвеева,Эдуард Лимонов,Александр Кабаков,Валерий Панюшкин,Михаил Гиголашвили,Максим Котин,Александр Терехов,Юрий Мамлеев,Сергей Жадан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
Повязку следовало менять, а тело – мыть, но я прозорливо согрешил против гигиены – огромная распухшая и растрепавшаяся повязка цеплялась за мою плоть, сквозь марлевую толщу проступали кровавые пятна, разводы зеленки и бурые потеки того, чему нет названия на языке людей.
Терапевт онемела и подалась вперед, словно оттуда, из моей раны, на нее взглянули внимательные и требовательные глаза, по лицу терапевта быстрыми тенями форели скользили разно-цветные волны, и с каждой волной темнели ее глаза и сильнее судорога перехватывала губы, задохнувшись, терапевт показала головой: да, да, да – она всё поняла, что велят ей жуткие глаза из распотрошенного чрева, не надо больше, довольно, отвернулась к столу и неожиданно спешно (словно торопясь помочь или не желая давать объяснений о смерти пациента на приеме) взялась царапающими звуками (вот как, оказывается, поют птицы по утрам в раю – довелось услышать при жизни земной!) заполнять направление на лечебную физкультуру и вдруг, словно переключил кто мою жизнь с черно-белой на цветную (да, я застал эпоху ч/б ТВ), обернулась и сказала:
– Так, может, тебя в профилакторий отправить? Вон как тебя слабость бьет.
Я пошатнулся и издал такой сладострастный стон, что после стыдился выйти в коридор на глаза покрасневшей и уткнувшейся в учебники очереди.
Профилакторий! Мне же не почудилось? Этот невероятно ослепительный день еще и накрыло небо из стодолларовых бумажек – профилакторий, о боже! – мне предложили профилакторий!!!
Объяснимся же: в университете, где таких, как я, училось тысяч сорок восемь, а таких, что получше, – тысячи две, в одном из плечей главного здания МГУ в незапамятные времена устроили профилакторий человек на шестьдесят – этаж одноместных комнат, где студенты жили и четырехразово питались (внимание!) двадцать четыре дня за шестнадцать рублей двадцать копеек, проходя (в стоимость входит) разные щекотные, пушистые и зажиточные процедуры вроде массажа, обертываний, покалываний и купаний в растворах – вот так!
Скажете: врешь! А вот и не вру!
Старики вспоминали, что профилакторий задумывали, чтоб подкормить слабых здоровьем отличников, затем все это как-то преобразилось в просто «для отличников», затем перетекло «в отличников и общественников», а к пятилетию моей учебы дорога в мечту уже настолько заросла, что ничего определенного «для кого» и «как там» уже сказать было невозможно, хотя я сам лично выпивал с выпускником, который хвастал, что парторг его курса слушал на университетской партконференции выступление парня, отца троих детей, побывавшего в профилактории за активную общественную работу.
Общественная работа! Я тоже пытался: записался в «народный контроль», чтобы выгрызть льготную путевку в спортлагерь в Пицунде. Поучаствовал в «контрольной закупке» в столовой – после чего два месяца боялся туда спуститься, этим и кончилось.
А сейчас – в профилакторий! За шестнадцать рублей! И двадцать копеек!!! Двадцать четыре дня – жрать и спать. Ходить на массаж! Уборка в комнатах! И чистые полотенца…
Я чувствовал себя самым крутым на курсе. На факультете! И в двух корпусах общаги на Шверника. Я – единственный, кто ушел от Светы, и я переезжаю в профилакторий!!! Кто знает, а может, я послан на свет, чтобы прожить именно этот день и стать примером: сильный духом получит блаженство, если выстоит до конца!
Света расчерчивала расписание стрелкового кружка (тысячи раз мне снилась эта минута, вот она, ничего не упущу), я, без приветствий и остановок, перегнулся через трех стоящих на коленях первокурсниц (трясли склеенными ладошками, размазывали сопли: «Светла Мих… Пощадите! Н-ну пожалуйста, ну последний, распоследний разик… Светла Мих… Умоляем! Не убивайте! Пожалейте нас!»), сунул Свете под нос направление студента такого-то на ЛФК с печатью поликлиники – на семестр! – развернулся и, насвистывая, вышел – зайду в спортзал, полюбуюсь, как ребята разминаются: надо же – в баскетбол! Строимся по росту. Честное слово, как дети. В армии не наигрались…
В каморке Светы линейка шлепнулась на пол, грохнул стул, взвыли испуганно первокурсницы – а я шел себе.
И улыбался.
Оплачивать шестнадцать двадцать за профилакторий я приехал невменяемым от счастья и возбужденным – чуть не сел за изнасилование: девушка в бухгалтерии так выставила правое бедро в разрез, что я на нее при трех свидетелях повалился прямо с порога, но вовремя заметил, что она на девятом месяце, в очереди передо мной скромно ожидала пышная девица в спортивном костюме, собравшая волосы в жидкий хвостик, улыбалась она скупо: выросшие чуть наружу верхние зубы как-то не поощряли ее к положительным эмоциям. За что в профилакторий? Она кратко ответила: нервы.
Я покосился в ее тетрадку – формулы – и подбодрил толстушку:
– Ничего, вычислительная механика, отдохнем, успокоишься. Бегать по утрам будем.
– Я горные лыжи люблю, – остальное время говорил я, а она несмело смеялась, прикрывая ладонью рот, а потом объявила с такой определенностью, будто я только что спросил «я слышал, что вы тра-та-та, правда ли это?»: – Я ведь травилась полгода назад, – и опять, словно я продолжал тупо спрашивать: – От любви, – и снова! – У него жена и дочь.
Горнолыжница с факультета ВМК закрывала улыбку ладонью, но по глазам я понимал: улыбается она вкрадчиво и пытливо. Пересесть от нее было некуда, радость моя начала сдуваться и ежиться. Горнолыжница вздохнула:
– Была бы жена одна, я бы влегкую его развела. Ведь он меня любит, – сказала она в настоящем времени, как я ненавижу таких девушек, если женюсь, изменять буду только с замужними и многодетными. – А вот когда дочь родилась, я таблеток намешала и…
– Да что ты это рассказываешь хрен знает кому? Надо все вот это вот только тем, кому веришь.
– Я вам верю. Вы, мне кажется, никогда не обманываете, – просто сказала она. – И меня никто никогда не обманывал. Вот, а потом – истерики начались по ночам. Все время снилось, что я с ним и нас застает его жена. Я ее ни разу не видела, и поэтому во сне она всегда была без лица, с серым пятном на том месте, где бывает лицо. Как увижу это пятно над собой – вскакиваю, ору и бегу к маме в кровать, а она меня гонит… Тогда бегом к папе. Папа говорит: успокойся, не бойся. Она не здесь, она далеко.
Я отвернулся, чтобы очнуться, глянуть на отрезвляющее; но тут раскрылся лифт – из него вышли лилипут, высоченный рыжий малый в ортопедическом ошейнике и две птицеголовые девы с узкими стопами, одна громко сказала:
– Особый блеск в глазах, свойственный эпилептикам…
Горнолыжница потащилась еще меня проводить до автобуса (сто какой-то ходил от главного здания до Шверника), поскользнулась (получается, кончалась осень) и полетела задом на газон, отряхнулась и долго махала моему автобусу вслед, одной рукой махала, другой отбрасывала прядки со лба, чтоб не отвлекаться, побольше помахать.
В общаге не завидовали – ненавидели, и я, вдруг осознав, как устал от пьянок, почвоведок, «временно поживущего» у нас негра, подселенного за деньги заочника, хлебных корок и авоськи сала за окном – людской, нестихающей плотности, с такой радостью собирался в профилакторий, словно навсегда или словно вернусь и все изменится, даже не помогли поднести до трамвая тяжеленную сумку и пишмашинку «Украина» – подарок родителей: не могу забыть, как выбрасывал ее – в потертом черном футляре, как отвернулся, открыл глаза и пошел прочь от мусорного бака, а она (клавиша регистра слева западала, и я щепкой подпер), а она (руки черные от смены ленты), а она (когда писал о страданиях, пальцы проваливались меж букв и застревали), а она осталась, ни в чем не виноватая, навсегда осталась одна там.
Невероятно: человек, который однажды закопает отца и мать, часто жалеет тетрадку со своими детскими рисунками танка с красной звездой.
Первым делом я поглотил три копны макарон, в комнате изучил, сверяясь с описью, взятое на душу имущество. Все поразительно совпадало, если простить отсутствие чайного стакана. Это ничего, чай принесу из столовки.
На подоконник садились снегири. Куплю пакет молока и сделаю из него кормушку для пролетарской птицы.
В шкафчике предок оставил мне книжку по диамату, я прочел несколько строк, задумался: а и правда, с чего я взял, что существует белизна? – когда проснулся глубоким вечером, вышел оглядеться.
Профилакторий делился на мужское и женское крыло, посреди под сыто цыкающими ходиками сидела смертельно бледная дежурная в синем пиджаке, в коридорах подванивало чем-то медицинским, гудели лампы, однообразно ругалась уборщица, чтобы не уносили посуду, у столовой висело меню, у кабинета стоматолога – график приема, я, оглядываясь на девиц в вольных халатах, остановился напротив дежурной и спросил:
– Кому здесь дать рубль, чтобы мне в комнату принесли вазу сирени?
Дежурная ошеломленно стерла со лба волосы и полезла за очками, но, когда она усилила свое зрение, я уже листал подшивку «Советского спорта» непонятного месяца, а потом, слупив хлеб с маслом и стакан кисловатой сметаны, занял позицию в «телехолле» – так называлась комната, где желающие собирались смотреть телевизор. Я дремал, дожидаясь прогноза погоды, и прикидывал силы: кто поддержит меня в восстании за то, чтобы не смотреть кино, а переключить на «Футбольное обозрение», – мужиков мало, и все дохлые, а девушки всё подходят, вот и еще, толстая, – да это зашла горнолыжница.
Она остановилась у стены, осматривая отдыхающих. Даже во мраке я заметил, что губы ее накрашены. Еще больше пугала ее улыбка. Горнолыжница улыбалась решительной легкостью, заметила меня и качнула животом вперед – я отвернулся и уставился в телевизор.
Но ряд стульев уже затрясся, через колени соседей она пробралась ко мне и плюхнулась рядом:
– Скукотень.
– А ты что веселая такая?
– Пойдем к тебе спать, – она сказала довольно громко, у меня заложило уши.
Сгустилась душная тьма. Вокруг замерцали ожиданием глаза, и девичьи голоса звенели и журчали: «с журфака», «он с журфака», «такие только на журфаке», «откуда он, не знаешь, как зовут…» – седобородые в черных шапках (им ничего не кажется смешным) тут бы заметили: всегда есть выбор – и конечно! – конечно, выбор был: встать горячим и гранитным комком мышц, либо остаться сидеть кучей мусора, заехавшей в профилакторий подлечить энурез за шестнадцать рублей двадцать копеек, или учиться, учиться и учиться, чтобы прикрыть будущей аспирантурой оторванную в детстве мошонку. Уродливо сложившиеся человеческие представления не оставляли мне времени даже подумать – я как ошпаренный вскочил и за руку потащил горнолыжницу на выход!
Погаси свет. И она разделась догола, оставив на себе только трусы, бюстгальтер, колготки и плотную майку до колен, и, бросившись в постель, обвернула себя наглухо одеялом, я едва пристроился рядом, попытался обнять и потянулся губами к щеке, но горнолыжница вдруг отшвырнула мою руку и строго спросила:
– Опытный? Ты хоть сможешь качественно? Чтобы возбуждение было ступенчатым? Чтобы сперва наивысшая точка, а потом снижение до начального уровня, потом вновь подъем до наивысшего, и так до пятнадцати раз?
Я-то? Я? Да про меня в общаге у кого ни спроси! Да я. Да еще бы… Конечно. Все-таки… Э-э… Короче, в общем, я… М-м… Хм-м. Я к тому времени уже видел один фильм на эту тему (не как сейчас – заходи без регистрации, а на дому, кому зря не показывали), и целовался в общаге, и, когда ходили в увольнение в общагу к медичкам – пару раз, и даже обнимался с одной целую ночь на техническом этаже, куда поднимал лифт (и откуда она узнала про этот этаж?), только скромная очень оказалась, ничего мне не позволила, подрабатывала, кажется, на транспорте – иначе почему старшекурсники называли ее «Трамвайное депо»? – и я читал даже про то, что надо считать фрикции и совершать вращательные движения тазом, я себе всё хорошо представлял. В целом. И, наверное, я бы даже и…
Горнолыжница спала, одеяло мерно вздымалось на ее груди. Не знаю, по какой причине, но я почувствовал облегчение, вот и посплю, мне завтра к восьми – дембелям уже отменили военную кафедру, но завтра попросили всех прийти, чтобы прощальный раз «Здравжелаю товамайор!», я корчился как гусеница, прижатая спичкой, пытаясь устроиться на сон, но сталинисты, устраивавшие профилакторий, знали, как обеспечить абсолютный покой, – второй на кровати не помещался никак, я и так пристраивался, и изгибался, пытался катнуть горнолыжницу на бок – нет, а вот так и – замер на краешке, вернее – повис, держась за кроватную спинку быстро устающей рукой, руки придется менять, вот ночка! Прошла вечность, вторая, еще одна, да я уже задубел без одеяла и встал одеться, горнолыжница, словно этого и ждала, раскинулась посвободней, полностью заняв кровать, а я стоял над ней в тупом раздумье – что здесь делает этот человек? Да еще военная кафедра… Меркли мои победы в этой тоскливой ночи, я выглянул в коридор: дежурная спала на диване для любителей газет, но сразу же подняла голову.
Я бесшумно занял жесткое кресло в коридоре, скрываясь от дежурной за столбом, и смотрел на стену, часы: игольчатые единицы, двоечки крючков, кочерги семерок, восьмерочные пенсне – с таким вниманием, с каким смотришь, бывает, и уже забываешь на что; вставал побродить, согревая себя объятьями, за окнами к фонарям жались черные озера асфальта, сквозь хрипенье часов скреблась дворницкая лопата, голова кивала сама собой, словно я с птичьей дотошностью клевал следующего мимо жучка, а еще на военной кафедре требовали короткой стрижки, чтобы беспрепятственно налезал противогаз, в основном я двигал взглядом часовую стрелку, сдерживая в себе порыв встать на кресло и помочь ей рукой, ждал, когда стрелки вытянутся пропеллером – шесть утра, от нечего делать – взялся бриться, вычистил зубы до крови, мылся, тыкал пальцами в уши, дышал в казенное полотенце, все рано, но – если очень и очень медленно собираться, то пора; едва шевелясь в тесной вате невыспавшегося тела, я застегивал на себе ненужные вещи – горнолыжница, голые плечи, когда она успела снять всё, проснулась, улыбнулась радостно – не ожидал, потянулась за голову руками и, выворотив следом из-под одеяла свои прелести, притворно ойкнула и перевернулась на живот, лукаво взглянув на меня:
– Приходи скорей. Буду ждать и скучать.
Поцеловал не глядя, как покойника. Как ее зовут?
Военный билет взял, студенческий взял. Проездной (кто не помнит ужаса: сегодня же первое число, а я не купил проездной!) взял.
– Закрой дверь за мной.
Встретился только спортсмен, он возвращался с пробежки и утирал шапочкой лоб, дверь пихнула меня во мрак, я побрел, проминая ледяной целлофан на лужах, главное здание оставалось за спиной, облитое рыжими потеками фонарного света, перепоясанное вразнобой гирляндами горящих окон – как новогодняя ель, оставленная до весны гнить, я останавливался у газетных стендов – в старину на улицах вывешивали свежие газеты, и шел – в сонный автобус, в свободные лавки утреннего метро, в блаженное покачивание, на военную кафедру, после первой пары все ломанутся в буфет, а я прилягу на стол спать, лысый майор бубнил на кафедре:
– Бактериологическое оружие – это тараканы, бактерии…
– Мыши, – подсказывали «с первой парты».
– Ну что мыши, – насупился майор. – Если много мышей, можно сделать колбасу. Запишите в общих тетрадях.
Еще одно теплое название из далекого заспинья – «общая тетрадь», я сидел, полностью поглощенный поисками источника солнечного зайчика, равномерно и бессмысленно качавшегося на стене, повторяя чье-то исполинское дыхание, когда в аудиторию засунулся майор с повязкой дежурного, отмеченный прямым попаданием родимого пятна, угодившего в скулу и разбрызгавшегося на шею и щеку, я раскрыл пошире липкие глаза и почему-то приподнялся.
– Ты? – майор уважительно присвистнул. – Дуй в профилакторий.
Я проснулся. Значит, горнолыжница все-таки не заперлась.
Приказ висел на кухне, над окошком для раздачи еды: такого-то и такую-то отчислить из профилактория за аморальное поведение, дежурная дремала, накрывшись газетой, я побарабанил пальцами по столу – она так испугалась, что начала нервно перебирать звонкие связки ключей.
– Я тот, что из шестьсот пятой.
Ей словно жахнула молния в зад, вскочила, гадливо ухватила меня за запястье – к главврачу!
– Он еще улыбается! – главврач семидесяти одного года брякнула на стол очки. – А мы с утра – плачем!
Плакала она с маленькой стеснительной медсестрой, которой я быстро подмигнул, – медсестра, перекрестившись, с усердием взялась заполнять какую-то ведомость.
– Как дошел до жизни такой? – главврач тянула к моему лицу искореженную временем ладонь. – О чем думал? Сам после операции, а ее – только-только на ноги подняли. После такого психоза! Собирай вещи и – вон отсюда!
Меня конвоировали две медсестры, наблюдали, как я комкаю вещи.
– Стакана чайного не было, – ворчал я. – Никакого отдыха, – и солгал медсестре, что постарше: – Мамаша, видно по вам, что добрая вы: а где та девушка?
– Это не девушка. Разве ж так можно? Так выла, так дралась, что «скорую» вызывали, связывали. Что вы за люди? Только б пить: выжрут и опять. Выжрут и опять. А тебе еще и баб.
Вот так незаметно прошла жизнь. И я опять превратился в человека, дремлющего в троллейбусе. И все мои знания – свет должен падать слева, нельзя есть мороженое после горячего чая, спи на правом боку, никогда не выбрасывай хлеб – устарели и отменены, и, похоронив немало людей и страшно страдав (одно запоздалое бегство из паевых инвестиционных фондов в депозиты в 2008-м чего стоит, а съём коронки алмазным диском…), мне самому странно мое признание – хуже всего я себя чувствовал вот тем осенним, сумрачным утром, в комнате профилактория – ослепленный каким-то кровавым туманом, я впихивал в сумку вещи, еще накануне любовно и осмысленно раскладываемые по новым местам, – как же мне было плохо, как же я выл, захлебнувшись отчаянием, да просто дох от тоски… Вы скажете: погибла мечта о днях роскошного одиночества и сытного покоя, райском острове довольства и наслаждений – и я скажу: да. Еще бы. Но более всего – и нестерпимо – жалел я свои кровные шестнадцать рублей и двадцать копеек – родные мои, ненаглядные деньги, утраченные навсегда. Здесь помолчим. Я отойду в детскую выключить обогреватель.
Готов. Медсестра постарше подставила мягкую ладонь, я приземлил на нее ключ от комнаты.
– Эх, вы-и… – прошептала медсестра. – Закрываться надо было.
Я нагнулся за позорными тяжестями – набитая сумка торгашеского вида и короб с печатной машинкой – разогнулся, шагнул в коридор и застыл, пораженный.
Ни одна из девушек профилактория не ушла на учебу в тот день – вот, все девушки, стоило хлопнуть моей двери, нашли какую-то надобность немедленно выйти из комнат: замерев на пороге, они осторожно и как-то нехотя поглаживали халаты на груди, увлажняли кончиками языка губы, сонно потягивались и вели пальчиком по шее, вдоль какой-то особенно значимой линии, прогуливались навстречу и, встретившись взглядом, уводили глаза в сторону и вниз, закинутыми руками распущенные волосы, сжимали их и подбрасывали кверху, обгоняли, чуть коснувшись упругим бедром и коротко и жарко обернувшись – о боже! – на всех я был один!
Все остались взглянуть на мастера, рабочий орган, проходческий щит метрополитена, который в первую же ночь, не откладывая и ничего не боясь, взялся исполнять то, ради чего многие и стремились попасть в профилакторий, о чем мечтали и боялись мечтать и чего – после моего ухода – похоже, уже не будет, а если и будет что-то там жалкое такое, но, конечно же, совсем не так!
Спину мне нагрел жар вспыхнувшего солнца, я уперся головой в потолок, расправил плечи, я двинулся вперед – в тот самый божественный миг (никогда больше, чтобы настолько) я стал настоящим мужчиной.
Я ступал мягко, как зверь (две медсестры шли по бокам, а как иначе – за ним не уследишь, мигом завернет в ближайшую комнату!), и властно взглядывал в лицо каждой – и каждая изгибалась с едва слышным стенанием в ответ, и каждая годилась (даже вон та рыжая, страшненькая и в очках), и каждая хотела, они отрывались от своих комнатушек и шли за мной, пристраиваясь к конвою – с полотенцами, зубными щетками, кастрюльками и расческами, открывая в шаге края ночных рубашек, босые и простоволосые, – провожали своего желанного, у разъехавшихся челюстей лифта я обернулся, медсестры вытирали глаза: девушки сомкнулись цветущей рощей – запомни нас, мы тебя ждем, мы можем встретиться тебе на твоих дорогах, и, издав на прощание голодный и победный тигриный рык, я шагнул в лифтовое нутро и опустился под землю, в смысле – на землю, и, опускаясь, улыбался, и ехал в автобусе – улыбался, ждал трамвая – и улыбался, шел по общаге – и улыбался: всё, я стал мужчиной, и этого не изменить.
Изредка (долго надо выслеживать, не выдавая свое присутствие, чтоб не спугнуть), реже, чем сурикатов и леммингов, на телепередачи приглашают писателей – писатели выглядят истощенными и нездоровыми, неопрятная всклокоченная седина, нелепые шарфы на шее и пиджаки, пошитые из половых тряпок; писатели никогда не понимают, куда их позвали, когда начинать говорить, а когда пора заткнуться, бормочут, шлепают губами, заметно волнуясь, и писателям всегда кажется, что кто-то их слушает – им плюют в лицо подсолнечную шелуху, им на брюки мочатся жирные скоты, в них бросают окурки, харкают на очки, мучают: «А вы кто? Как-как, еще раз», «Вы что, пишете что-то?» – с болью я все время думаю: как не уследили родственники, зачем отпустили… По «Культуре» их показывают чаще, конечно, и кучней – там писателей садят рядками в особый загон, похожий на кузов грузовика, а гладкий и холеный, что передачей верховодит, не приближаясь, так ему противно, издали руководит: «Вот ты теперь скажи. Вставай, когда хочешь сказать. Херню сказал, сядь! Нет, ты пока посиди, тебе дам слово в конце, если время останется. Вот ты, как тебя звать, напомни, скажи, но – коротко! Короче! Еще! Но это же глупость!» А как-то он не уследил, и два лысых старика, сидевшие рядом, проговорили чуть дольше, и я зажмурился от стыда – как быстро они перешли: ах, сколько девочек меня любило, ах, сколько сотен я успел перелюбить, ах, как страдали и обижались те, на кого меня не хватило, а так я – даже с иностранками, так и я с одной немкой, даже языка не зная, я одну – даже в самолете, да, горяч я был, да, ты был горяч, но и ты был горяч, ого-го-го, да-а, ого-го как был горяч… Я выключил телевизор со страхом, словно говорили что-то страшное про меня и могли услышать дети, и поклялся: никогда. Никогда, слышишь, сейчас и постарев, в любом ничтожестве и бессилии, клянусь, не буду закрываться от смерти вот этим, не стану врать, не буду хвастать победами, подсчитывать, удлинять по лживой памяти списки, не улыбаться со значением, заговаривая о молодости, не кивать вслед сверстницам и тем, кто моложе: а вот с ней-то я, ее подругой, мамой и ее двоюродной сестрой – не стану врать, не буду врать и в свое вранье верить, не полезу, завидев смерть, в трусы, не буду писать романов, где герой из постели валится в постель, выбирая себе любую, и каждая с ним готова, не сочиню рассказов, где восемнадцатилетние красавицы отдают свою любовь нищим старикам, где все прекрасное на свете существует лишь для того, чтобы стать нашим, никаких стюардесс, проводниц, музейных работниц, переводчиц, стилисток, студенток, секретарш, продавщиц, официанток, операционисток, вожатых, кассирш, служанок, массажисток и бесплатных проституток, поклялся я – пусть закат мой останется безутешным, но пусть я до конца увижу всё как есть.
На лечебную физкультуру я сходил всего пару раз – на следующий после изгнания из профилактория день и перед сессией.
В небольшом зале в университетской поликлинике я ожидал увидеть живые скелеты, одноглазых и безногих, но там собирались обритые, громадные личности с кровоподтеками на переносицах и сбитыми костяшками на кулаках. Те, кто чувствовал себя покрепче, занимались, ухватившись за шведскую стенку, кто послабее – ложился на коврик, изредка приподнимая ногу или руку.
Я сразу лег на коврик, и через полчаса медсестра, заглянув в список, попросила:
– Терехов, да ты хоть шевельнись, чтобы я знала, что ты не умер.
Но радость моя расцветала и росла еще выше – именно в этот день наш курс приехал изнурительно побегать на стадион: после лечебных занятий я устроился на лавочке и с сонной улыбкой счастья наблюдал, как круг за кругом, круг за кругом, круг за… А теперь – ускорение! Мне было так хорошо, а всем было так плохо. Всем было еще хуже от того, что я их видел, а мне было еще лучше от того, что все видели меня.
На соседней лавочке Света перебирала свои расстрельные списки, проверяла, сличала и вдруг обратилась ко мне:
– Можешь успеть сегодня сдать подтягивание, десять раз.
Я даже не повернулся к ней:
– Я же на лечебной…
– На лечебной ты с четырнадцатого, а подтягивались мы двенадцатого. Десять раз надо подтянуться, чтобы получить зачет.
– Светлана Михайловна, – я почуял, что волосы оживают и начинают разгибаться на моем черепе. – У меня была полостная операция, у меня свежий шов!
– Надо было двенадцатого подтянуться. Значит, не сдашь эту сессию. Или беги сейчас, вон ребята на турнике, – и заорала: – Это кто там срезает и думает, что не вижу?! Повешу! – в другую сторону: – Это что за разминка – не гнется никто! – поднялась и пошла к турникам.
Я бросился следом:
– У меня разойдется шов! Кишки выпадут! Да я и здоровым не подтягивался больше шести раз. Я не смогу десять! – обгонял и поднимал свитер – вот: – Я могу умереть.
– Сегодня последний день, – тихо и бесстрастно рассуждала сама с собою Света. – Или – зачета нет, сессия не сдана.
– Светлана Михайловна, пожалейте, – бегал я вокруг, всплескивая руками. – Я вас очень прошу, ну, один-единственный, самый разъединственный разик, я просто… у-мо-ля-ю!!! – и вдруг заметив, что все бросили бегать и разминаться и – столько радостных лиц вокруг! – я вздохнул. Подошел к турнику. Примерился. Подпрыгнул и повис. И подтянулся – десять раз. На!!! Получила?!
Света даже не подняла головы, так, мимоходом, что-то пометила в бумагах – жирной галочкой.
Я давно не бывал в тех местах, а в этом сентябре в три часа ночи ехал за «скорой», что везла в Морозовскую больницу маленькую дочку с женой – три месяца не садился за руль, только прилетели с моря, ненавижу Морозовскую.
Прошелся вдоль платных боксов: имя, диагноз. Знакомых нет. Отовсюду раздавалось мяуканье детей, «тихо! не сопротивляйся врачам!», в коридор выглядывали голоногие мамы с опухшими лицами, в бесплатной палате, обхватившись руками, сам себя убаюкивал детдомовец.
Медсестра шла за мной по пятам:
– Вы останетесь ночевать?
– Это зависит от того, что у вас на завтрак.
Она искренне удивилась:
– А почему это?
Ночной дорогой меж больничных корпусов (и в каждом окне прижимала к себе младенца Богоматерь) я вышел за ворота мимо будки охраны – судя по телевизионным отблескам, в будке кто-то жил, вернее, был, но не разобрался с поворотом и выехал на трамвайные пути, и пришлось возвращаться по Шаболовке, а дальше, как по запаху, – путем двадцать шестого трамвая по гнутым переулкам, машину трясло на трамвайных плитах, пока не съехал наконец на Загородное; начали попадаться влюбленные пары, одна девушка несла на плечах доисторически наброшенный пиджак – вовремя свернул на Шверника и остановился напротив общежития – не смог почему-то выйти из машины, даже прямо взглянуть защипавшими (просто за дочку переволновался) глазами, так, косился на особенные окна, где что-то (так думает каждый) все-таки осталось от меня.
Общага парусом торчала в ночи, горели десятки окон, свободные от штор, и на каждом этаже – целовались влюбленные пары, кому не повезло опуститься на свободные кровати работающих в ночь соседей.
Я почувствовал острейшую, обжигающую зависть.
Я твердо знал, что самое важное и лучшее на свете происходит сейчас за этими неспящими окнами. Конечно, это глупость и заблуждение, я получил всё, о чем мечтал и не мечтал. Но московская прописка и квартира в собственности ничего не могли изменить – мне невероятно сильно хотелось: вон туда.
Идут годы, старшая дочь моя Алисс поступила в университет, где готовят будущих официанток со знанием испанского и каталанского языков, и бывают дни, когда после занятий Алисс дожидается старик-отец, и тогда почтенная и величавая старость прогуливается об руку с наивностью первоцветения юности, и так уморительны, так смешны мне жалобы Алисс на физкультуру:
– Почему ты все время смеешься? Ты не представляешь, как она непонятно объясняет: бежишь до штрафной, пас до диагонали, она возвращает, в кольцо, она снимает, спиной назад, пас, забивает, полный круг – поехали! Я не понимаю ни слова…
– Милая моя, какая же ты у меня еще маленькая…
– А знаешь, как ругается? Говорит: сейчас как врежу! Китайцу сказала: ты что, мало каши рисовой ел? Прекрати немедленно смеяться.
– Ох, не могу, ты просто еще не знаешь, каких действительно страшных испытаний может быть полна жизнь, какие страдания выпали твоему отцу…
– И с бретельками не разрешает. Это, говорит, не спортивная форма! Чуть что: закрой рот. Мне все время кричит: подает безобразно, ноги не сгибает, больше не возьму в первый состав, а как подам хорошо и все мне хлопают – упорно смотрит в журнал.
Глаза Алисс пылают возмущением, а я отворачиваюсь и прикусываю губу, чтобы не расхохотаться в голос: дети…
– Говорю ей: Светлана Михайловна…
– Надо же, Светлана Михайловна. И мою так звали – вот забавное совпадение. Моей, должно быть, лет девяносто, навряд ли жива…
– Сказала, что двадцать лет отработала на журфаке.
Я остановился, вернее – у меня отнялись обе ноги, и язык, здания и деревья сдвинулись и поплыли вокруг, а я не мог шелохнуться, чуя стремительное падение температуры тела и примерзание языка к зубам:
– Ты, надеюсь, о, ради всех святых, Алисс, ты не…
– Я говорю: мой папа там учился.
– О боже!!! Ты ведь не называла фамилии?!
– Сказала. Она так пожала плечами: смутно помню.
– И она… Где-то рядом?!
– Ну, может, выйдет сейчас. Может, нет.
Я оглянулся: до Вернадки бежать далеко, и местность открытая, крикнет в спину, Ломоносовский скрывает забор, прутья частые, не протиснусь, даже если разуться и куртку скинуть, залезу под строительный вагончик и лягу мордой в снег? – но тут крутятся собаки, начнут лаять или подлезут понюхать или лизнуть, прыгнуть в траншею теплотрассы и пробежать по трубам, да там глубина три метра – я не вылезу, времени нет, я перебежал дорогу и присел за машину, запорошенную снегом: ладно, ладно, отобьемся; Алисс пришла за мной следом, у нее были испуганные глаза:








