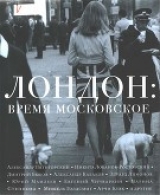
Текст книги "Лондон: время московское"
Автор книги: Марина Степнова
Соавторы: Дмитрий Быков,Анна Матвеева,Эдуард Лимонов,Александр Кабаков,Валерий Панюшкин,Михаил Гиголашвили,Максим Котин,Александр Терехов,Юрий Мамлеев,Сергей Жадан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Эдуард Лимонов. Грабители

Накануне Нового года они пошли резать сумки. Кот, Эд и Гришка. Гришка был самым младшим из них, но самым высоким и самым наглым. Он беспрестанно курил папиросы, плевался, сморкался и был вечно простужен. Еще он был сутул, как складной ножик, и только что освободился из колонии для малолеток.
Кот был парнем с технической жилкой, он пылко мечтал стать Большим Вором, но физически на роль Большого Вора не годился: был удручающе невысокого роста и несерьезно конопат. Свой физический недорост он компенсировал склонностью к предугадыванию и изготовлению орудий и приспособлений воровского труда, всяких отмычек и открывалок.
Эд был худощавый подросток романтического склада, он писал стихи. Отец его был на самом деле «мусор», хотя и носил военную форму. Эд своего отца стеснялся, но Кот и Гришка знали, что он «мусор», и им было все равно, что он служит в конвойных войсках.
Стоял мороз, и очень крепкий мороз, какой нередко бывает под Новый год в Левобережной Украине. Когда висит большая луна и воздух, как лед, царапает щеки. Снег скрипел под ногами, потому что был в состоянии превращаться в лед.
На срезание сумок они вышли с ножницами и палками, изготовленными Котом. Правильно прилаженные палки и ножницы собирались в рогатку многометрового роста, способную дотянуться до третьего этажа. Достаточно, чтобы порезать сумки и авоськи с продуктами и напитками, вывешиваемые обывателями из форточек.
Они совершали такие походы перед каждыми праздниками. Обыкновенно добыча была богатой: колбаса, сыр, рыба, водка и вино. Обыватель запасался на праздники лучшими из возможных продуктов, а чтобы они не протухли, вывешивал, идиот, за окно. Так и говорили тогда: «Возьми за окном». Ну там, если сын-подросток просил есть, мать отвечала стандартным: «Ешь котлеты, возьми за окном».
Сегодня им не везло. Они срезали только одну жидкую сумку и в ней замерзшие до степени каменистости жалкие сардельки. Их даже резать оказалось делом невозможным, не то что жевать.
Повозившись с сардельками, грязно ругаясь и отплевываясь – Гришка еще и шумно сморкался, – они поняли, почему им не везет. Мороз был таким сильным, что обыватели благоразумно убрали свои сумки и авоськи из-за окна, правильно решив, что продукты вымерзнут.
Они стояли у не достроенного никогда стадиона в тени не достроенных никогда ворот и ругались так плохо и так негативно, как только могут материться замерзшие подростки. Воспроизводить их ругательства нет никакой нужды, поверьте, это были очень грязные ругательства.
– Я понял, парни, – сказал вдруг Гришка, это «парни» было его речевой характеристикой, он привез «парни» из колонии. – Я понял – не только мороз, не один мороз. Настали новые времена, козье племя накупило себе холодильников. Они теперь хранят продукты в холодильниках.
– Ну не все же? (Кот)
– Не все, но всё большее их количество. (Гришка)
– Мать иху! (Эд)
– Иху мать! (Гришка)
– Дальше ходить нет смысла. (Эд)
– Грабанем кого-нибудь? (Гришка)
– Чем? (Эд)
– Есть чем. Я выкрасил пушку. Высохла… (Кот)
– Она же деревянная, вес не тот. Ты ему в плечо, а он чувствует, что нужной тяжести нет. Несерьезно. (Гришка)
– А нужно давить сильно. Сверху вниз. Клиент будет чувствовать давление и примет его за тяжесть железа. (Кот)
– Ты бы лучше усилил его железом. (Эд)
– А я усилил. Гирьку распилил и вмонтировал в ствол и рукоять. (Кот)
– Дай! (Гришка)
Выйдя из темноты под воротами, подростки рассматривают муляж пистолета ТТ, сделанный Котом с пистолета отца Эда – «мусора».
Одеты они жалко: Эд и Гришка – в затрепанные пальтишки, Кот – в черной фуфайке, на буйных головах подростков – старенькие, потертые шапки. Эд донашивает отцовские брюки с невыпоротым багровым кантом войск МГБ. У Гришки – залатанные поверху ботинки, что свидетельствует о совсем уже бедности. У него только мать, да и то глухонемая, работает уборщицей. Гришке тринадцать лет, Коту и Эду – по пятнадцать, но Гришка по развитию выше их. Он много читает и побывал вот в колонии для малолеток. Одевались после войны, впрочем, все плохо, потому тогда сплошь и рядом раздевали зазевавшихся поздних прохожих – одежда стоила дорого. Пальто носили десятками лет. Война ведь только кончилась. Все ходили по улицам бедными, как персонажи Диккенса или Достоевского.
Со стороны – три оборвыша стоят в тени недостроенных ворот стадиона. Снег бело-синий, вдалеке – единственный высокий фонарь с желтой лампой, но есть луна.
– Луна, мать ее… Пушку возьму я. Я выше вас. И я психованный. У меня и справка есть. И ругаюсь я страшнее. (Гришка)
Последний аргумент самый веский. Уличное ограбление непременным элементом включает в себя важнейший первый этап. Следует напугать клиента, ошеломить его, сразу же подавить. Гришка и до колонии ругался по-страшному, а из колонии уже такие ругательства привез, что здоровенным мясникам на Конном рынке не по себе делается. Гришка знает очень грязные, самые грязные ругательства. У женщин ноги трясутся от ужаса.
– Ладно, давай ты. (Кот)
Кот все-таки главный в банде. Молчаливый крепыш – майорский сын все-таки – уважаем ими. И Эдом, и Гришкой, и Вовкой-боксером, и Гариком-морфинистом, у Гарика мать – медсестра, и он пристрастился к морфию. Сегодня не все в сборе.
– Палки оставим тут. Григорий, отдай Эду свой нож. (Кот)
– Я бы с ножом остался. Пушка-то не «гав-гав». (Гришка)
– Против кого ты будешь с ножом-то, клиенты же жидкие? (Кот)
Переругиваясь, они огибают достроенный кирпичный забор недостроенного стадиона. Вдоль забора обыкновенно идут от трамвайного круга, последней трамвайной остановки, редкие в такое время прохожие. Здесь есть еще один вход на стадион, но уже не парадные недостроенные ворота, а просто проем в заборе, ледяной ветер задувает и отдувает туда-сюда.
– Здесь и станем. По глотку хотите? (Кот)
– Что ж ты молчал-то?! Я совсем околел! (Гришка)
– НЗ. (Кот)
Водка согревает. И луна уходит в тучи, тучи ее проглатывают. Но вот прохожих нет. Правда и то, что трамваи ходят с большими промежутками, часто запаздывают, и в это время прохожих немного.
Им бы по домам, и, возможно, каждый по отдельности ушел бы и улегся, на чем они там спят, на родительской жилплощади. Обычно на диванах, занавеска отделяет родительскую кровать, еще за одной занавеской – бабка и малолетние брат-сестра. Но их трое, и они стесняются друг перед другом. Водка согрела, но ледяной сквозняк со стадиона пробирает до костей.
– Идут. Но двое. Мужик и баба. (Эд)
– Двоих не потянем. Баба орать будет. Ждем. (Кот)
– А может, сделаем их? (Гришка)
– Я говорю, не потянем. Ты забыл, что две бабы нам устроили летом у моста? Нет. (Кот)
Летом у моста они, правда, в большем составе, попытались ограбить двух хорошо одетых женщин с яркими украшениями в ушах и на запястьях, но женщины подняли животный крик, и им самим пришлось спасаться бегством, всей банде. Потом они стыдились друг друга до самой осени. Каждый думал: «Ну какие же мы молодые бандиты, если две орущие армянки нас распугали?»
– Нужно было армянкам врезать тогда. (Гришка)
– Ты тоже об этом думаешь? (Эд)
– Переоцениваю, извлекаю урок. (Гришка)
– Идет какой-то щуплый. Шапка на нем дорогая. Пыжик. (Эд)
– Его-то нам и надо. В крайнем случае шапку возьмем. (Кот)
Щуплый в пыжике идет к ним долго. То ли на самом деле не торопится, то ли напряженным нервам подростков кажется, что он приближается медленно. Обычно в это время прохожие спешат миновать недостроенный стадион – ограбления тут не раз случались. А этот не спешит.
Они грамотно дают ему миновать проем в заборе и набрасываются на него сзади.
– Стой, сука, мать-мать-перемать. Убью, мать, твою мать! (Гришка)
Гришка изо всех сил давит муляжом черного ТТ в плечо щуплого. Кот и Эд схватили щуплого за руки. Расстегивают ему пальто.
– Пошевелишься, убью, мать-мать-перемать твою, гада, мать, перхоть ты поганая! – рычит Гришка.
Эд проникает в многочисленные карманы пиджака и пальто щуплого. Несколько рублей, паспорт почему-то с собой.
– Ребята, вы чего, я получки еще не получал. Пустой я. Шапку возьмите, а я домой, меня семья ждет. Ребята, а? (Щуплый)
– Проверьте брючные у него тоже. (Гришка)
– Паспорт у него зачем-то. (Эд)
– Посмотри прописку. (Гришка)
– Ребята, возьмите шапку, она новая. За нее нормально дадут. (Щуплый)
– Он тут рядом живет, Материалистическая, двадцать три, квартира три. (Эд)
– Рядом совсем, третий вот дом отсюда. (Щуплый)
– Мы идем к тебе в гости. (Гришка)
– Ты что, псих? (Кот Гришке) Берем шапку и уходим!
– Согреемся у него и уйдем. Я околел, кости даже болят. (Гришка)
– Пошли ко мне, мальчики, – неожиданно соглашается Щуплый. – У меня и водка есть, и закуска. С дочерью познакомлю, она вашего возраста…
– О, у него и «товар» есть дома! (Гришка)
На языке того времени «товар» был синонимом современного «телка». Чаще употреблялся во множественном числе – «товары».
– Пошли. Паспорт твой пока у нас будет. Будем уходить, вернем. (Кот)
Гришка снимает муляж с плеча щуплого, просовывает руку под хлястик его пальто, и так они идут, как обнявшиеся пьяные. Кот и Эд сзади.
– На кой мы туда идем, мать-перемать? Григорий – псих ненормальный. (Кот)
– Зайдем, выпьем и уйдем, очень уж холодно. (Эд примирительно)
– Не нравится мне эта идея. Лучше б не заходить.
Кот оказывается очень прав.
Квартира номер три на первом этаже. Щуплый звонит несколько раз, и как-то по-особому звонит.
Кот смотрит на Эда, Эд – на Кота. Нарастает тревога.
– Сейчас откроет. (Щуплый улыбается)
Дверь распахивается. На пороге здоровенный мужик средних лет. На мужике «москвичка» – такой буклированный полушубок на вате, модный в те годы у провинциалов. «Москвичка» распахнута, грудь у мужика голая, а за поясом у мужика… топор.
– Вот привел сопляков, ограбить хотели! (Щуплый)
– Проходите, грабители. Сейчас мы вам бошки отрубим! (Мужик в «москвичке»)
Произнося эту страшную фразу, он втягивает в квартиру Гришку. Из-за спины мужика выскакивают не один и не два, а может, пять мужиков, втаскивают троих парней внутрь. Девочка-подросток там действительно есть, неизвестно, дочь ли Щуплого или нет. Девочка улыбается и включает радиоприемник (с зеленым глазком) на всю мощность. Шаляпин: «Милей родного брата блоха ему была! Блоха-ха-ха-ха-ха!»
На подростков падают удары. Бьют, бьют, бьют. Но не режут и не убивают. Кровь, сопли, распухшие сбитые носы и месиво из губ.
– Хватит, Коза, убавь Шаляпина. (Мужик в «москвичке»)
Шаляпин уже поет: «А ночь пришла, она плясала, пила вино и хохотала…»
– Вставайте, сопляки. Получили урок, и будет. Злой, налей пацанам по сотке. И закусить поставь. Грабители, мать-перемать-мать-мать. Птенцы вы… (Мужик в «москвичке»)
Мужик снимает «москвичку». Топор кладет на стол. Разглядывает муляж ТТ.
– А что, неплохо сделан. Веса только не хватает. Такие вещи нужно лить из свинца. Злой, налей и мне, я с сопляками выпью! (Мужик в «москвичке»)
Через час их выпроваживают на улицу. Теперь им не холодно, но больно. И они пьяные.
Они отходят подальше от злополучного дома и на недостроенном стадионе оттирают окровавленные физиономии снегом.
– Вы поняли, мы попали на воровскую малину? (Кот)
– Хорошо, что не на мусорскую. (Гришка)
– А ты молчи, Григорий, мать-перемать-мать, из-за тебя все и случилось. (Кот)
– Кто же мог знать? (Гришка)
– Голову надо иметь на плечах, а не кастрюлю. (Кот)
– А чего же вы за мной пошли? (Гришка)
– Слабость проявили. Сколько же они нам дали? (Эд)
– Сейчас скажу, посчитаю. (Кот считает бумажки). Сорок рублей!
– О, совсем неплохо! (Гришка)
– Ну да, мне, кажется, зуб выбили эти урки. (Кот)
– По домам или продолжим, джентльмены? (Гришка)
– Не, будет. Хватит на свою жопу приключений искать. (Кот)
Кот делит деньги на всех плюс одна доля на «общак». Как у взрослых. Со стороны глядя, три оборвыша, персонажи лондонских романов Диккенса с жалостным сюжетом «шел по улице малютка, посинел и весь дрожал».
Жмут друг другу руки и расходятся, сплевывая кровь.
Эд бредет один мимо гаражей, мимо профтехучилища, намеренно замедляя шаги. Он не хочет появляться с окровавленной физиономией на глаза родителям. Хочет дождаться, когда они лягут спать. Тогда он умоется на кухне коммуналки и прокрадется в комнату, где ляжет спать, не включая света.
Проходя мимо единственной в поселке пятиэтажки, он сворачивает во двор. Там обычно сидят ночь-полночь доминошники, стуча о ветхий стол, гоняют мяч подростки. Но в такой лютый холод там, конечно же, никого нет, уверен Эд. Он заходит во двор, чтобы убить время.
И во дворе воистину никого нет. Пусто.
От мусорного бака с пустым ведром все же идет живая душа, небольшая фигурка. Людка, рыжая девочка, училась с Эдом в одной школе, но перевелась в сто двадцать третью.
– Эд, ты чего тут? (Людка)
– Да вот тебя ищу. (Эд)
– А что у тебя с лицом? (Людка)
– Ничего. Мужики побили, взрослые. Вот гуляю, не хочу с такой рожей родителям показываться. (Эд)
– Идем ко мне, умоешься. У нас никто не спит, гуляют. (Людка)
Вскоре он уже сидит на большой кухне, а Людкина мать жалостно промокает его разбитое лицо. Охает и ахает при этом. Сообщает, что нос сломан. Она доктор, поэтому у них отдельная квартира.
– А мы холодильник купили, как раз в самые холода. Не угадали. (Людкина мать)
Действительно, в углу на табурете – холодильник.
– Сейчас все покупают… (Эд)
Юрий Мамлеев. День рождения

Вадим Угаров был человек непьющий, но пьян он бывал по другой причине, не от водки. Казалось, жизнь у него складывалась болезненно – в свои тридцать пять лет он, психолог по профессии, бросил постоянную работу и существовал в основном за счет сдачи комфортабельной квартиры, которая досталась ему по наследству от бабушки.
С женой он развелся, детей от этого в высшей степени неудачного брака не осталось.
Но было у него одно тайное утешение, которое превращало его в почти счастливое существо. Это утешение наступало тогда, когда кто-нибудь из его знакомых умирал.
Не то чтобы Угаров оказывался настолько злобным, что радовался чужому несчастью, нет; в душе своей он считал себя даже чересчур сентиментальным. Его радовало только одно обстоятельство: что умер не он, а другой человек, пусть даже и приятный для него. Это радовало Угарова так, что он дня три ходил как шальной от радости, а соседи по многоквартирному дому у метро «Сокол» в Москве считали, что в эти дни он просто бывал выпивши.
– Вот человек – не живет, а летает, – сказал о нем однажды один его задумчивый сосед, когда увидел Угарова в таком состоянии.
– Ну что ж, значит, божественный человек, – отметила тогда старушка-консьержка. – Побольше бы таких.
Естественно, Угаров как ранее практикующий психолог имел обширный круг знакомств, даже до неприличия обширный. Прямо-таки навязывался дружить с кем-нибудь или знакомиться (особенно с пожилыми людьми). Оттого и толкался частенько на похоронах.
Эту его особенность стали замечать некоторые пытливые умы, но у них не возникало никаких подозрений, ибо Угаров был не настолько глуп, чтоб открыто выражать свою крылатую радость. «Просто человек чувствительный, дружелюбный, это в наше дикое в нравственном отношении время надо ценить», – решали пытливые умы.
Один только его истинный друг, педагог, Мурашкин Борис, внушал ему:
– Ты, Вадимушка, поостерегся бы, ты все же до неприличия расцветаешь; на основании последних похорон говорю, – вещал Мурашкин, сам бедолага.
– Прости, но не могу сдерживаться, – разводил руками Угаров.
– Смотри, Вадим, пред Богом-то совестно будет.
Угаров краснел, а Мурашкин умилялся:
– Ишь, совесть-то какая у человека, нам бы у него учиться…
Дни, месяцы, годы неудержимо капали, но Угаров оставался неизменен. Боря Мурашкин, однако, не подозревал, что в совести Угарова образовалась черная дыра. Из этой дыры и стали выползать на свет вполне современные змеи и черви. Ранее этими похоронами Угаров как-то поддерживал равновесие в своей угрюмой жизни, но теперь равновесие рухнуло.
Угаров стал замечать, что стало тянуть на подлость по отношению к людям. Зло, пусть и мелкое, ничтожное, стало притягивать его к себе, как просвещенного пьяницу – бутылка чистейшего коньяка типа «Наполеон» и так далее.
Угаров долго боролся с этим пристрастием, хотел глушить его религиозными изысканиями, но ничего ему не помогало. Особенно блаженствовал он в Интернете. Такой клеветой обливал полуневинных, достойных людей, что самому тошно становилось.
И, главное, не совсем это была клевета. Угаров, несмотря на свое похоронное пьянство, был весьма интуитивен и находил слабые места или темные пятна у известных людей, которых хотел облить душераздирающими помоями.
– Кто это так орудует? Ведь и не найдешь кто. Умелый какой-то подлец, даже страшноватый, иногда в полуточку попадает, – вздыхали умные люди.
– Главное – испортить людям веру в себя, – восхищался собой Угаров. – Надо вообще перейти к знакомым, друзьям, я же психолог, черт возьми, знаю их как на ладошке и уверен, в какое место безошибочно ударить, чтобы было побольней.
Мурашкин о новой тайне его души ничего не подозревал, а если б на него нашел хоть намек, то он испугался бы и сбежал, ибо в глубине он оказывался человеком крайне трусливым, особенно перед лицом всего непредсказуемого. Непредсказуемое Мурашкин ненавидел и душевно боялся.
Ничего не подозревали и родственники Угарова. Собственно говоря, у него в родственниках оставались только его двоюродный брат Виктор Акимов, юрист, и его жена Лариса Петровна, или просто Лара. Лара представляла собой очаровательную женщину лет тридцати, образованную, – чистой души человек.
Она была страстной поклонницей Чарльза Диккенса, даже знала наизусть страницы из его романов.
Лара не раз утверждала, объясняла даже, почему Диккенс так дорог ей.
– Что меня радует, – говорила, – это то, что в конечном итоге в его романах побеждает добро. Это такая редкость для литературы нашего времени. Причем Диккенс вовсе не приукрашивает жизнь… Зло у него выверено, очерчено, и я восхищена, что нет половинчатости, его герои – или злодеи, или благородные, добрые личности. Нет сомнений, все ясно и убедительно.
Ее муж, Виктор, сам по себе добрейшее существо, насколько это, конечно, возможно в этом мире, неизменно соглашался с ней.
– Нам бы ребеночка, – вздыхал он. – Такого ангелочка, какие у Диккенса бывают.
Угаров только умилялся, слушая такие речи двоюродного брата. И настойчиво выбрасывал в Интернет свои шедевры.
К примеру, один из них, посвященный весьма известному человеку в сфере науки, к тому же на редкость добродушному, выглядел так:
«Этот странный человек сочетал в себе благородство души наряду с такими качествами, о которых я не решусь даже пикнуть, но все же напишу. Его сексуальные наклонности: инцест, скотоложство, зоопедофилия (был уличен в половой связи с щенятами). Кроме того, он тайный миллиардер, на совести два-три убийства путем отравления, агент новозеландской мафии, богоборец, сектант, член секретной организации „Конец мира“. Его мать – сумасшедшая, не выходит из психбольницы, где она и родила в свое время нашу знаменитость. Его сын сбежал в неизвестном направлении, оставив записку: „Люблю тьму“».
Такими излияниями Угаров насыщал Интернет. В двух случаях персонажи его разоблачений попадали: один – в больницу с сердечным приступом, другой – с нервным срывом в психиатричку.
Угаров уверял самого себя, что принцип нагромождения человеческих пороков, даже самых диких, всегда безошибочен и работает, ибо хоть что-то из этих пороков и преступных деяний попадет в цель.
«Жизнь кошмарнее любых фантазий», – со смаком повторял Угаров. Мурашкин, не зная, конечно, о прозрениях Угарова в Интернете, тем не менее не отказывал себе в удовольствии пообедать с Угаровым, когда кто-нибудь из знакомых последнего умирал. Вадим неизменно устраивал такие пиры, да еще включал легкомысленную музыку, разделяя свое счастье с Мурашкиным.
Мурашкин все же не выдерживал и после двух-трех стопок водки повторял:
– До чего ж ты мерзок, Угаров. Я тебя люблю, но ты жуток. Как злодеи из романов Диккенса, даже хуже.
Угаров не обижался, даже воспринимал такие речи как похвалу. Но все же убеждал:
– Пойми, Мурашкин, что я радуюсь не тому, что умер человек, а тому, что я жив, что я не умер. Это большая разница. По поводу покойника я скорблю, а по поводу себя радуюсь. И тебе советую то же самое. Пляши, пока жив. Вот мой лозунг.
Мурашкин слезливо соглашался.
После восьмой стопки Угаров обычно совсем распоясывался:
– Пойми, Боря, как я обожаю беззащитных. Покойников, например, или бездомных собак. Я плачу, когда вижу несчастную собаку или кошку.
И порой в глазах Угарова при таких признаниях мелькали слезы, словно он превращался в ангелочка.
– Не думай, Боря, что я людоед, – заявил он как-то Мурашкину в конце такого пира. – Да, я мерзок, но душа моя чиста… Я вот недавно котенка приютил.
И Угаров вынул откуда-то малюсенького котенка и положил его на стол, между бутылок пива. Мурашкин прослезился.
– Ты знаешь, Вадимушка, – признался он, – я верю, что у тебя чистая душа, но мне с тобой страшно…
– Тебе, Мурашкин, везде страшно, – поправил его Угаров.
– Неправда. Не везде. С тобой хорошо, но страшно.
– А где еще страшно?
– В мире.
Угаров хохотнул.
– До чего ж ты мил, Боря…
«Пир» закончился тем, что расцеловали котенка, помянули добрым словом покойника (Угаров прослезился), наконец сами расцеловались и хотели было расстаться, но Угаров предложил:
– Давай еще одного котенка спасем?
Мурашкин согласился, и они вышли искать. Мимо бесчисленных машин, воя и угара, часа через полтора они наткнулись на котенка, прижавшегося к колесу припаркованного автомобиля. Словно он искал в своей смерти спасения.
Угаров подобрал его, сунул в пиджак, во внутренний карман, и предложил Мурашкину зайти в кафе, тут, рядом, чтобы обмыть котенка.
Мурашкин, вечно безденежный, обрадовался, и они зашли.
Там, у ночного столика, в тусклом свете стенной лампы, глядя на тьму вокруг, они обмыли котенка. Тот пищал.
– Достоевщина какая-то двадцать первого века, – пробормотал Мурашкин под конец запоя.
Однако Угаров, еле стоя на ногах, котенка все-таки донес в свою берлогу…
…Более или менее так текли дни. Время не остановить.
Весной Угаров решил съездить на свою дачу. Недалеко от Москвы, но поселок этот дачный приютился где-то на отшибе. И дачка его была на отшибе, совсем плохонькая. Добираться туда было нелегко. Но Угаров любил бывать на отшибе.
Приехал он к вечеру, не усталый, но злой. «Черт бы все побрал» – так и вертелось в уме.
Но потом успокоился. Выпил чаю с коньячком и задремал. Снился ему Интернет. Заснул Угаров в кресле, чтобы не лежать в постели и принимать тем самым позу покойника. Этого Угаров старался избегать, по мере сил, конечно.
И вдруг сновидения про Интернет и его собственное вдохновенное творчество там внезапно остановились. Угаров открыл глаз и почувствовал, что в его домике появились нежданные гости. Домик, сам одноэтажный, хиленький, не внушал доверия.
Наконец Угаров явственно услышал, что кто-то в соседней комнате шумит, словно там появилась огромная крыса.
Угаров хохотнул и привстал. Он имел привычку не бояться крыс. И смело побрел вперед. Вышел в коридорчик и задумался, решив зайти в туалет, благо он был рядом. Туалет, правда, был донельзя нелеп и неудобен. Угаров открыл туда дверцу и ахнул: на толчке сидел огромный, грузный мужик и таращил на него глаза.
– Ты что тут шляешься? – глухо спросил мужик почти в никуда, словно он спрашивал призрака, а не человека.
Угаров онемел.
Мужик угрюмо повторил вопрос.
Угаров тупо молчал.
– Тебя там кто-то обижает, киса? – раздался голос, точно из-под луны. И в коридорчике появился другой мужик, высокий и со странно длинными руками, будто созданными специально для того, чтобы душить.
Наконец Угаров опомнился.
– Грабить пришли? – тоскливо спросил он.
– Пойдем к нам, поговорим, – сказал длиннорукий и указал на комнату, из которой вышел. Угаров как-то деловито, но с легким безумием пошел вслед за ним. Последним последовал грузный, которого длиннорукий назвал «киса».
Вошли. Комната выглядела анархично. Посреди – небольшой круглый стол, три стула; в остальном все было кое-как.
– Все возьмите, только не убивайте, – сдавленно произнес Угаров. – Я хороший, – добавил он, садясь.
Те тоже расселись. На его просьбу, видимо, никто из них не обратил внимания.
– Мужик, – спросил длиннорукий, – ты мне ответь, почему ты такой нищий? Здесь взять нечего…
Угаров смутился.
– Я тут не живу, – пробормотал он.
– Ты чем бабло зарабатываешь? – тихо спросил грузный. – По тебе видно, что ты не воруешь.
– Я психолог.
– Ты – псих? И за это платят?! – расхохотался длиннорукий.
В груди Угарова почему-то затеплилась надежда, что его не убьют, и, чтоб поддакнуть, он тоже мнимо расхохотался. Но в хохоте таилась дрожь.
Грузный задумчиво глянул на Угарова.
– Обидел ты нас своей нищетой… Ну да ладно. А что, ты правда псих?
– Психолог. Я изучаю переживания людей, их чувства…
– Интеллигент, значит. И так обнищал, – грузный еще более глубоко задумался. – Давай водки выпьем за знакомство. У нас водка не в обиде…
И, откуда ни возьмись, появилась бутылка. Длиннорукий достал из поганого шкафа стаканы, грязные, как смерть.
– Водка все простит, – произнес грузный. – Разольем. Разлили.
– Хорошо, – грузный вздохнул. – Но ты мне скажи – псих ты или психолог, все равно, – если я человеку, как говорят, своему брату, голову отрежу ножом, что во мне будет? Голова на полу…
– Совесть пробудится, – глухо ответил Угаров. Длиннорукий чуть не упал со стула.
– Ну ты загнул! Сразу видно – псих… Мы – люди обыкновенные, нормальные… Но ты мне нравишься, – вздохнул грузный.
Тогда Угаров решил прикинуться идиотом, лишь бы не убили. Длиннорукий взмахнул руками и брякнул, чуть возмущенно:
– И за это тебе деньги платят? А мы тут трудимся, воруем, брюхом рискуем – и всё за поганое бабло… А ты устроился…
Угаров не знал, что сказать, и от страха бормотнул:
– Нам мало платят.
Длиннорукий возмутился:
– И что? А чего человеку надо? Ты, думаю, сыт и пьян… Крыша есть. Чего еще?
Угаров развел руками и произнес:
– Виноват.
В ответ два пришельца лишь захохотали.
– Выпьем!
Выпили.
– Как тебя звать-то?
– Вадим.
– Вадимчик, ты нас доведешь. Смех – дело опасное.
– Я всегда так думал, – произнес Угаров и стал поддакивать пришельцам во всем, что бы они ни говорили.
А говорили они порой такие дикие вещи, что Угаров даже не мог понять, о чем идет речь. Логика отказывала ему, и, пораженный этим, Угаров под конец заплакал. Пришельцы не удивились.
– Правильно, Вадим, правильно. Плачь. Ничего у тебя нет: ни ума, ни бабла, ни дома, похожего на дачу… У нас тоже ничего нет, но мы этому рады. Главное – у нас души нет, но нам не страшно…
Угаров вылупил глаза от таких глубокомысленных слов, и слезы его сразу высохли. «Ну и ну, – подумал он. – А что? Хорошо, если меня зарежут философы, красиво будет…»
Но вместо этого грузный вынул из внутреннего кармана своего рваного пиджака такую огромную пачку денег, и, видимо, все купюры пятитысячные, что Угаров опять обалдел, но уже в другую сторону, и даже облизнулся.
Грузный изъял из этой пачки пятитысячных на глаз эдак на сто тысяч рублей и вручил их ошалевшему Угарову, который от такого подарка пошевелил ушами.
– Нам бабла не жалко. Бери. Угощайся.
Длиннорукий подхватил:
– Не горюй, Вадимчик. То ли еще будет… Мы пошли.
Пришельцы встали, собрались и вышли. Угаров так и цепенел на стуле. Потом взглянул в окно. Уже светлело, и в глубоком утреннем тумане он увидел, как две одинокие фигуры пришельцев медленно уходят, исчезают из виду, тонут в пространствах и туманах.
Наконец Угаров встал, деньги припрятал ближе к сердцу, но в полусуществующем шкафу нашарил початую бутылку спиртного и жадно всё выпил, радуясь, что живой.
О пришельцах не думал; решил: «Бог с ними, кто их знает, откуда они и где воруют и воруют ли они вообще. Не мое это дело. И без этого ум пошатывается от того, что творится в мире».
Покачав головой, Угаров лег спать. Ему снились бесчисленные дико орущие лица. Это визжали те, о которых он писал анонимки в Интернете. От этого внутреннего визга в своем сновидении он и проснулся. Солнце тупо смотрело в окно.
Угаров решил бежать от трудностей жизни, голова трещала, но ноги ходили. Не забывая о подарочных деньгах, он добрался до ближайшей автобусной остановки, доехал до железнодорожной станции…
Вернувшись домой, Угаров впал в сумеречное состояние. К тому же он побаивался ночью заходить в свой клозет. «Вдруг открою дверь, а на родном толчке сидит оно… иное существо… кто-то…» – дремалось ему в уме.
Но дома его ждала весть. Только он прилег, чтобы очухаться, как загремел мобильник, и не кто-нибудь, а его двоюродный брат Витя Акимов пригласил его на крестины и одновременно день рождения своего годовалого сына, младенца, по существу. Торжество должно состояться через два дня.
Угаров хотя и выругался про себя, но согласился. Брат есть брат, пусть и двоюродный…
…Акимовы действительно готовились к торжеству. Младенцу Димочке исполнялся год, но, главное, отец, Виктор Акимов, согласился его крестить. К этому его склонила его прекраснейшая супруга Лариса Петровна, или просто Лара. Виктор вообще был добродушнейшее существо, человечество любил, но в Бога не верил. Лара убедила его если не верить, то хотя бы крестить младенца.
Сама Лара в свои тридцать лет давно уже пришла к вере в Бога, хотя родилась в сугубо атеистической семье. Сдвиг к вере произошел благодаря чтению русской литературы, классики, конечно, и Диккенсу. Воздействие от русской классики перевернуло всю ее душу, уничтожило все маразмы и метастазы атеизма и материализма; рухнуло влияние циклопов мира сего, и в ее душе, где-то в глубине, пробудилось то, что вполне можно назвать отраженным светом бессмертия. В общем, все случилось как надо.
С Диккенсом же у Лары отношения были не такие мистические, как с русской литературой, зато более интимные. Ей настолько по душе пришлась вера Диккенса в конечную победу добра в человеке, несмотря на жестокость мира, что она стала ликовать, почувствовала облегчение душевное в том смысле, что человек и добрые начала в мире неотделимы. Она восхищалась благородными героями Диккенса.
Ее муж долго хитрил перед лицом ее горячей веры. В добро-то он верил, а в Бога и в бессмертие души – нет. Лара атаковала его больше по линии бессмертия души в том плане, что без этой веры жизнь превращается в бред, насмешку, наконец, в полный идиотизм всего существующего. «Атеизм и материализм – это капитуляция перед смертью», – не раз говорила она ему.








