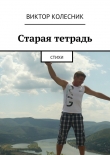Текст книги "Тетрадь третья"
Автор книги: Марина Цветаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Семья? Даровитый, самовольный, нравом и ухватками близкий, нутром, боюсь (а м. б. – лучше?) новый – трудный – Мур.
Вялая, спящая, а если не спящая – так хохочущая, идиллическая, пассивная Аля – без больших линий и без единого угла.
С. рвущийся.
Вырастет Мур (Аля уже выросла) – и эта моя нужность отпадет. Через 10 лет я буду совершенно одна, на пороге старости. С прособаченной – с начала до конца – жизнью.
* * *
(1931 г. – 1938 г. – Прошло – семь.)
* * *
…Поклонники лирических слюней…
(Потребители)
* * *
Сон
(среди бела дня, проснулась ровно в 5 ч.)
Мы в гостях у художников.[104]104
Речь идет о чете художников – Георгии Калистратовиче Артемове (1892–1965) и Лидии Андреевне Никаноровой-Артемовой (1895? – 1938).
[Закрыть] Она и какие-то подруги. Оказывается – всё перепутали: приглашены на 71/2 веч<ера>, а сейчас четырех нет. Разговор о неверности будильника. Глядим в окно: двор, а во дворе: две – нет, четыре – нет, восемь – нет, шестнадцать – словом множащиеся на глазах собаки: щенки, часть черных с желтым, часть волки. И двое – нет, четверо – нет, восьмеро – и т. д. – родителей.
Выходим. Оказывается – всё это глубоко под водой: пруд. И вдруг Аля, совершенно одетая, спускается. Еле голова торчит. Я: – Аля! Ты с ума сошла! И тут же вижу – Мур – который весь с головой, естественно. Краем водоема подходит Ар<темо>в, спускается и вытаскивает Мура. Я, сильно ругаясь, особенно Алю – за пример, прохожу по широкой внешней лестнице с обоими в дом. Аля уже переоделась, посылаю ее – мгновенно домой – за вещами Мура, выхожу с ней в переднюю, и, когда возвращаюсь, Мур уже переодет окончательно. – «Но – как он влез в эти башмаки??!» А<ртемо>ва, улыбаясь: – «О, он их расширил!» (как в жизни – нараспев голоса и улыбки) Детские, даже не детские, кукольные, с маленькой куколки туфельки. Белое кружевное платьице, чепчик. Удивляюсь. Лицо – фарфоровое, голубые фарфоровые движущиеся глаза. – Мур, это ты? – Улыбка. Я – какой-то прислуге, француженке: – Mais ce’est pas lui, ça ne peut pas être lui, ça ne peut pas être un enfant de cinq ans![105]105
«Но это не он, это – не может быть им, это – не может быть ребенком пяти лет!» (фр.)
[Закрыть] – Соглашается. (Мысль: значит – обманули! Утонул, и А<ртемо>ва подменила.) Выхожу на широкую лестницу, со всё той же куклой на левой руке и – видение: Мур, без верхних штанов, победоносный, с французскими мальчишками – множество взрослых – откуда-то возвращается. – Ты где был? – Я на трамвае ездил, сам билет взял, потом меня вернули…
Мальчишки восторженно подтверждают.
* * *
Набросок неотосланного письма И. С. (не Игорь Стравинский!)[106]106
Обращено к Игорю Северянину (наст. имя: Игорь Васильевич Лотарев, 1887–1942). Северянин выступал в Париже с чтением своих стихов дважды: 12 и 27 февраля 1931 г. Цветаева была на втором чтении.
[Закрыть]
…Начну с того, что это сказано Вам в письме только потому, что не может быть сказано всем – в статье. А не может – потому что в эмиграции поэзия на задворках – раз, все места разобраны – два: там-то о стихах пишет А<дамови>ч и никто более, там-то – другой – ович и никто более – и так далее. Только двоим не оказалось места: правде и поэту.
От лица правды и поэзии приветствую Вас, дорогой.
От всего сердца (своего) и от всего сердца вчерашнего зала: от всего сердца всего вчерашнего зала – благодарю Вас, дорогой.
Вы вышли. Подымаете лицо – молодое. Опускаете – печать лет. Но – поэту не суждено опущенного! – разве что никем не видимый наклон к тетради! – всё: и негодование, и восторг, и слушание дали – далей – вздымает, заносит голову. В моей памяти – и памяти вчерашнего зала – Вы останетесь молодым.
(Ваш зал… Зал – с Вами вместе двадцатилетних… Себя пришли смотреть: свою молодость: себя – тогда, свою последнюю, как раз еще успели! – молодость: любовь… В этом зале были – те, к<отор>ых я ни до ни после никогда ни в одном литературном зале не видела:
Все пришли. Привидения пришли, притащились… Поглядеть на себя. Послушать – себя.
Вы – Вы были только та, Саулу показывавшая – Самуила…)
…Слушая Ваши стихи я думала: лучше – старой с тобой, чем молодой – с другими. Так, думаю, думали все, молодыя и старыя, молодые и старые. (Те двое м. б. думали – в первый раз!)
Это был итог. Двадцатилетия. (Какого!) Ни у кого м. б. так не билось сердце, как у меня, ибо другие – все! – слушали свою молодость, свои двадцать лет – тогда! двадцать лет – назад, я же – кроме – я ставила ставку на силу поэта. Кто перетянет – он или время. И перетянул – он: Вы.
* * *
Среди стольких призраков, сплошных привидений – Вы один были – жизнь: двадцать лет спустя.
Ваш словарь. Справа и слева шепот: не он!
Ваше чтение: Справа и слева шепот: не поет!
Вы выросли, Вы стали простым и большим, поэтом больших линий и больших вещей, Вы открыли то, что Вам отродясь было открыто: – ПРИРОДУ, Вы раз-нарядили ее…
И вот, конец первого отделения, в котором лучшие строки:
– И сосны, мачты будущего флота…[107]107
Неточная цитата из ст-ния «Вода примиряющая» (1926).
[Закрыть]
ведь это и о нас с вами, о поэтах – эти строки. Я задохнулась от величия.
* * *
Сонеты.[108]108
Речь идет о большом цикле сонетов о поэтах, писателях и композиторах, выборку из которого Северянин читал на вечере. Ст-ния этого цикла составили впоследствии сб. Северянина «Медальоны».
[Закрыть] Я не критик и нынче – меньше, чем всегда. Прекрасен Лермонтов – из-под крыла, прекрасен Брюсов – «всю жизнь мечтавший о себе, чугунном» – прекрасен Есенин – «благоговейный хулиган» – может, забываю – прекрасна Ваша любовь: поэта – к поэту (ибо множественного числа – нет, всегда – единственное). Поэтом в Вас Вы мне напомнили Бальмонта (и любили мы вас обоих – одной любовью).
* * *
И – то, те! И, к моему счастью – лучшие из тех, не любимцы публики: Соната Шопена, Нэлли, Каретка куртизанки[109]109
Ст-ния из сб. «Громокипящий кубок».
[Закрыть] – и другие – но любимые Ваши: чудесная плотина (NB! перечень) Ваша лучшая, Ваша вечная молодость.
И – последнее. Заброс головы, полузакрытые глаза, дуга усмешки, и – напев – тот самый – тот ради которого – и тот без которого – тот напев – нам – как кость – или как цветок… – Хотели? нате!
– в уже встающий – уже стоящий – разом вставший – зал.
* * *
И эта соловьиная песнь конца, самого конца, после которого уже не было ни строки, ни кивка:
– Я так бессмысленно-чудесен,
Что смысл – склонился предо мной[110]110
Финальные строки ст-ния «Интродукция» (1918).
[Закрыть]
* * *
Эта самопеснь – всех соловьев!
Такого не сказал и Бальмонт.
* * *
За вечер ни слова (прозы). Ни даты. Только стихи. Стихи сами всё
(Не окончено и не отослано: И. С. уехал утром следующего дня. Так я его увидела в первый и в последний раз. МЦ)
* * *
(Всё это – последние числа февраля 1931 г., м. б. 28-ое – п. ч. дальше уже вновь черновик очередной главы «Вот двое…» помеч<енный> 1-ым марта 1931 г.)
* * *
Мур – нынче, 5-го марта 1931 г., в постели, вечер
– Я не хочу с волосами! Я хочу с голой кожей!
(NB! Но – что? Игрушку? Но какие это игрушки, кроме медведей, к<отор>ые ужасны с голой кожей. Очевидно – какая-нибудь еда, ибо запись явно из-за несоответствия вещи – и волосатости.)
* * *
Четверг – не пойдя в школу к К<арсави>ным (где учится по-русски, раз в неделю)
– Вот я сейчас и сравнялся четвергом с другими детьми.
* * *
Про нянь:
– А – мое счастье, что у меня нет няни. В России нет нянь.
– В России?! Сплошь няни.
– Да, знаю какие: в платке – со скулами – ужжасные в профиль!
* * *
МОЯ СУДЬБА
– как поэта —
в до-революционной России самовольная, а отчасти невольная выключенность из литер< атурного> круга – из-за раннего замужества с не-литератором (NB! редкий случай), раннего и страстного материнства, а главное – из-за рожденного отвращения ко всякой кружковщине. Встречи с поэтами (Эллисом, Максом Волошиным, О. Мандельштамом, Тихоном Чурилиным) не – поэта, а – человека, и еще больше – женщины: женщины безумно любящей стихи. Читатель меня не знал, п. ч. после двух первых – самонапечатанных, без издательства – детских книг – из-за той же литературной оторванности и собственной особости: ненавидела, напр., стихи в журналах – нигде не печаталась. Первые стихи в журнале – в Северных Записках, п. ч. очень просили и очень понравились издатели, – в порядке дружбы. Сразу слава среди поэтов. До широкого круга не дошло, п. ч. журнал был новый – и скоро кончился. Всё скоро кончилось.
Революция. В 1918 г. читаю стихи в Кафэ поэтов. Раз выступаю на вечере поэтесс. Успех – неизменный, особенно – Стеньки Разина: «И звенят-звенят, звенят-звенят запястья: – Затонуло ты – Степаново – счастье!»
Перед отъездом из Р<оссии> выпускаю у Архипова[111]111
Архипов Николай Архипович (наст. имя: Моисей Лейзерович Бенштейн, 1881 – не ранее 1945) – беллетрист и издатель; был главным редактором издательства «Костры».
[Закрыть] (был такой!) маленькую книжечку «Версты» (сборничек) и Госиздат берет у меня Царь-Девицу и другие Версты, большие.
* * *
Заграница.
В 1922 г. в Берлине, еще до меня, появляются книжки (собственно, отрывки из Ремесла) – Стихи к Блоку и Разлука.
Приехав, издаю – Ремесло (стихи за 1921 г. по апрель 1922 г., т. е. отъезд из Р<оссии>), Царь-Девицу – с чудовищными опечатками и Психею (сборник, по примете романтики) купленную Гржебиным еще в Р<оссии>. Потом, в Праге, в 1925 г. – Мóлодца. Потом, в Париже – каж<ется> в 1927 г. – После России (за к<отор>ую не получаю ни копейки).
Читателя в эмигр<ации> нет. Есть – на лучший конец – сто любящих. (NB! Гораздо больше, но 1) я их не знаю и не вижу 2) они – хоть тысячи! – для меня ничего не могут, п. ч. у читателя в эмиграции нет голоса. Для полной справедливости скажу, что на мои рядовые вечера – именно на вечера-чтения: без всяких соблазнов! выхожу и читаю – годы подряд приходили всё те же – приблиз<ительно> 80 – 100 человек. Я свой зал знала в лицо. Иные из этих лиц, от времени до времени исчезали: умирали. 1938 г. Ванв.)
Моя внешняя литер<атурная> неудача – в выключенности из литер<атурного> круга, в отсутствии рядом человека, к<отор>ый бы занялся моими делами.
Внутренняя – нет, тоже внешняя! – ибо внутренние у меня были только удачи – в несвоевременности моего явления – что бы на двадцать лет раньше.
Мое время меня как действующую силу – смело и смело бы – во всякой стране (кроме одной огромной и нескольких, многих (еще – многих!) маленьких). Я ему не подошла идейно, как и оно мне. «Нам встречи нет, мы в разных станах».[112]112
Начальная строка ст-ния Ахматовой из сб. «Anno Domini».
[Закрыть] Я – в стане уединенных, а он – пустыня с всё редеющими сторожевыми постами (скоро – просто кустами – с костями). Мало того, оно меня оврáжило и, естественно, огромчило, мне часто пришлось говорить (орать) на его языке – его голосом, «несвоим голосом», к<оторо>му предпочитаю – собственный, которому – тишину.
Моя неудача в эмиграции – в том, что я не-эмигрант, что я по духу, т. е. по воздуху и по размаху – там, туда, оттуда. А содержания моего она, из-за гомеричности размеров – не узнала. Здесь преуспеет только погашенное и – странно бы ждать иного!
Еще – в полном отсутствии любящих мои стихи, в отсутствии их в моей жизни дней: некому прочесть, некого спросить, не с кем порадоваться. Все (немногие) заняты – другим. В диком творческом одиночестве. Всё – auf eigene Faust.[113]113
на свой страх и риск (нем.)
[Закрыть] От темы вещи до данного слога (говорю именно о слогах). Ненавидя кружки, так хотела бы – друзей.
В душности моего быта. В задушенности им.
Не знаю, сколько мне еще осталось жить, не знаю, буду ли когда-нб. еще в Р<оссии>, но знаю, что до последней строки буду писать сильно, что слабых стихов – не дам.
Но знаю еще, что по сравнению с – хотя бы еще чешской захлёстнутостью лирикой (1922 г. – 1925 г.) я иссохла, иссякла, – нищая. Но иссыхание, иссякновение – душевное, а не стихотворное. Глубинно-творческое, а не тетрадное.
Знаю еще, что стóит мне только взяться за перо…
Знаю еще, что всё реже и реже за него берусь.
(NB! здесь говорю о лирике, т. е. отдельных лирических стихах, к<отор>ые приходят – и, неосуществленные – уходят… 1938 г.)
Господи, дай мне до последнего вздоха пребыть ГЕРОЕМ ТРУДА:
– Итак, с Богом!
* * *
Мёдон, 3-го июня 1931 г. (нынче впервые была на Колониальной выставке. Любуясь всем – Господи, до чего мне всё не нужно (не насущно) что не слово!)
МЦ.
* * *
Тетрадь – большая, светло-зеленая, с красным корешком – кончается на словах: – Сияющее на лицах: – «Свобода – пожива – землица!» – 3-го – 5-го июня 1931 г., в Мёдоне.
* * *
Отрывки письма к P. M. Р<ильке>, еще летом 1926 г. – St. Gilles-sur-Vie (Vendée) – несколько листков блок-нота. Хо-чу спасти – хоть это. Все мои письма к нему остались у него, я их потом не взяла, не захотела взять.
…Was ich von Dir will, Rainer? Dass Du mir erlaubst jeden Augenblick meines Lebens zu Dir aufblicken – wie auf einen Berg, der da ist. Bis ich Dich nicht kannte – ging es, jetzt, da ich Dich «kenne» – bedarf es Deiner Erlaubnis.
Denn gut erzogen bin ich und gleiche nicht einer «Dichterin».
Denn meine Seele ist gut erzogen.
* * *
Aber schreiben will ich Dir – ob Du willst oder nicht. Über Dein Russland (Tsarenkreis, Riese von Murom, Nachtigall…).
Deine russischen Buchstaben. Die Rührung. Ich, die wie ein Indianer nie weine…
Darf ich Dich umarmen? («Nicht Rüssen! Küssen ist was so gemeines!» – das erste Gretchen von Goethe.) Dich umarmen wie Du den Boris: göttlich und brüderlich.
* * *
…Ich las Deinen Brief am Ozean, der Ozean las mit. Ob Dir so ein Mitleser nicht störend ist? Denn kein Menschenauge liest je eine Deine Zeile zu mir.
* * *
…Ich schicke Dir meine Gedichtbücher – lesen brauchst Du sie nicht – leg sie auf Deinen Arbeitstisch und glaub mir ums Wort, dass sie vor mir nicht da waren, so wenig auf der Welt da waren, wie auf Deinem Tisch.
* * *
(Переворачиваю листок блок-нота: очевидно начало письма, п. ч. на Вы)
…Was nach Ihnen ein Dichter noch thun kann? Einen Meister überwindet (und überschreibet) man, aber Sie überwinden heisst die Dichtung überwinden, das ist doch keine Aufgabe für einen Dichter, der das Leben überwinden soll.
Sie sind eine schwere Aufgabe für kommende Dichter. Man muss einfach Sie sein, d. h. Sie müssen noch einmal geboren werden.
Sie geben den Worten ihren ersten Sinn, und den Dingen – ihre erste Worte. Z. B., wenn Sie grossartig sagen, sagen Sie von grosser Art, so wie es gemeint war bei der Entstehung. (Jetzt ist grossartig ein hohles Ausrufungszeichen.)
Russisch hätte ich Ihnen dies alles viel reiner gesagt, aber ich will Ihnen nicht die Mühe geben sich hineinzulesen, ich will mir lieber die Mühe nehmen – mich hineinzuschreiben.
Das erste was mich in Ihrem Brief auf den höchsten Turm der Freude warf (denn fallen kann man auch nach oben!) war das Wort Maÿ, das viel Jahrhunderte alte Wort Maÿ – darum so jung! —
Das Wort Maÿ, dem Sie den alten Adel wiedergaben.
* * *
Wissen Sie, wie ich heute Ihre Bücher erhielt? Die Kinder schliefen, ich sprang plötzlich auf und lief zur Thüre. Im selben Augenblick – ich hatte schon die Hand auf der Thürklinke – pochte der Briefträger – mir gerad in die Hand. Ich hatte nur zuzudrücken und mit derselben, noch pochenden Hand die Bücher empfangen.
Ich habe sie noch nicht aufgemacht, denn sonst geht der Brief heute nicht ab, und er soll – fliegen.
* * *
Das letzte.
Als mein Mädchen noch ganz klein war – zwei, drei Jahre, fragte sie mich immer vor dem Schlafengehen:
– А ты будешь читать Рейнеке?
Reinecke – so klang bei ihr Rainer Maria Rilke. Denn so kleine Kinder haben noch keinen Sinn für Pausen.
* * *
Über die Vendée will ich Dir schreiben, meine heroïsche französische Heimat (in jedem Land und Jahrhundert mindestens eine). Ich bin da dem Namen wegen.
* * *
Die Schweiz lässt keine Russen hinein. Aber die Berge sollen sich spalten und uns – den Boris und mich – zu Dir lassen. Ich glaube an Berge (die Zeile – erkennst Du doch?). Meine Umänderung ist keine, denn Berge und Nächte – reimen.
* * *
Jetzt, das allerletzte («sie kann nicht enden»).
Da ein Schreibebuch für Dich – aus Prag – Deiner Heimatstadt – ich bin glücklich nichts darin geschrieben zu haben: zu schön für mich, nicht schön genug für Dich – denn ein Spartaner bin ich (der, mit dem Fuchse!) – und ein Athener bist Du – einer vom Mythenathen, nein: einer von denen bist Du, die über Athen und Sparta und Troya – standen.
…Чего я от тебя хочу, Райнер? Чтобы ты позволил мне каждый миг моей жизни подымать на тебя взгляд – как на гору, которая здесь есть. Пока я тебя не знала – я могла и так, теперь, когда я «знаю» тебя – мне нужно твое позволение.
Ибо я хорошо воспитана и не похожу на «поэтессу».
Ибо душа моя хорошо воспитана.
* * *
Но писать тебе я буду – хочешь ты этого или нет. О твоей России (цикл «Цари», богатырь из Мурома, Соловей-разбойник…).[114]114
Цикл «Цари» входит в сб. Рильке «Книга образов»; Илья Муромец упоминается в первом ст-нии цикла, Соловей-разбойник – во втором.
[Закрыть]
Твои русские буквы. Умиление. Я, которая как индеец никогда не плачу…
Можно ли обнять тебя? («Не копоть! Это именно поцелуи низки!» – первая Гретхен Гёте.) Обнять тебя, как ты Бориса: божески и братски.
* * *
…Я читала твое письмо на океане, океан читал со мной. Тебе не мешает такой читатель? Ибо ни один человеческий глаз никогда не прочитает ни одной твоей строчки ко мне.
* * *
…Я посылаю тебе свои книги стихов[115]115
Цветаева отправила Рильке Стихи к Блоку и «Психею».
[Закрыть] – можешь не читать их – положи их на свой письменный стол и поверь мне на слово, что до меня их не было, так же не было на свете, как и на твоем столе.
* * *
…Что после Вас остается делать поэту? Можно преодолеть (пере-писать) мастера, но преодолеть Вас означает преодолеть поэзию, и это все еще не конечная цель для поэта, который должен преодолеть жизнь.
Вы тяжкая задача для будущих поэтов. Кто-то просто должен будет стать Вами, т. е. Вы должны будете еще раз родиться.
Вы возвращаете словам их изначальный смысл, а вещам – их изначальные слова. Например, когда Вы говорите «великолепно». Вы говорите о «великой лепоте», о значении слова при его возникновении. (Теперь «великолепно» лишь стершийся восклицательный знак.)
По-русски я всё это сказала бы Вам гораздо точнее, но не хочу утруждать Вас чтением по-русски, буду лучше утруждать себя писанием по-немецки.
Первое в Вашем письме, что бросило меня на вершину радости (ибо падать можно и вверх!), было слово «май», слово «май», которому много сотен лет – потому оно так молодо! —
Слово «май», которому Вы возвращаете старинное благородство. <Имеется в виду написание этого слова через ÿ вместо i.>
* * *
…Знаете, как я сегодня получила Ваши книги.[116]116
Вслед за первым письмом Рильке послал Цветаевой два своих последних поэтических сборника: «Сонеты к Орфею» и «Дуинезские элегии» (оба 1923).
[Закрыть] Дети спали, я внезапно вскочила и побежала к двери. И в тот же миг – рука моя уже была на дверной ручке – постучал почтальон – прямо мне в руку. Мне оставалось лишь завершить движенье и всё той же, еще хранившей стук рукой принять книги.
Я их еще не раскрывала, иначе это письмо не уйдет сегодня, а оно должно – лететь.
* * *
Последнее.
Когда моя дочь была еще совсем маленькая – двух, трех лет, она всегда меня спрашивала перед тем, как ложиться спать:
– А ты будешь читать Рейнеке?
Рейнеке – так звучал для нее Райнер Мария Рильке. Ибо такие маленькие дети еще не чувствуют пауз.
* * *
Я хочу написать тебе о Вандее, моей героической французской родине (в каждой стране и в каждом столетии есть хотя бы одна). Я здесь ради имени.
Швейцария не впускает русских. Но горы должны расколоться и впустить нас – меня и Бориса – к тебе. Я верю в горы (эта строчка – узнаешь ли ты ее?). Моя переделка ничего не меняет, ибо горы и ночи рифмуются.
* * *
Теперь самое последнее («она не может закончить»).
Вот записная книжка для тебя – из Праги – твоего родного города – к счастью, я в ней еще не писала: слишком красивая для меня, недостаточно красивая для тебя – ибо я спартанец (тот, с лисенком!) – а ты афинец – один из обитателей мифических Афин, нет: ты один из тех, кто стоит над Афинами и Спартой и Троей (нем.). ]
* * *
(NB! Письмо было гораздо лучше, это – записи к нему, на берегу… Но так – хоть это не пропадет. Ванв, 10-го мая 1938 г.)
* * *
На той же стр<анице> блок-нота – текст синим, цифры красным:
Мамины чулки коричневые:
1 дырка средняя – 10 с<антимов>
1 дырка маленьк<ая> – 5 с.
1 дырка средняя – 10 с.
'' '' '' '' – 10 с.
'' '' '' '' – 10 с.
45 с.
Муркин фартук голубой:
1 завязка – 5 с.
1 плечо – 5 с.
2-ая завязка – 5 с.
15 с.
Муркин фартук желтый:
Карман – 15 с.
(штопка и зашивка)
75 с.
(Аля)
ВЫПИСКИ ИЗ КВАДРАТНОЙ ЧЕРНОЙ КОЖАНОЙ ЧЕРНОВОЙ ТЕТРАДИ,
начатой в конце июня 1931 г. в Мёдоне
– Я начинена лирикой, как ручная граната: до разорватия.
* * *
(Черновик первых стихов к Пушкину.)
* * *
Я, нечаянно: – Кончайте! Кончайте, господа! Тут молоко уходит – и время уходит – уходите и вы.
(на прогулку – Муру и Але)
25-го июня 1931 г.
* * *
(Письмо Борису – себе в тетрадку, не знаю – отослано ли)
Дорогой Борис, я стала редко писать тебе, п. ч. ненавижу случайность часа. Мне хотелось бы, чтобы я писала тебе, а не такое-то июня в Мёдоне.
Пиши я тебе вчера, после того-то и того-то – ты бы прочел одно, пишу тебе ныне – читаешь это, неизбежно другое, чем завтра прочел бы. В этом разнообразии не богатство, а произвол (чего-то надо мной – и мой над тобой – и чего-то над тобой и мной).
Я бы хотела – извсегда и навсегда.
Мне тебя, Борис – не завоевывать, не зачаровывать. Письма – другим, вне меня живущим. – Так же глупо (и одиноко), как писать письмо себе.
* * *
Начну со стены. Вчера впервые (за всю с тобой – в тебе – жизнь), не думая о том, что делаю (и делая ли то, что думаю?), повесила на стену тебя – молодого, с поднятой головой, явного метиса, работу отца. Под тобой – волей случая – не то окаменевшее дерево, не то одеревеневший камень – какая-то тысячелетняя «игрушка с моря», из тех, что я тебе дарила в Вандее, в 26-том. Рядом – дивно-мрачный Мур, трех лет.
Когда я – т. е. все годы до – была уверена, что мы встретимся, мне бы и в голову, и в руку не пришло так выявить тебя воочию – себе и другим. Ты был моя тайна – от всех глаз, даже моих. И только закрыв свои – я тебя видела – и ничего уже не видела кроме. Я свои закрывала – в твои.
Выходит – сейчас я просто тебя из себя – изъяла – и поставила – как художник холст – и возможно дальше – отошла. Теперь я могу сказать: – А это – Б. П., лучший русский поэт, мой большой друг, говоря этим ровно столько, сколько сама знаю.
Морда (ласкательное) у тебя на нем совершенно с Колониальной выставки. Ты думал о себе – эфиопе? арапе? О связи – через кровь – с Пушкиным – Ганнибалом – Петром. О преемственности. Об ответственности. М. б. после Пушкина – до тебя – и не было никого? Ведь Блок – Тютчев – и прочие – опять Пушкин (та же речь!), ведь Некрасов – народ, т. е. та же Арина Родионовна. Вот только твой «красивый, двадцатидвухлетний»…[117]117
Т. е. В. В. Маяковский. Цветаева цитирует слова из ст-ния Пастернака «Смерть поэта», являющиеся, в свою очередь, цитатой из поэмы Маяковского «Облако в штанах».
[Закрыть] Думаю, что от Пушкина прямая расходится вилкой, двузубцем, один конец – ты, другой – Маяковский.
Если бы ты, очень тебе советую, Борис, ощутил в себе эту негрскую кровь (NB! в 1916 г. какой-то профессор написал 2 тома исследований, что Пушкин – еврей, т. е. семит: ПЕРЕСТАВЬ,[118]118
т. е. напиши 2 тома исследований, или одно свое двустишие, что Пастернак – негр.
[Закрыть] ты был бы и счастливее, и цельнее, и с Женей[119]119
Речь идет о Евгении Владимировне Пастернак (урожд. Лурье, 1898–1965), первой жене поэта, с которой он расстался в 1931 г. ради создания новой семьи.
[Закрыть] и со всеми другими легче бы пошло. Ты бы на многое, в тебе живущее, – свое насущное – стал вправе. Объясни и просвети себя – кровью. Проще.
Ведь Пушкина убили, п. ч. он своей смертью не умер бы никогда, жил бы вечно, со мной бы в 1931 г. по Мёдону гулял (Пушкина убили, п. ч. он был задуман бессмертным.) Я с Пушкиным, мысленно, с 16-ти лет – всегда гуляю, никогда не целуюсь, ни разу, – ни малейшего соблазна. Пушкин никогда мне не писал «Для берегов отчизны дальней», но зато последнее его письмо, последняя строка его руки – мне, Борис, – «так нужно писать историю» (Русская история в рассказах для детей),[120]120
Цветаева неточно цитирует письмо Пушкина (написанное перед дуэлью и оказавшееся последним) к детской писательнице А. О. Ишимовой: «Сегодня нечаянно открыл Вашу „Историю в рассказах“ и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. М.; Л.: АН России, 1949, с. 227). Письмо было откликом на первый том «Истории России в рассказах для детей» Ишимовой.
[Закрыть] и я бы Пушкину всегда осталась «многоуважаемая», а он мне – милый, никогда: мой! мой!
Пушкин – негр (черная кровь, падение Фаэтона – когда вскипели реки – и (это уже я!) негрские волосы) самое обратное самоубийце, это я выяснила, глядя на тебя на стену. Ты не делаешь меня счастливее, ты делаешь меня умнее.
* * *
О себе, вкратце: просьба подождать еще два года до окончания. Таким образом у меня еще два посмертных тома. (О, мои богатые наследники!) Большую вещь, пока, отложила. Ведь пишу ее не для здесь (здесь не поймут – из-за голоса), а именно для там – реванш, языком равных. Пишу сейчас Пушкина (стихи). Как только пришлешь наверный адрес – пришлю.
(Попутная мысль, чтобы не забыть – 10-го мая 1938 г. Ванв – благородство и пощада пера, никогда не выдающего нашего возраста: в письмах мы вечно-молоды, в счет идет – только наша (молодая, сильная) интонация – никаких морщин ни седин!)
Несколько дней назад тебе писал С. – просьбу его смело можешь исполнить: я – порукой. (– А жена? – Жена пока и т. д. – Ой! ой! ой! Да ведь это же – разрушать семью! – Хороший д. б. человек.)[121]121
Речь идет о письме С. Я. Эфрона к Пастернаку с просьбой о содействии ему в получении советского гражданства. 29 июня 1931 г. Эфрон писал о том же своей сестре, Е. Я. Эфрон и Горькому.
[Закрыть]
Очень болен Д<митрий> П<етрович>: грудная жаба. Скелет. Мы с ним давно разошлись, м. б. он – со мной, приезжает, уезжает, не вижу его никогда. Положение серьезное, но не безнадежное: при ряде лишений может прожить очень долго.
* * *
Это лето не едем никуда. Все деньги с вечера ушли на квартиру. Все эти годы кв<артиру> оплачивал Д<митрий> П<етрович>, сейчас из-за болезни не может. Как будем дальше жить – не знаю, п. ч. отпадает еще один доход – 300 фр<анков> в месяц, к<отор>ые одна моя приятельница[122]122
Речь идет о С. Н. Андрониковой-Гальперн.
[Закрыть] собирала в Лондоне. Пожимаю плечами и живу (пишу) дальше. (Р<аисе> Н<иколаевне> ничего не пиши, о тяжелой болезни сына ты знаешь.)
М. б. С. на две недели съездит в деревню, к знакомым рабочим, обещают кормить, наша – только дорога. Сейчас он пытается устроиться в к<инематогра>фе (кинооператором). У него блестящие идеи, но его всё время обжуливают.
Так что мой адр<ес> на всё это время – прежний.
Да! ты пишешь о высланной II ч<асти> Охранной Грамоты, у меня и I нет. Посылал?
* * *
(NB! На год назад – сентябрь 1930 г. St. Laurent Haute Savoie)