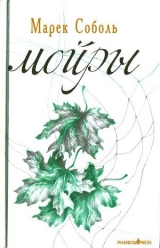
Текст книги "Мойры"
Автор книги: Марек Соболь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
– Слушаю!
– Включи телевизор.
– Кто это?
– Мариуш. Включи телевизор.
– Рехнулся? Я сплю! И телевизора у меня нет.
– Тогда радио. Просыпайся и включай радио, перезвоню позже…
Стягиваю брюки, бросаю их со злостью на кровать. Что стряслось? Надо же быть таким идиотом.
Радио так радио. Спотыкаюсь о туфли. Бах. Бах. Они летят куда-то в сторону кухни. Пищит. Пищит. Опять мобильник. Куда я его положила? Ага!
– Слушаю.
– Слыхала?
– Что слыхала? Это ты, Аля?
– Да, я. Включи телевизор.
– Вы что, все с ума посходили? Нет у меня телевизора.
– Включи радио.
Включаю.
Пытаюсь сложить в единое целое обрывки информации. Слушаю. Иду в ванную. Надо умыться. Я еще не проснулась. Возвращаюсь. Слушаю. Черт. Может, Клото дома? У нее точно есть телевизор.
Выхожу на лестничную площадку. По-прежнему плохо соображаю, как в бреду. Что я делаю? Я же в одних трусах. Возвращаюсь. Натягиваю брюки. Опять выхожу. Жму на звонок у соседней двери. Тишина. Жму. Тишина. Стук, грохот, ругань. Дверь открывается – заспанная, очумевшая Клото, как и я совсем недавно. Вот что нас объединяет. Только бляди и медсестры спят до половины четвертого дня.
– Включи телевизор.
Сколько раз сегодня прозвучала эта фраза между тремя и четырьмя?
– Оборзела?
– Включи, сразу проснешься.
До вечера сидим у Клото и пялимся в мерцающий экран. Она принесла с кухни черствый хлеб, помидоры, ошметки колбасы, пачку хлопьев и сок. Пьем прямо из коробки. Ноги мерзнут, закутываем их в одеяло. Не можем оторваться. Смотрим, как самолеты две тысячи раз подряд врезаются в башни на Манхэттене. Смотрим, как две тысячи раз башни превращаются в пыль. Две тысячи раз подряд видим радостные толпы палестинцев. Отщипываем от черствой булки. Молча жуем остатки колбасы. Сок уже кончился. Хрустим хлопьями. Хруп. Хруп.
На улице темнеет. Клото пора на работу.
– И как теперь трахаться? – криво усмехается она. – Слава богу, сегодня будет тихо. Все у телевизоров сидят.
Подданные Аллаха добились своего. Даже шлюхи в шоке.
Возвращаюсь к себе. На мобильнике двадцать неотвеченных звонков. Из больницы, к моему облегчению, ни одного. Отзваниваю Мариушу, он работает в СМИ.
– Впервые в жизни не поверил тому, что показывает Си-эн-эн…
Зажгла свечку, как все. В доме напротив горят несколько штук. И у Старого Стервятника горит. Ее лучше всего видно, окно-то темное. Он не зажигает свет, и нет этих голубоватых отсветов. Даже если у него имеется телефон, никто ему сегодня не позвонил и не сказал: «Включи телевизор…»
27 сентября
С месяц у нас работает новая медсестра – Гося. Два дня назад в ее дежурство умер ребенок, четырехлетняя девочка, уже страшно измученная чередой ремиссий и рецидивов, бесконечной химией, а под конец морфием и ожиданием…
Для Госи это была первая смерть. Каждая из нас помнит тот первый раз ярче прочих. Другие со временем забываются, невозможно упомнить, был ли Кшысь до Стася, умерла Зося раньше Павлика или позже. Та малышка, у нее еще была такая толстая мамаша без единого переднего зуба, как же ее звали? Ну та девчушка, что умерла во время большого наводнения? Смотрела с нами телевизор, потом я отнесла ее в кроватку, а когда вернулась через час, она уже отошла, никого не потревожив, тихо, без шума… Как же ее звали?..
Сегодня Гося в первый раз написала заявление об увольнении. Сказала, что из-за этой работы возненавидела здоровых детей. Да, бывает, мы все через это прошли. Орущий хулиганистый пацаненок на улице доводит до бешенства. Дети в отделении выглядят спокойными и умными. Понимают, что больны, знают про смерть, они такие взрослые, даже самые маленькие. Рядом с ними здоровые выглядят противными, тупыми и бестолковыми. Взять бы прутик покрепче и стегануть такого по попе. Больные кажутся нормальными, а здоровые – истинными выродками.
Потом это проходит, просто нужно с этим разобраться, что требует времени. Гося точно не уйдет. У нее на лице написано «Я останусь». Только еще раз несколько скажет, что сыта по горло, что увольняется. Как любая из нас.
3 октября
Вчера купила большой альбом с черно-белыми фотографиями и надпись Centuryна обложке – документальная история двадцатого века, все самые важные и страшные мгновения за сто лет. В альбоме тысяча снимков, и каждый – начало, середина либо конец какой-нибудь истории, которую можно досказать, оживить застывшие в серебре фигуры и лица. Почти все истории печальные, почти во всех присутствует зло. Жуть берет, если листать альбом медленно, задерживать взгляд на искаженных агрессией лицах по обе стороны баррикад, заглядывать в глаза всяким чудовищам, авторам преступлений прошедшего века, всматриваться в лица – вот они улыбаются, восторженно, празднуя победу, или мечтательно, вспоминая приятные минуты: утреннюю чашку кофе, либо вечерний секс, либо веселое застолье в кругу друзей. Можно увидеть улыбающихся чудовищ и не менее радостные лица идиотов, которые вроде бы ничего плохого не сделали, но заслужили презрение за смирное поведение, за то, что не сумели или не смогли всему этому помешать. Миллионы ладоней, вскинутых в мрачном приветствии, миллионы лиц, задранных вверх. А рядом другие лица, на которых боль, отчаяние, безнадежность, – лица гонимых, у них украли и прошлое, и будущее, их выкинули из собственных домов, лишили шанса на счастье. Даже если в их глазах еще и теплится толика надежды на спасение, мы-то, знающие историю, понимаем, через столько лет нам уже ведомо: надежда тщетна – если они на этом снимке, если попали туда, где мы их видим, если им не удалось сбежать, значит, их уже ничего не ждет, нет у них больше времени, только жалкие крохи преждевременно оборванной жизни. У них нет шанса на самое главное – исполнить свое предназначение, уяснить смысл своего появления на свет. Кто-то за них решил, что их мысли и дела не заслуживают продолжения, что нельзя им больше рисовать, сочинять, стирать пеленки, торговать овощами, что ничего стоящего от них уже не добиться, сколько ни пытайся. Кто-то решил, что ради его личной правды вполне допустимо оборвать миллионы жизненных нитей и обеднить историю, выкинув из нее все то, что убитые могли бы совершить. И совсем необязательно, что тот, кто принял такое решение, был самовлюбленным извращенцем; скорее вождем, трибуном, который произносил пламенные речи и убивал во имя некоего бога или народа, некой беспощадной высшей истины, достойной, как и все высшие истины, величайших жертв.
Какое щемящее чувство смотреть всем этим людям в глаза, радоваться вместе с ними или страдать, теперь, спустя много лет, видеть эти переживания в контексте истории, в обратной перспективе знания о тех временах и событиях, которым мы сегодня располагаем. Вот снимок: счастливая улыбка на лице, воздетые руки – Гитлер сразу после подписания Пакта Молотова-Риббентропа. Боже мой, какая искренняя радость, и этот жест такой непринужденный – мы и сами часто взмахиваем руками, когда нам что-то удается, когда выходим победителями в очередной схватке с жизнью. Сколь естественно он выглядит в это мгновение, застывшее в серебре, – нормальный парень, так и хочется похлопать по плечу. Замышлял ли он уже тогда великую бойню, прикидывал ли, сколько оборванных нитей потребует его блестящий план, призванный осчастливить один народ за счет других? А может, он и сам в ту пору еще не знал, куда заведет его успех; быть может, чудовище в его душе тогда еще не проснулось.
Вот другой снимок: несметные толпы славящих его берлинцев, когда он возвращается с очередной победой, захватив Чехословакию, а может, Австрию; под снимком подпись: «По пути его приветствовали миллионы людей».
Это из них склепали ту машину, они были ее шестеренками, пружинами, осями, это их рук дело, и теперь их обязанность – помнить; им, их детям, внукам и еще многим поколениям придется каждый день каяться, предостерегая других, – чтобы время ничего не стерло из памяти. Вопреки желанию некоторых, нельзя забывать, ведь мы, люди, весьма склонны помалкивать, страшиться, мыслить цифрами, оправдывать средства целью, сами мы неохотно мочим руки в крови, но если кто-то делает это от нашего имени, отводим взгляд или одобрительно вопим, увлеченные идеей так называемого общего блага – утопией, отменной почвой для преступлений.
Что я чувствую, когда смотрю на эти снимки, на безмолвные горделивые лица преступников, погрузивших мир в хаос? Жалость, печаль, отвращение, а может, всего понемногу, в зависимости от снимка? И не следует ли из всего этого тоскливый вывод, что все зря, бессмысленно, если мы способны на такое? Но есть одно чувство, которое преобладает во мне и которого я боюсь как огня, потому что оно – причина всякого зла, это оно порождает демонов. Чувство это – ярость. Слепая ярость.
12 октября
Что вы, что вы, дорогая пани! Как вам только такое в голову пришло!
Хотя со стороны и впрямь могло так показаться. К счастью, я вне подозрений, я не в состоянии за вами подглядывать, о чем могу только сожалеть, уж поверьте.
А мы ведь с вами соседи. И очень мило, что вы решились со мной заговорить. У нас знакомых немного, обстоятельства тому не благоприятствуют, сами видите.
Значит, вы – медсестра. В отделении детской онкологии. Боже милостивый, на что же вам приходится каждый день смотреть! Мы уж свое отжили. Но та малышня…
Такая работа. Такая работа.
Сын очень занят, и к нам приходит одна такая из опеки, тоже медсестра, но она женщина простая, не то что вы, институтов не кончала. Сын заплатил, чтобы она приходила. Он в достатке живет, Господь всегда вознаграждает добрых людей.
Эта женщина помогает мне купать Марысю, ходит в магазин. Но больше всего мы радуемся, когда она рассказывает нам новости, что в мире делается. Она такая болтушка, знаете ли, все сплетни про соседей перескажет, а у нас, сами понимаете, других развлечений и нет…
Говорят, в вашем доме проститутка живет, это правда?
Вот видите, нам здесь, спасибо той женщине из опеки, все обо всех известно. Только в лицо никого не знаем. Жена не видит с тех пор, как заболела, а я после кровоизлияния, уже два года как. Гипертония. В молодости люди пускаются во все тяжкие, не берегут себя. Я по крайней мере знаю, за что мне такое выпало, но Марыся… Боже ты мой, за какие грехи…
Ни с кем мы тут не общаемся. Живем в этом доме недавно. Поменяли квартиру, чтобы быть поближе к сыну. Без него пропали бы.
Пока жена еще способна говорить, можем парочку дней прожить самостоятельно, без помощи. Молю Бога, чтобы болезнь Марыси не прогрессировала. Иначе нам, считай, конец. Столько лет мы уже слепые. Мне хотя бы осязание осталось, но она почти ничего не ощущает, это называется рассеянный склероз. Вы, наверное, знаете из медицины…
Тридцать шесть лет было Марысе, когда она заболела. Тридцать шесть. Вроде бы редкость в таком возрасте.
Вам тридцать три? Ну вот, пожалуйста.
Нет, про вас мы никаких сплетен не слыхали. А вы давно тут живете?
Недавно? Поэтому и не слыхали. О каждом можно сплетен насобирать.
Ох, насмешили! Та женщина и впрямь похожа на попугая. Как придет, рта не закроет. Но вот и хорошо, посмеялись немножко, а теперь давайте поболтаем. Правда, Марыся уже с большим трудом разговаривает.
Ну да.
Еще успеем.
Может, зайдете к нам как-нибудь на чашечку кофе? Пожалуйста, не бойтесь, у нас чисто, за нами хорошо ухаживают. Невестка раз в неделю делает генеральную уборку. Золотой она человек. Я тоже еще кое-что могу. Свет и тьму различаю, но края тротуара не вижу, столбы тоже. Вот и приходится пользоваться тростью. Машину на приколе обойду сторонкой, но в столб врежусь запросто.
Навестите нас как-нибудь, мы будем рады. Квартира номер восемь.
Приятно было побеседовать.
19 октября
Сама смерть меня не пугает. Она неотвратима, поэтому нет смысла бояться, единственное, что остается, – приготовиться к ней, жить по-человечески и ждать, когда она придет и задует меня, как свечу, как Павлика на свежевспаханном поле или моего деда. Нетрудно ее принять, если она является на исходе жизни, сметает с поверхности земли лица, покрытые морщинами, и тела, измученные болью. Старость страшнее смерти, особенно печальная старость. Это расплата за грех убожества, за то, что не желали видеть дальше своего носа, это годы в камере смертника, когда разрешено смотреть только вперед, думать только о казни. Те, кто жил достойно, могут на старости лет оглянуться назад, испытать благодать смирения, гармонию с миром и его циклами. Но такую старость надо заслужить.
Смерть страшна, когда является раньше срока, когда отбирает жизнь, прежде чем мы успеваем ею насладиться, прежде чем распознаем ее вкус, либо в тот самый момент, когда мы только-только ее распробовали и пребываем в убеждении, что впереди полно времени. Ужасает смерть несправедливая, будто полоснувшая бритвой исподтишка, – такое отбивает охоту верить в Бога, в глубинный смысл происходящего. Это наказание без вины, неразборчивый меч варвара. Детей в моей больнице приканчивает Бог-зверь, Бог без милосердия, палач по призванию. Тебя забрал Бог – серийный убийца, украшающий свои часовни кусками разорванных тел…
Стараюсь подавить мою личную боль, претензии к жизни, отобравшей Тебя. Ничего не дается просто так, за все приходится бороться, а каждая утрата велит отправляться на новые поиски. Ведь все-таки у меня есть жизнь, значит, я могу идти вперед, и еще много всякого может случиться, но у Тебя нет ничего, Тебе уже нечего искать. Твоя красота – теперь лишь гниющее мясо, Твое тело питает корни травы, а от Твоей прекрасной души остался лишь нечеткий отпечаток в памяти людей, и время этот отпечаток медленно, усердно стирает. Измаил вытирает отравленный меч, и я почти разделяю его радость при виде такой добычи – ликование охотника, подстрелившего оленя с золотыми рогами. Иногда думаю, не сбить ли его со следа: забраться куда-нибудь высоко-высоко и, раскинув руки, самой полететь на встречу с тьмой, лишив его удовольствия…
1 ноября
День Всех Святых. Яркое солнце манит из дома, дождь взял короткую передышку; наверное, это последняя возможность прогуляться нынешней осенью. Прямо с утра поехала на кладбище, зажечь Тебе свечку, ну и конечно, нарвалась на Твоих родителей. Они увидели меня издалека, когда я стояла у Твоей могилы, и, как и следовало ожидать, не подошли. Демонстративно пережидали на скрещении аллеек, пока я уйду. Сначала, если честно, я разозлилась, подумала, что буду стоять там целый день, пока они не окоченеют или не свалятся с ног. Помню на похоронах полный ненависти взгляд Твоей матери. Отец поглядывал на меня с любопытством, без враждебности, даже кивнул, но она была готова спихнуть меня в могилу и засыпать вместе с Тобой. А еще говорят, что горе сплачивает людей…
Я очень хорошо помню, как все было. В тот день я хоронила человека, на которого могла хоть как-то опереться. Стояла там, над раскрытой могилой, и чувствовала себя полой скорлупой, даже плакать не получалось. Похоже, именно тогда пересох мой источник слез. Я только нервно озиралась, но все отводили от меня взгляд, и лишь она смотрела с ненавистью.
Сегодня, столько месяцев спустя, я встретила их, но, сдается, ничего не изменилось. Может, это правда, что человек должен перенести на кого-нибудь хотя бы каплю своего отчаяния. Если это ей помогает – пусть. Впрочем, чем дольше я об этом размышляла, тем сильнее хотелось рассмеяться. По сути, все это глупо – и похороны, и эта могила, и причудливые ритуалы. Думаю, даже горящие свечки всего-навсего служат украшению кладбища в праздник. Какое все это имеет значение? Лучше бы я отправилась гулять в поле, подальше от людей, разожгла бы огонек для Тебя у какого-нибудь камня, примостилась рядом, в тишине, грелась бы на солнышке и опять, как вчера, как позавчера, как неделю назад, как каждый день, вспомнила бы Тебя, мысленно глядела на Твое лицо. Я же потащилась на кладбище, давилась в автобусе, выстояла очередь, толкалась в шумной говорливой толпе – лишь затем, чтобы расстроиться из-за человеческих предрассудков. Подозреваю, мало кто приходит сюда из уважения к усопшим. Волокутся в этот день на кладбище по привычке или потому, что неприлично не прийти.
Двинулась прямиком по направлению к Твоим родителям. Мать повернулась ко мне спиной, отец вежливо кивнул, даже улыбнулся. Интересно, почему. Может, я ему нравлюсь? С мужиками никогда не поймешь. Все равно симпатичный у Тебя отец.
10 ноября
Начала понемногу выпивать. Не пытаюсь горе залить, ничего подобного, просто потихоньку возвращаюсь к людям. Брожу вечерами по Казимежу, столько новых кафе появилось, но все же лучше те, что были первыми. Обожаю всякую рухлядь, колченогие столики, закопченные потолки и старые фотографии на стенах. Мелькнула мысль, что классно было бы стать владелицей такого заведения, открыть кафе или хороший паб, но теперь, когда Тебя нет, у меня на такое духу не хватит. Впрочем, чтобы сотворить что-нибудь вроде «Алхимии», надо иметь в голове полный бардак, как у Яцека, я же слишком медсестра, порядка во мне много, не выдержала бы.
В обычной жизни мы сидим средь чистых стен, прямоугольной мебели, в проветренных помещениях. В обычной жизни мы шарахаемся от замызганных людишек, не выносим пьяниц. Здесь все по-другому. Может, есть в этом немного снобизма, но думаю, очень важно найти зазор, куда можно с облегчением нырнуть, спрятаться на время от правильности. Порой мне кажется, что сюда и Бахус захаживает; да что там, Яцек и есть Бахус собственной персоной.
Алкоголь меня тонизирует. Все вокруг ощущаю острее, глубже. Перегородка, которая обычно отделяет меня от мира, становится эластичной и полупрозрачной, глаза открываются шире, уши лучше слышат, будто кто-то усилил все мои чувства, нажав на кнопки пульта. Из этого состояния многое можно извлечь, оно многое облегчает, помогает выхватывать из жизни всякие тонкости – пока не превратится в болезнь. Но поскольку я люблю начинать день нормально, садиться и записывать то, что накануне скопилось в голове, то не боюсь, что запью. Некогда мне спиваться.
Гляжу на наших знакомых пьяниц-художников. Иногда они меня забавляют, а иногда пугают. Наверное, в зависимости от настроения, они-то всегда одинаковые. Простой пьяница в каждом видит врага и готов дать в морду ни с того ни с сего. Пьяный художник любит всех и от всех требует взаимности и телесной близости, танцев в обнимку, поцелуев, тайных признаний. Пьяный художник всегда что-нибудь шепчет тебе на ухо, словно поверяет великую тайну, делится глубочайшими, по его мнению, истинами о жизни и смерти, дыша в лицо собеседника ароматом скисшего пива пополам с блевотиной. Кто знает, может, это и есть в них самое плохое.
Их заносит далеко, часто за грань хорошего вкуса. Они склонны к открытому бунту – и спиртное подогревает их настрой, – бунту тотальному, против всего без исключений, что дает им право считать себя искренними и честными. Элементарная форма протеста против мира, преклоняющегося перед материальными ценностями, набитого условностями и лицемерием. Состояние бунта затягивает, ведь это пьянство по убеждению, они в нем купаются, плещутся, как дети в озере, не сознавая, что оказались уже очень далеко от берега и шансы вернуться все уменьшаются. Тут-то и проявляется жестокость алкоголизма: если видел их картины, гладил их скульптуры, познал благодаря им чистую радость, тяжело признать, что они разрушают себя. Если кто-то из них нашептал на ухо слова, которые меня встряхнули, то тем самым он приговорил меня делить с ним его ничтожество, коварным маневром закабалил.
Смотрю, как они сгорают, уничтожая тот дар, что был им ниспослан, увиливая от обязательств, которые этот дар налагает, и зло берет. Надо бы привести их к нам в больницу, показать им наших потенциальных художников, которым судьба не дала шанса, потому что им выпало умереть, прежде чем они научились твердо держать кисть, резец или перо. Стены дежурки и палат покрыты рисунками – горькое свидетельство таланта, полученного напрасно, на слишком короткий срок. Они умирают, а их едва зародившееся искусство остается, фамилий под произведениями нет, если и подписано, то только именами, которые через год-два уже никому ничего не скажут…
Через пару или десяток лет Казимеж пьяных художников наверняка изменится, как изменился давным-давно Монмартр, а потом и Монпарнас. Уже сейчас туристов здесь куда больше. На выходные заведения оккупируют рядовые служащие корпораций, целую неделю они зарабатывают деньги, а в субботу приезжают сюда из Варшавы наверстать упущенное по части выпивки. На первый взгляд перемены будут незаметны: станет немного теснее, вырастут чаевые, возникнут иные темы для разговора за столиками, а все самое лучшее постепенно перекочует куда-нибудь в другое место, возможно в Подгоже. Пишу и чувствую, что запечатлела, хотя бы только для себя, нечто, что очень скоро может исчезнуть. Весь мир, вся наша жизнь движется от красоты к штамповке, от исключительности к массовости, и нелегко этому противиться. Может, здесь удастся?
24 ноября
Вчера совершенно неожиданно приехала Аня, моя школьная подружка. Удивительно, как она меня нашла. Знала, что живу я в Кракове, взяла недолго думая телефонную книгу и принялась звонить. Переговорила с моей мамой, а та дала ей мой телефон.
В Краков Аня приехала несколько дней назад на какие-то курсы. Настоящая бизнес-вумен, ухоженная, уверенная в себе, общительная. Рассказала о своей карьере, о доме (не о доме вообще, а о конкретном здании – вроде бы очень красивом – под Варшавой). Она болтала, стрекотала, но я не слушала, мысленно вернулась в прошлое, вспоминала мальчишек из школы и девчонок и все наши телячьи восторги. Аня пробудила эти воспоминания. Я улыбнулась. До сих пор помню ее ноги, худые как палки, торчащие из-под темно-синей юбки. Как же давно это было. Помню также парня, в которого мы обе были влюблены, уже в лицее. Был такой… Томаш…
– Твоего мужа зовут Томек?
– Томек? С чего вдруг? – Большой голубой вопросительный знак. Да, глаза у нее что надо. – А-а! – Ее осенило. – Нет, ну что ты. Расстались еще в университете. Томаш сейчас весит килограммов сто тридцать. Тоже работает в Варшаве.
Я наблюдала, как ее губы то и дело складываются в улыбку, после чего начинают быстро двигаться, еще быстрее, потом касаются рюмки, оставляя на ней тоненький след от помады. Я видела только две алые губы, они шевелились без устали, будто крылья мотылька, стрекотали и шуршали, мелькали и трепетали…
Понятия не имею, о чем она говорила.
В конце концов Аня спросила, как у меня дела. Наверное, приличнее было бы закончить тот вечер общими фразами, не откровенничать, какой смысл, куда спокойнее посудачить о том о сем, попритворяться, как она. Но ведь правда – это так любопытно, даже если она немного колется. Люди постоянно играют какие-то роли, жены перед мужьями, мужья перед женами; скрывая свои мечты, потребности, свою подлинную натуру, мы прикидываемся перед всем миром иными, чем есть на самом деле, отчаянно добиваемся хотя бы формального одобрения, но когда наконец осмеливаемся на искренность, ощущаем блаженство, уютную гармонию с миром.
А может, я просто почувствовала, что мне не о чем ей больше рассказать, ведь нет у меня ни дома, ни машины, ни денег, ни мужа, ни собственных детей. Мне нечего продать, кроме правды. И я начала рассказывать, хотя знала, что история моя выйдет невеселой, что наверняка она уйдет от меня в поганом настроении. Но разве отличное настроение – наша главная забота?
Говорила я медленно, обстоятельно, стараясь ничего не упустить, поведать подружке моих школьных лет обо всем, но прежде всего о Тебе, о днях, проведенных вместе. Каждый из них был таким пышным хрустящим ломтем жизни, смазанным медом, и мы вгрызались в этот ломоть с наслаждением, так что по подбородку текло. Каждый день я облизывала Твои пальцы, липкие от меда. Ничего не пропало с той поры, ни одной минуты.
Она задавала много вопросов. Слушала жадно мой рассказ о другой жизни. Не виделись мы очень давно, принялись высчитывать, оказалось, что почти двадцать лет. На улице я бы ее не узнала, как, впрочем, и никого из школы. Наверное, нам обеим нужен был этот вечер. Ведь не зря же она вдруг вздумала меня найти. Иногда необходим кто-то, кого давно не видел, человек из прежнего времени, чтобы заглянуть в него, как в зеркало.
Ночь все смягчает. Ночь, она волшебница. Ночью слова становятся пушистыми, как коты, они тихонько крадутся, мурлыча, ложь-мышь прячется от них в норку, и легче сказать правду. Ночью люди кажутся ближе, все стихает до шепота, все ощущается сильнее, голоса души не пропадают в этой тишине, как в шуме дня, как не пропадает собачий лай за пять кварталов отсюда. Ночью лай слышен во всем районе.
Сидели мы, попивали водку с соком, удобно устроившись, лениво глядя на огонек свечи. Разговаривали шепотом. Между словами бесшумно струилась ночь. По одну сторону стола была моя жизнь с умирающими детьми, с воспоминаниями о Тебе, по другую – ее бизнес, офис с дубовой мебелью и вся та суета, от которой рано или поздно захочется сбежать.
Она скинула туфли, сняла колготки, забросила их в угол, вытянула ноги, положив их на кресло, и придвинулась ко мне, закурила. Деланное оживление куда-то исчезло, теперь она была самой собой. Я подумала, что естественность ей очень идет. Мы опять были школьными подружками, доверяющими друг другу свои самые большие секреты.
Взгляд мой упал на ее стопы, ухоженные, нежные, как у маленькой девочки, с аккуратно накрашенными ногтями, с мягкой и гладкой кожей на пятках. Наши стопы различаются так же, как наши жизни: мои твердые, с мозолями, натертыми дешевой обувью, ногти не накрашены, даже не обработаны, такие, какие есть, без прикрас, честные и правдивые, будто им нечего скрывать, а ее ухожены до чрезмерности, свысока взирают они на дорогу, по которой ступают, притворяясь, будто никогда не потеют, никогда не обрастают жесткой слоистой кожей. Но ведь они красивые, какими и должны быть женские стопы. Выходит, я, такая духовная, пренебрегаю педикюром, отказывая тем самым собственному телу даже в толике уважения? Неужто художник всегда должен быть пьяницей, интеллектуал разгуливать с сальными волосами и обгрызенными ногтями, а у медсестры, которой не повезло в жизни, ноги должны быть как сучковатые поленья?
Взялась за ее стопы и положила себе на колени. Принялась их массировать, растирать. Она прикрыла глаза.
– Хорошо у тебя… – И улыбнулась.
Я взглянула на нее мельком и сразу забыла о ее присутствии, мысли потекли куда-то далеко, и лишь руки не прекращали двигаться. На минуту они освободились от меня, от моей осторожности, от добродетельности, которой я успела зарасти, точно сорняками, с тех пор как Тебя нет. Когда я опомнилась, контроль над руками уже был потерян. Я посмотрела на Аню, она слегка откинула голову, глаза по-прежнему были закрыты. Казалось, она заснула, устав от беготни по Кракову, разомлев после нескольких бокалов, выпитых со мной. Только спящий человек так не дышит.
Не знаю, что на меня нашло, дьявол ли в меня вселился, а может, ангел, но я стала целовать ее пальцы, сперва осторожно, напуганная тем, что делаю, а потом все крепче. Обхватывала их губами, облизывала, они были солоноватые, душистые. Давно уже себя не ублажала, а она была такая красивая, нежная, ароматная. Как хорошо ощутить все это заново, как хорошо…
Я подняла голову. Она смотрела на меня спокойно, без ужаса. Прижала стопы к моему лицу, подсказывала ласки, направляла мои поцелуи. Я встала на колени у дивана и начала целовать ее ноги, живот. Если и пробегала по спине легкая боязливая дрожь, то теперь и она улетучилась. Аня обняла меня, притянула мою голову к себе. Я догадалась, что стопы, положенные на кресло, были приглашением, что она не боится, что по какой-то причине она тоже этого хочет. Просунула руку под мою блузку, погладила мою грудь. Я почувствовала, что одежда невыносимо жжет, что я вся трясусь, сама не смогла бы расстегнуть ни одной пуговицы. Все-таки этот дьявол и не новый, но мой старый добрый знакомый подбрасывал дров в огонь, а теперь хихикает, покатывается со смеху, наблюдает, как я схожу с ума, как сдираю с себя блузку, как распускаю волосы, как визжу от счастья.
Все дальнейшее было полным безумием. Остановил нас свет, сочившийся сквозь жалюзи, соперничая с медленно угасавшей свечой. В себя мы пришли разгоряченные, где-то под столом, на холодном и твердом паркете…
Утром я приготовила завтрак, тосты и кофе с молоком. Мы расхаживали голыми по квартире, вместе мылись и все время смеялись. Подумала, что, наверное, ни одна из нас давно так много не смеялась.
– Ты порвала мне трусы.
– Дам тебе другие, только… таких красивых у меня нет.
– Неважно, пойду сегодня без них…
Ушла она около полудня. За вещами в отель, а потом прямиком на поезд в Варшаву. Ну а я сейчас сижу и пишу. Счастье, что сегодня воскресенье и у меня нет дежурства, не хотелось бы после такой ночи мчаться в больницу, так хорошо мне вчера было. Хотя немного чувствую себя грешницей. Надеюсь, Ты не сердишься на меня, сидя где-то там, на облаке. Я бы не сердилась. Даже, наверное, охотно бы посмотрела, как ты охмуряешь симпатичную девушку. Я ведь никогда не была ревнивой, впрочем, как и Ты. Знаешь ведь, что я никогда никого не полюблю так, как Тебя.
Запустила я себя ужасно. Вчера мне даже было немного стыдно. Наслушалась бы я от Тебя, это уж точно. Но с этим надо кончать, обещаю, клянусь, даю слово: завтра иду к косметичке!
28 ноября
Он мужественный и властный. Она женственная и красивая. Он рвется к победам, осваивает новые земли, без устали что-то ищет. Она жаждет покоя и тепла, пытается построить что-то прочное. Он нападает, сексуальный, агрессивный, властный. Она покорно раскрывается, ожидая долгих ласк и нежности. Он хочет ею обладать. Она хочет стать добычей.
Когда доминирует Он, жизнь осложняется. Наступает время испытаний, сулящих счастье, но эти посулы часто оказываются обманчивыми. Жизнь начинает напоминать игру, в которой многое ставится на одну карту. Он – воплощение перемен и вечного движения: уходит когда хочет, приходит когда хочет и всегда ищет неизведанных путей. Верен только своим порывам. Его задача – изменить мир. Он – пророк прогресса, Он – защитник Бога, Он – художник и воин. Он опирается на Нее, часто всей тяжестью, но когда Она протягивает руку, чтобы Его обнять, отталкивает ее со злостью.
Когда доминирует Она, жить становится легче. Наступает пора простых радостей, счастья, которое рождается из смиренного упорства, из неизменности вещей и чувств. Жизнь начинает напоминать спокойную реку в нижнем течении, грохочущие горные потоки остались позади. Она заботится о том, чтобы Ему всегда было куда вернуться. Она врачует Его раны, но и гордиться Его славными победами Она тоже умеет. Пока ждет Его, шьет платья, в которых будет Его встречать, достаточно фривольные, чтобы Он забыл о дороге, по которой пришел, и достаточно скромные, чтобы Она стала для него очередным полем битвы.







