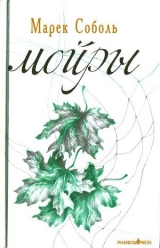
Текст книги "Мойры"
Автор книги: Марек Соболь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Ища ключи, отпирая дверь подъезда, поднимаясь по лестнице, роясь в поисках ключей от собственных квартир, мы разговорились и в итоге, когда пришла пора прощаться, уже чувствовали себя чуть ли не старинными приятельницами.
– Слушай, давай выпьем чаю перед сном. Идем ко мне. Зови меня Клото.
– Почему нет. Минутку, я только переоденусь.
Именно любопытство, элементарное любопытство не позволило мне отказаться от приглашения. Я сбросила одежду и в халате позвонила в ее дверь. Когда она открыла, то выглядела уже совершенно иначе – умытое лицо, легкая прозрачная рубашечка, трусики.
– Если тебе неловко, я могу одеться.
– Нет, что ты, лучше я сниму халат.
Поболтали немного – в общем, ни о чем.
Обе были очень усталые. Она хорошая девушка, моя ровесница. Наверное, мы с ней еще почаевничаем, но, будем надеяться, не сразу после рабочей ночи.
24 июня
Села за компьютер. Писать от руки на бумаге хорошо, когда ведешь дневник, но когда трудишься над текстом, каракули набегают на каракули, а в придачу мой ужасный почерк – часто сама не могу его разобрать. Пока пользуюсь компом, который стоит у нас в дежурке, провожу за ним каждую свободную минуту. Сегодня даже специально пришла сюда. Дежурит Кася, она уже целый час сидит у постели Матеуша. Мальчонке одиннадцать лет, он здесь недавно и вечерами не может заснуть. Он уже достаточно большой, чтобы многое понимать и бояться. Все время твердит, что к сбору урожая вернется домой. Матеушек из деревни в Тарновском воеводстве. Он знает все о тракторах и умеет доить корову. Может, и вернется урожай собирать. Кто знает.
В остальном ночь спокойная, все отделение спит. Только я тут сижу и стучу по клавиатуре.
Сильно меня заинтриговала эта Клото. Сегодня кое-что написала о ней, появились кое-какие идеи. Вдруг и Клото станет моим персонажем? Правда, пока я ее толком не знаю, но заметила, что она очень интересно рассказывает. И даже если она слегка выдумывает, что в этом плохого. Литература – сплошная выдумка, однако необязательно ложь.
Слушая чужие истории, отдаляешься от собственной жизни. В рассказах Клото полно странной, непривычной эротики, она вся как из порнофильма: каждый ее жест, отсутствие стеснительности – в целом вульгарно, но одновременно завораживает. Она словно находится по другую сторону занавеса. Хочется заглянуть туда, может, даже зайти на минутку. Сердце бьется от волнения, желудок выворачивает наизнанку, рассудок говорит «нет», но трудно устоять. Из-за занавеса доносятся стоны, прерывистое дыхание, непристойные словечки, шлепанье тела о тело, все пропитано запахом спермы, пота и дешевых духов. Рука невольно тянется отодвинуть занавес, чтобы взглянуть одним глазком, что там творится, а потом еще продвинуться на полшага. Сбегаю, чуть дыша, потрясенная собственными мыслями, мне стыдно. Однако не проходит и минуты, как я успокаиваюсь и начинаю жалеть, что смелости не хватило. Ночью ублажаю себя и не могу выкинуть эти мысли из головы. Все дурное притягивает как магнит.
30 июня
Отделение онкологии начинается на первом этаже с длинного коридора, который тянется от входа до огромных наклонных окон, занимающих всю западную стену. Там, рядом с амбулаторией, находится приемная, где сидят родители и дети, которые пришли на обследование или консультацию. Некоторые потом попадают к нам, другие возвращаются домой, но там, в коридоре, ничего еще не известно. Там ждут хороших или плохих новостей. Если встать сбоку, можно увидеть всю эту массовку разом: несколько десятков человек – матери, отцы, дети. Дети маленькие и повзрослее, кому два годика, а кому лет пять, десять и больше. Родители сидят серьезные, сосредоточенные, насупившиеся, полностью сознавая, что ждут приговора, что ближайшие два часа способны изменить для них все. Иногда они прохаживаются по коридору туда-обратно, задерживаются у окон и думают, думают, потом отходят и снова возвращаются, медленно вышагивая по раз и навсегда установленному маршруту, ступают по квадратам, треугольникам и прочим геометрическим узорам, ссутулившиеся, запертые в невидимых клетках страха, шепчут молитвы себе под нос или пытаются прямо здесь, в этом холле, представить, на что станет похожа их жизнь, если новости все-таки окажутся плохими, а то и наихудшими. Клянутся себе совершить паломничество к Богоматери Ченстоховской, бросить курить, расстаться с любовницей, как-то изменить жизнь к лучшему, в некотором роде принести жертву или подношение. Пытаются дать взятку Господу Богу, даже если в Бога и не верят.
Только дети свободны. Прыгают, бегают, кричат, играют как ни в чем не бывало. Кто-то из них будет жить долго и более-менее счастливо, другие скоро умрут, через несколько месяцев.
И чудится, будто по коридору бродит никем не замечаемая особа. Бесшумно передвигается она от ребенка к ребенку, касается смеющихся лиц, гладит их нежно и шепчет:
– Умрешь.
– Выживешь.
– Умрешь.
Потом проходит через стеклянные двери и поднимается вверх на лифте. Там она присаживается на одну из кроватей и что-то шепчет маленькому человеку. И он умирает той же ночью или на следующую.
Я ощущаю ее присутствие, знаю, что она была тут, знаю, кого выбрала, всю ночь провожу в напряжении, заглядываю в темные палаты, прислушиваюсь к дыханию и жду. Днем здесь как в детском саду, игры, велики, жизнь бьет ключом, снуют родители, быстрым шагом проходят врачи – с операции, на операцию, на процедуру, на обход, на перекур. Ночью – тишина, отдаленный шум автомобилей не в состоянии заглушить треньканье аппаратуры, а в дежурке монотонно бубнит маленький телевизор…
Все это лишь ожидание.
Ожидание очередной смерти.
7 июля
На Казимеже фестиваль еврейской культуры. Специально поменялась с Алей дежурством, чтобы не пропустить финального концерта. В прошлом году была там с Тобой. Помнишь, как лило? Огромная развеселая толпа под потоками дождя – на это стоило посмотреть.
В этом году обошлось без дождя. На Широкую я отправилась вечером, уже смеркалось. На подступах к Широкой встретила Клото, на сей раз в гражданской одежде, то есть в нормальных шмотках. Подумала, как странно: она способна преображаться по собственному желанию. И речь не только об одежде, но и манере выражаться, жестах. Неужто из любой проститутки можно сделать порядочную девушку? И неужто в любой порядочной девушке спрятана шлюха, готовая проявиться чуть не по первому требованию? В голове мелькнуло, что Клото потеряет немало денег, ведь сегодня суббота, в ее ремесле самый прибыльный день.
Купили пива и двинули в толпу. Увидела Пиноккио, а точнее, услыхала. Он немилосердно лупил в свой бубен, и, как обычно, его азарт притягивал людей. Вокруг него образовался круг танцующих, в основном молодежь, знакомая по прошлому году, и несколько человек, не говоривших по-польски. Прыгали вместе, смеялись. Мы с Клото тоже начали танцевать, сперва несмело и неуклюже, мешали кружки пива в руке и слишком высокие для этой брусчатки каблуки. Слов песни я не понимала, зато понимала музыку. Эти абсолютно неевропейские ритмы раскачивали толпу. И мы поддались общему настроению, подхватывали вопли Пиноккио, в конце концов сбросили туфли и босыми отплясывали в центре круга. Все вокруг хлопали; должно быть, мы и вправду хорошо смотрелись: обе с длинными волосами, развевающимися в танце, у Клото обесцвеченные добела, у меня черные, обе в коротких блузках на бретельках, без бюстгальтеров. Я подняла руки, стала хлопать в ладоши и вращать животом. Клото повторяла мои движения.
– Классная у тебя сережка, сестра!
Ну вот, совсем забыла. Я ведь для Тебя проколола пупок, шутки ради, в моем возрасте это чистое извращение, год назад серьги еще не было. Черт, как эта Клото ко мне обращается? Сестра? Отлично! Толпа вокруг нас росла, мы всех зазывали танцевать. Все плохое откатилось куда-то далеко – и история этого квартала, и моя история, и вообще все печали.
Внезапно музыка смолкла, а потом зазвучала вновь, но другая – протяжная, очень трогательная. Молодой, лет двадцати, парень с прекрасным высоким голосом околдовал всех. Может, он пел о любимой девушке, или о матери, или о бабушке с дедушкой, которые погибли здесь, в Польше, а то и прямо здесь, на Казимеже, – словом, понятия не имею о чем, но пел он изумительно. У синагоги Ремух люди тоже встали в круг, такой же, как наш, только составленный из пожилых людей. Двигались они медленно, опустив головы на грудь, сплетя руки, будто что-то вспоминали, молились в танце. Я расчувствовалась, вспомнила, как год назад мы отплясывали здесь с Тобой, загрустила. Но горечи не было, музыка окутывала меня, укачивала, успокаивала.
И вдруг меня обдало горячей волной, я застыла на месте. Адреналин расплескался по жилам, едва не оглушив. Я увидела Тебя! Стояла как идиотка и не понимала, что происходит, то ли мне это снится, то ли я рехнулась. Видела, как Ты танцуешь в десятке шагов от меня, узнала Тебя по фигуре, по жестам. Было уже темно, и под медленную музыку прожекторы на сцене притушили, но я видела Твои глаза, Твою улыбку. Я стояла, окаменев, на границе реального, понятного мне мира, не в силах сделать шаг к Тебе, не в силах пересечь ту границу…
И тут музыка закончилась. Под шквал аплодисментов вспыхнули все прожекторы, и я разглядела, что это все-таки не Ты, тьма обманула меня…
Снова заиграли музыканты, наш круг принялся танцевать, а я стояла в центре неподвижно, жутко одинокая в этой пляшущей толпе, потерянная. Не плакала, ведь я, кажется, разучилась плакать, но чувствовала себя так, словно вот-вот сойду с ума, отсеку разум и прочие нормы, завою и уже никогда не перестану выть, брошусь на землю, буду брыкаться, кусать всех и вся, сорву с себя одежду и ударюсь в бегство, в безумие, навсегда.
И в этот момент я увидела старушку буквально в паре шагов от меня, с длинными седыми волосами. Когда-то эти волосы, наверное, были черными, как мои, и, наверное, пахли, как мои, и завивались от сырости, но сейчас они были белыми как снег, немножко растрепанными, ведь седые волосы трудно хорошенько уложить, они жесткие, будто одеревенелые. Потому пожилые женщины не носят длинных волос, а если носят, то утягивают их в пучок. Но она подвязала волосы в хвостик, как причесываются молодые, как причесываюсь я на дежурстве в больнице.
Стояла она в нескольких шагах от меня, опустив руки, и казалась моим отражением в зеркале, только отражением в далеком будущем. Лет ей было много, наверняка уже давно перевалило за семьдесят. Она плакала, и слезы текли по щекам, капали с подбородка, но мне казалось, что я вижу в ее глазах скорее не печаль, но ужас. И вдруг ее взгляд упал на меня, и страх в глазах пропал, она дружелюбно улыбнулась. Кошмар, терзавший ее, улетучился. Она вытерла глаза. Такое было ощущение, будто нас обеих накрыли за чем-то непристойным и обе устыдились. Спустя некоторое время она зашагала прочь, но не в направлении сцены, а в другую сторону, туда, где начиналась улица. Для нее веселье закончилось, как и для меня.
Надела я туфли и двинула домой, за мной грустно поплелась Клото. Наверняка она все видела, но ни о чем не спрашивала и не предложила чаю; каждая пошла к себе, к своим делам – она, должно быть, в постель, чтобы выспаться в кои-то веки, а я к своей тетради.
12 июля
До чего же противный мужик в окне на той стороне. Прозвала его Старым Стервятником, потому что он так и выглядит. Старый, тощий, линялый какой-то, нос крючком и неподвижный взгляд. На фоне залитой солнцем стены он очень похож на стервятника, нахохлившегося среди раскаленной пустыни. Тихонько выжидает, когда ему перепадет какой-нибудь объедок, лакомый кусок моей личной жизни. По сторонам он почти не смотрит. Когда его нет, что случается редко, открываю окна и впускаю хоть немного света. Цветы уже совсем завяли в темноте. Не пойму, почему я так боюсь, почему он мне так действует на нервы. Может, дело в его физиономии, не знаю.
Впадаю чуть ли не в паранойю. Возвращаясь вечером, оглядываюсь, не идет ли кто за мной, не караулит ли этот старый хрыч где-нибудь в потемках, готовый наброситься, стоит мне нырнуть в темный подъезд.
19 июля
Когда я начинала здесь работать, часто рассказывала знакомым о детях из моего отделения – что они говорят да как играют, как выглядят.
Потом перестала, сообразив, как же часто они умирают. До меня дошло, что я выношу из больницы нечто такое, чего выносить нельзя. Помню мою маму, заплаканную, подавленную, после того как она услыхала от меня очередное «умер».
Мы – орден со строгими правилами. Каждая из нас рано или поздно это осознает. Все, что происходит по нашу сторону, – тайна, запечатанная молчанием. И нести все это мы обязаны в одиночку. Делиться печалями либо радостями запрещено.
Примерно раз в неделю хочется бросить работу, забыть о ней навсегда. Но не получается. Разве что наступит такой день, когда все дети умрут одновременно и назавтра не к кому будет возвращаться.
Между прочим, у шестилетней Эмильки уже нет золотистых волос и она больше не похожа на рассыпчатое печенье. Теперь она лысая и бледная, как чешский кнедлик. У нее матовая кожа, и последние две недели она почти каждую ночь писается в постель. Ее мать тоже не похожа на ту, какой она была два месяца назад, – глаза запали, такое впечатление, будто она глядит через черные дырки в черепе. Теперь она носит темные очки.
На прошлой неделе мать брала Эмильку домой на два дня. Призналась мне под большим секретом, что везет дочку к какому-то знахарю-чудотворцу. Что ж, люди издавна справляют особые ритуалы, призванные отвадить смерть. Евреи в подобных случаях меняли больному имя, чтобы обмануть ангела смерти, сбить его со следа.
Если это дает ей хоть немного надежды, пусть едет, надежда порою – самое главное. Без нее остается только впасть в отчаяние, а ведь надо бороться. Считается, что надо. Эмильке уж точно нельзя сдаваться. Ведь она борется за все, что у нее есть.
23 июля
Проснулась вся в поту. Пекло невыносимое, и это в восемь утра. А что дальше будет? Встала, распахнула окна. Старого Стервятника не было. Легла на кровать и ждала, пока сквозняк смахнет с меня капельки пота. Тут-то он и появился, по своему обыкновению. До чего же мне надоела его рожа и тупой взгляд!
Сколько метров до его дома? Два тротуара и проезжая часть, не слишком широкая, автобусы бы на ней не разъехались. Ему наверняка отлично видно, как я валяюсь в ночной рубашке с голыми ногами прямо напротив окна. Так мы и проторчали добрых десять минут – он там, а я тут. Не хотелось вставать и закрывать окна, не желаю лежать здесь, как в могиле.
Кой черт меня дернул и что на меня вдруг нашло, но я вскочила, одним движением сбросила рубашку и осталась голышом; мужик, однако, даже не шелохнулся. Наоборот, будто застыл в ожидании продолжения, в ожидании следующего лакомого кусочка. Я подошла к окну и уже собралась рявкнуть, швырнуть ему кусок протухшего мяса. Но он исчез, спрятался. Остались только черный прямоугольник окна и тихая улица в воскресное утро. Черт бы его побрал, мерзкий старикан, лучше не думать о том, что он сейчас выделывает в своей норе.
1 августа
Вчера вечером дозрела наконец, чтобы завершить мою повесть о старухе. Я давно знала, как все сложится, и боялась этого. Я сочинила фиктивную жизнь, устроила судьбы многих людей, а теперь, на последних страницах, потребовалось уничтожить всю эту вымышленную реальность. Я так задумала и только в таком исходе видела какой-то смысл, но не знала, как трудно будет это сделать, не знала, насколько я привязалась к моим персонажам. Полдня ходила по дому как дура туда-сюда, силилась придумать иную концовку.
В итоге пришлось смириться. Финал не так-то просто изменить; может, в Голливуде это раз плюнуть, а мне не по зубам. Села и написала то, что должна была написать. Сердце колотилось со страшной силой, я чувствовала себя преступницей, злодейкой, настоящим душегубом.
Выдала я концовку буквально на едином дыхании, поставила последнюю точку, перечитала все целиком и сейчас уже понимаю, что права, что только так и могло быть.
Это чувство, сердцебиение, страх, все эти переживания – честное слово, за них можно многое отдать. Лучше занятия, по-моему, и не найти. Интересно только, понравится ли моя писанина другим людям. Надо дать кому-нибудь почитать.
5 августа
Когда идет дождь или на небе тучи, Стервятника в окне нет, но я все равно ощущаю его присутствие. Гад, сидит, наверное, там, за стеклом, в сумраке своей вонючей норы и ждет. Но чего дожидается эта сволочь? Хрен знает.
Подглядывание – часть нашей природы, оно заложено в генах и возбуждает нас сексуально, мы воображаем, что человек, который ведать не ведает, что за ним наблюдают, вдруг начнет вытворять такое… Но что именно? Воображение пускается вскачь – и нам этого достаточно. Подглядывание удовлетворяет любопытство, мы смотрим на того, другого, человека как в зеркало и приободряемся, когда замечаем в нем те же слабости, от которых сами мечтаем избавиться, когда видим, что он так же спотыкается в жизни. Но ведь подглядывание забавляет, только если тот, за кем наблюдают, ничего не знает о присутствии соглядатая. Знай он, повел бы себя неестественно. Какой же интерес в подглядывании Старому Стервятнику? Он же понимает, что я его вижу. Может, рассчитывает на то, что пройдет время, я привыкну и перестану обращать на него внимание? Вроде бы именно так все и происходит в реалити-шоу, его участники постепенно забывают, что они каждую минуту на виду. А может, он ждет, что я поддержу игру и закачу ему точно такое шоу? А вдруг ему кажется, что я в конце концов сделаю что-нибудь специально для него, что мне понравится чужое подглядывание, может, надеется, что я обнаружу в себе эксгибиционистку?
Похоже, в этом есть некий смысл. Ловлю себя на том, что иногда веду себя нарочито, будто слегка играю, когда знаю, что он меня видит. Не сидеть же мне сутками с запертыми окнами! Постепенно начинаю к нему привыкать и как бы его игнорирую, но всегда помню о нем, что бы ни делала. Это даже любопытно.
Жаль только, что он такой старый и противный.
14 августа
Зачем я вообще пишу? Хороший вопрос. Все, наверное, зависит от того, каким образом я сортирую и фиксирую то, что вижу вокруг, как справляюсь с жизнью, которая бывает либо невероятно прекрасной, либо невероятно страшной – настолько, что я просто не могу не всматриваться в эти впадины и холмы. Сдается мне, что порою я замечаю больше, чем другие; словно въедливый таможенник при досмотре багажа, я перелопачиваю время, текущее мимо, и обнаруживаю в нем немало всякого, имеющего некую ценность. Наверное, писатель и должен быть таким упертым таможенником, стерегущим границу между прошлым и будущим. Красивые вещи, запакованные в чемоданы и сумки, нужно уметь обнаружить. Не думаю, что я уже обладаю этим умением, но верю, что какой-никакой дар и огромное желание у меня есть. Верно, работа в больнице отнимает много сил, но даже ей не извести этого жара и этого запала.
Вчера почти всю ночь просидела с Клото. Бабские разговоры за жизнь. С момента нашего знакомства минуло немало времени, но я до сих пор не могу ее раскусить. Общение между нами взаимовыгодное – обмениваемся по бартеру образом жизни и темпераментом. Я подсовываю ей книжки, хорошую музыку, а она отстегивает мне от своей неисчерпаемой энергии и твердости духа. Она обладает какой-то врожденной мудростью, о самых тяжелых моментах своей жизни рассказывает предельно откровенно и с юмором, возносясь над своими врагами и собственными изъянами. Клото это умеет, а я нет. Не знаю, чего мне не хватает. Подозреваю, ее простоты. Я замороченная, закомплексованная и жутко замкнутая. А в придачу у меня никогда не возникало ощущения, что я оказалась на самом дне, что дальше падать некуда. У нее, похоже, возникало. Если человек такое пережил, он становится свободным, больше ему бояться нечего…
Сегодня начала новую повесть и опять не знаю, куда меня занесет, а подтолкнула меня к этому Клото. Руки зачесались, когда я впервые увидела, как она плачет. Не представляла, что она на такое способна. Мне немного совестно, я, идиотка, считала ее развеселой девахой, безбашенной, без тормозов. И в голову не приходило, как ей одиноко и как это ее порою должно доставать.
Под упаковкой шлюхи, под вульгарными манерами, боевой раскраской, грубой речью – под этим всем, возможно, таится запертый в клетке ангел, одинокий, отрезанный от нормального мира, ждущий, чтобы кто-нибудь хотя бы на минуту его выпустил, позволил перевести дух. А что скрывается в моей душе? С виду я – сама доброта, и профессия у меня подходящая, и переживаю-то я за своих пациентов… Как оценивают меня другие? Думают, наверное, что я отзывчивая, деликатная, это как бы само собой разумеется. Но какова я на самом деле? Что сидит там, глубоко, за семью замками? И что произойдет, выпусти я этого зэка на волю? Что было бы, если бы вдруг некому стало меня судить и никто бы от меня ничего не ждал, если бы я отважилась исполнить свои тайные желания, поддаться инстинктам, самым низменным, если бы мне было разрешено экспериментировать безнаказанно, если бы могла позволить себе что угодно, а потом одним взмахом волшебной палочки стереть это из памяти и знать, что никто, ни один человек об этом не узнает? Может, я попробовала бы то, к чему прежде близко не подходила; может, захотела бы на один вечер поменяться местами с Клото, только на одну ночь, посмотреть, как оно на самом деле; может, решилась бы убить Старого Стервятника, или ограбить банк, или обрядиться в лохмотья и пожить месяц на вокзале, питаться тем, что найду в мусорных баках, стоять на коленях на тротуаре с протянутой рукой и по уши окунаться в людское презрение и милосердие. Может, благодаря такому внезапному освобождению я превратилась бы в чудовище либо обнаружила в себе невиданную чуткость.
У меня такое чувство, будто я всю жизнь тащусь по накатанной колее, пролегающей по приятным, но скучным местам. Хочется свернуть в сторону, наугад, просто бежать через поле, не заботясь о том, чтобы куда-нибудь добраться, узнать, какое счастье брести по бездорожью, спотыкаться о камни, переживать радости и муки бродяжничества. Кто знает, на какие сокровища можно наткнуться в том открытом поле. По дороге, по которой я сейчас шагаю, прошли уже бесчисленные толпы, люди утоптали тракт. Оборачиваюсь, вглядываюсь в их лица: цель их не интересует, был бы удобен путь. И не удручает их мысль, что конечный пункт для всех один.
25 августа
Проснулась очень рано, радостная, полная энергии, ведь это мои первые два выходных подряд за долгое время, да еще и солнце светило так весело! И затеяла я большую уборку. Старого Стервятника не было, я открыла окна настежь и давай пылесосить, натирать полы, даже окна вымыла. Управилась еще до одиннадцати и понеслась на площадь. Знаешь, как я люблю делать покупки, когда в перспективе два свободных дня и можно насочинять столько интересной еды. Не забуду наши сказочные обеды в конце месяца – в кошельке последние десять злотых, и тем не менее всегда удавалось соорудить такие блюда, которых не постыдился бы опытный шеф-повар. Чудо-обед на последние десять злотых, кое-кому и за сто такого не приготовить.
Сегодня в моем кошельке было немножко больше, я почти бежала, голодная как волк, до уборки я выпила только кофе. Мне уже чудились вкуснейшие салаты и увесистый кусок мяса на два дня – в первый день обжаренного с овощами, во второй порубленного и полчасика потушенного в провансальских приправах.
Давно я не была такой веселой и бесшабашной – тут что-то купила, там поторговалась, здесь покрутила носом, заскочила на минутку в «Алхимию», перецеловала приятелей, лечивших похмелье утренним кофе, и полетела дальше. Под конец купила у Ванды большой букет полевых цветов, соленых огурцов и два пива. Совсем рехнулась – хорошо, что не взяла с собой больше денег, а то спустила бы все.
После всех этих пробежек, разговоров, впечатлений домой шла не торопясь, размеренным шагом, с цветами в одной руке, с пакетами в другой и соленым огурцом в зубах. Разглядывала город и людей вокруг, радуясь, что снова вижу так много красок, что снова могу улыбаться, и вдруг увидела сцену будто из какого-то безумного фильма: трагедия, доведенная до гротеска. Навстречу мне по противоположной стороне улицы шел Старый Стервятник – шел и постукивал по бордюру белой тростью, а перед собой толкал инвалидную коляску, в которой кто-то сидел – женщина; тело, будто скрученное в узел, лицо окаменевшее, неподвижное, худые как плети руки лежат на специальных подпорках. Двигались они медленно, исследуя каждый камушек, каждый столбик, – в таком же замедленном темпе обычно разворачиваются события в кошмаре. Двигались аккуратно, осмотрительно, словно альпинисты, одолевающие ледяную стену…
Выходит, он слепой…
А что это за женщина?
Меня бросило в жар. Потрясенная, я в какой-то оторопи приближалась к ним, а прохожие мчались своей дорогой, не обращая на этих двоих никакого внимания. Толпы стекались на площадь и рассеивались по переулкам, проезжали машины, кричали дети. Никто ничего не видел, хотя все смотрели и даже оглядывались, но не задумывались, лишь качали головой и шли дальше. Поравнявшись с коляской, я заглянула в глаза той женщине, и вмиг все внутри у меня заныло. В этих глазах был океан, в них били родники, пели птицы, в них была жизнь.
Представила себе ежедневный труд этого человека, труд в непроглядной тьме, все эти процедуры, которые я хорошо знаю, потому что не раз выполняла их в больнице, тяжкий каждодневный уход за женщиной, в которой было еще столько жизни, но ни капли способности позаботиться о себе. Торчала я там, на углу, и смотрела, как они удаляются, продвигаются вдоль улицы, и голову даю, следом за ними плыло сияние.
Бывают такие минуты в жизни, когда чувствуешь присутствие Бога, когда чудится, что разогнавшаяся было с очередным рассветом вселенная вдруг замирает и складывается в одну-единственную и прекрасную в своей ясности фигуру, и кажется, что только тебе и только сейчас позволено это увидеть. С этим ощущением я отправилась дальше, к дому. Казалось, все мои чувства невероятно обострились, словно кто-то прибавил звуку и четкости окружающему миру; я слышала, как шелестят волосы у проходившей мимо девушки, как плачет ребенок где-то высоко, на пятом, а то и на шестом этаже, различала снующих в траве жуков, улавливала шум собственной крови. Все вокруг трепетало и пульсировало, и внезапно захотелось прикоснуться ко всему, что есть вокруг, – понюхать траву, пощупать асфальт. Сбросила босоножки и потопала по шершавому тротуару, нагревшимся под солнцем трамвайным рельсам, потом по обочине, рядом с бордюром, там, где всегда скапливаются пыль, и песок, и мелкие камушки, они кололи мне ноги, и когда уже не стало сил терпеть, я свернула на газон, пошлепала по краю, и плевать мне было на застрявший меж стеблей мусор, огрызки, окурки, собачьи кучи, шелестящие бумажки. Я будто превратилась в один-единственный нерв, каждый миллиметр моих стоп требовал новых прикосновений и ощущений. Я старалась наступить на каждый предмет, который попадался под ноги, – на рваную пластиковую сумку, на жидкую грязь у тротуара, на смятую сигаретную пачку; я настолько ошалела, что валяйся там дохлая кошка или битое стекло, я бы и в это влезла. В конце концов добрела до Вислы, спустилась по ступенькам, бросила на траву пакеты с продуктами, уселась. Глянула на свои стопы – перемазанные, пыльные, вытянула ноги и подставила лицо солнцу. Вдруг мне страшно захотелось есть. Жевала хлеб, рвала его руками и закусывала колбасой, отгрызая от палки. Какой-то добрый человек хотя и посмотрел на меня странно, но все же помог открыть пиво. Это был, наверное, самый прекрасный завтрак в моей жизни, никогда еще еда не казалась такой вкусной. Потом я заснула в траве над Вислой, словно жизненная энергия, внезапно меня обуявшая, куда-то исчезла, и я стала сонной, отяжелевшей.
Проснувшись, обнаружила, что босоножек у меня больше нет; не знаю, потеряла я их где-нибудь по пути или украли – если так, то вор, должно быть, очень беден, босоножки были старые, изношенные. Что ж, пусть послужат ему еще некоторое время.
Волей-неволей домой пришлось возвращаться босиком. Как же много мы теряем, оттого что ходим в обуви, – наше восприятие мира от этого страдает. Все равно что всю жизнь носить перчатки и ни разу не почувствовать прохлады перил, влажности или сухости ладони, которую мы жмем, здороваясь, колючих пупырышек на августовских огурцах, липкости теста, замешенного на пироги…
Сижу вот и пишу все это, обращаясь к Тебе. В духовке осуществляется моя утренняя мечта о запеченном мясе, напротив – Старый Стервятник. Он глядит неподвижно в мое окно, но мне уже известно: он просто греется на солнце, и невдомек ему, что однажды я отважилась встать голой в десятке метров от него, не сомневаясь, что он на меня смотрит. Теперь роли переменились, теперь я подглядываю за ним в полной безопасности и неукротимом любопытстве. Он меня не видит, мне же отлично видна его вытянутая физиономия с крупным носом на фоне черного прямоугольника окна, за которым он прячет свои житейские секреты.
11 сентября
Вернулась с дежурства в десятом часу утра. Ночь выдалась очень тяжелой. С трудом поднялась по лестнице. И как стояла, так и рухнула, туфли стаскивала уже лежа, погружаясь в зыбучие пески постели, едва дыша. Из последних сил расстегнула брюки. Ниже колен стянуть их не удалось. Поерзала немножко, но так и не смогла от них избавиться. Заснула.
Разбудил меня телефон. Долбаный мобильник! Никогда не знаю, где он. Пищит, будто взбесился. В сумке? Нет, не там, где-то под сумкой. Руки деревянные, пальцы не гнутся, в голове шумит. Может, в куртке? Левый карман, правый карман – нету. А он все пищит. Где-то на кресле. Совсем ничего не соображаю, одной ногой все еще на том свете, куда ушел сегодня Анджеек. Его мобильник не разбудит, его уже ничто не разбудит. Писк. Перед глазами мелькают картины прошлой ночи. Почему, черт побери, я не могу нормально шагнуть? Где этот проклятый мобильник? Обхватываю ладонями худые ножки, каждую нужно обмыть, провести губкой вверх-вниз, а потом выпрямить. Мама Анджейка не позволила, чтобы ее выпроводили, да никто особенно и не выпроваживал, все старались ее избегать, ведь она сейчас – бомба, которая в любой момент может взорваться, выстрелить тысячью слов, острых, как нож, шрапнелью криков, воплем отчаяния. Лучше держаться от нее подальше, лучше с ней не заговаривать, лучше молчать, опустив глаза, сжав губы, привычно делать только то, что требуется, и ни в коем случае не смотреть на нее. Ножки приподнимаются, не желают лежать ровно, спинные мышцы уже окоченели, раньше надо было этим заниматься. Пищит… что так мерзко пищит? Она что-то говорит мне – «Постой, милая, помоги мне», – она спокойна, улыбается. Аккуратно переворачиваем Анджейка на живот, маленькая костлявая попка неестественно выпирает, торчит так жалобно, – «Помоги мне», – массируем позвоночный столб размеренно, изо всех сил. Толку ноль, но нельзя перечить живой бомбе, женщине, обмотанной динамитом крика, готовой в любую секунду оглушить истерикой всю больницу. Руки медленно движутся вверх и вдоль позвоночника, наши ладони соприкасаются, она улыбается мне, трудимся дальше. Меня все больше захватывает монотонность движений, их ритмичность, в такт пульсирующему писку, заполнившему все вокруг. Что это за звук? Входит отец Анджейка, ее муж, приехал откуда-то, глядит на нас. В глазах ничего нет – вообще. Стоит и смотрит. Бессмысленно. Худенькая спина ребенка, еще минуту назад холодная, жесткая, начинает потихоньку теплеть, и я вдруг ощущаю, как его тельце обмякает, поддается, распрямляется на твердой кушетке. Она смотрит на меня чуть ли не с триумфом, словно хочет сказать: «Запомни на будущее, как это делается». У нее под носом висит слеза, круглая, прозрачная, сверкающая, как хрустальный шарик. Что так пищит? Я сойду с ума. Черт. Дежурство не идет из головы. Да что же это? Что за невыносимый звон?.. Вот он! Наконец-то! Нашла. Лежал рядом с креслом. Жму на зеленую кнопку, не могу сделать шаг. Почему? Да потому что брюки, чтоб их, болтаются у колен. Падаю в кресло, напротив на стене часы – пятнадцать двадцать одна, солнце пробивается сквозь жалюзи, нарезает комнату полосками.







