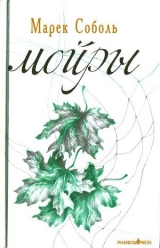
Текст книги "Мойры"
Автор книги: Марек Соболь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Сперва он работал в газете, то есть писал какие-то статьи, и в целом дела у него шли недурно. Они сумели отложить немного денег, но, когда девочка заболела, все истратили. Когда он начал пить, его сразу уволили, раз-другой не сдал работу в срок – и до свидания. Ну а потом он уже настолько поглупел, что, наверное, и не сумел бы ничего написать. Работал кладовщиком при больнице, но и оттуда его выгнали. Хуже всего было то, что он сам себя губил. Видала я, как один человек норовит погубить другого, измывается, причиняет всякое зло, но страшно и то, что человек сам способен с собой сделать, когда сдастся, когда решит, что все неважно, что все не в счет и ничего уже не изменится. По сути, мсье Петри сам себя убил, будто нарочно, намеренно, и не нашлось никого, кто бы попытался что-то исправить, а он медленно погибал.
И погиб.
Молодой Бувье, ему было тогда лет двадцать, пришел сюда как-то утром и сказал, что мсье Петри забрали в больницу; потом я увидела его жену, она шла за покупками, я выбежала из кафе, спросила ее о муже, но она только отмахнулась и даже шагу не сбавила, а когда была уже на другой стороне улицы, обернулась и крикнула: «Да чтоб он сдох!» Я так и обмерла на пороге, схватилась за дверь, отлично помню тот ее жест, поднятую руку, и, кажется, тогда я поняла, почему так происходит, почему именно так…
Думается мне, что когда уже нет любви, когда она покинет тебя или умрет, то человеку не остается ничего лучшего в жизни, чем пить, только пить и в итоге загнуться. Почему бы и нет. Можно ослепнуть или обезножеть, можно лишиться матки или умирать годами от какой-нибудь страшной болезни и все никак не умереть, можно терпеть нужду и всякие разные напасти, но пока есть любовь, пока есть к чему в этой жизни стремиться, на костылях или на ощупь, ползком или еще как-нибудь, пока это есть, то жить еще стоит, а когда уже ничего нет, то лучше отупеть, одряхлеть, скукожиться, как старое пальто, как дырявые кальсоны, как вонючие носки, износиться, чтобы люди морщились, сторонились, чтобы остались лишь презрение и убожество, чтобы перечеркнуть всего себя. Может, и я бы ушла в ночь, как мсье Петри, но у меня был Хенрик, было счастье. Я уже говорила, что побывала в аду, но когда уже совсем стало невмоготу, когда дошла до самого предела, там меня ждал Хенрик, и потом я уже всегда была счастлива.
Скажите после всего, что вы тут услышали, могла бы я когда-нибудь сказать про Хенрика «чтоб он сдох»? Нет, ни за что на свете. Это страшно. Просто страшно.
А может, глупо так говорить. Может, его, мсье Петри, тоже кто-то ждал, какое-нибудь счастье, новая жизнь, только он не сумел этого разглядеть. Да и как ему было разглядеть хоть что-нибудь, если он сидел тут в углу, вон там, или в другой пивнушке и бурчал себе под нос, если он только спал да пил? Ума не приложу.
Позже оказалось, что у него была опухоль в мозгу или что-то в этом роде, и пил он так много оттого, что его все время мучили боли; кажется, он даже жаловался кому-то, но кто станет волноваться о пьянице? Пьет, вот голова и болит. Когда мы возвращались с похорон, она, жена его, говорила, что якобы поэтому Петри сильно поглупел под конец и с ним уже невозможно было разговаривать. Он просто умирал, сам того не зная, но другие-то должны были сообразить. В больнице ему уже через два дня сделали операцию, а потом он три дня кончался. На похоронах у его жены был такой отрешенный взгляд, она смотрела на людей, словно не видя их, и я подумала, что она вспоминает все счастливые минуты, проведенные с ним, вспоминает, как родились у них дети, как они любили друг друга, как вместе боролись за дочку, спасая ее от смерти, и ей стало так жаль всего этого, что она хоть и не до конца, но простила его… а может, она стояла там и лишь ждала, когда закончатся похороны. Не знаю. Когда возвращались с кладбища, она сказала мне, что в больнице все удивлялись, почему никто этого не заметил, ведь у него наверняка были страшные боли, и порою он должен был выглядеть совсем ненормальным и говорить странные вещи. Но ведь все видели, что он только пил и пил, а кто всерьез станет беспокоиться, если пьяница болтает глупости или кричит. Она мне об этом рассказала, будто хотела его чуточку обелить, мы ведь с ней никогда прежде не разговаривали. А может, только для того, чтобы хоть что-то сказать, глупо было бы молчать, коли уж мы едем вместе в метро.
Это и вправду ужасно.
Вы заметили, что я все время говорю о грустных вещах – смерти, болезнях, о своих несчастьях и чужих? А ведь у меня была такая хорошая жизнь, я была по-настоящему счастлива, и когда гуляю по Пер-Лашез или набережным Сены в солнечный день, как, например, вчера, я благодарю судьбу за все. В конце концов, неизвестно, что могло случиться. Ведь не будь я еврейкой, а точнее, польской еврейкой, не пройди через лагерь, не натерпись всякого сразу после войны, то, может, судьба не послала бы мне Хенрика, мы бы не встретились и жизнь сложилась бы совсем иначе, и вот я спрашиваю себя, что бы я предпочла: быть здоровой женщиной, рожать детей и заниматься любовью, только с каким-нибудь совершенно другим мужчиной, с которым я не чувствовала бы себя по-настоящему счастливой, действительно любимой, или лучше все-таки было испытать все это, но встретить его, стать его любовью, посмеиваться над его грешками, без которых он был бы уж совсем идеальным, каких не бывает. Думаю, я бы снова выбрала эсэсовские сапоги сроком на три года и все те издевательства, но чтобы потом жить с Хенриком здесь, в Париже. Выбрала бы это.
Многие не понимают, а ведь это так важно. Не понимают одного: что бы ни случилось, надо всегда надеяться на лучшее, как я надеялась, на то, что судьба будет к нам добра, что все переменится и можно еще дождаться счастья. Нельзя сдаваться, нельзя губить все в себе и вокруг себя, даже если нам кажется, что все кончено и жить больше не стоит, потому что никогда не знаешь, что может произойти, что принесет следующее утро или следующая ночь. Если бы супруги Петри понимали это, он бы точно не запил; наверное, родили бы третьего ребенка, а его болезнь не развивалась бы так быстро, и жил бы он еще много лет. А может, им надо было что-то изменить в своей жизни, расстаться, поискать чего-то нового; ну а если уж совсем не было сил что-то менять, то надо было просто приходить сюда каждый день, сидеть за чашкой кофе в молчании, забыв про ненависть и не проклиная жизнь, просто сидеть спокойно и ждать, что принесет следующий день, ведь он и вправду может принести всякое.
Сами подумайте, могла ли я предположить, пока сидела в лагере, что со мной произойдет еще столько всего удивительного? Тогда я понятия не имела, что такое Париж, знала, конечно, что есть такой город где-то далеко, во Франции, и даже слыхала, что он красивый, но ведь там, в лагере, все уже казалось конченым, важно было лишь дожить до следующего дня, и то порою задумывались, стоит ли доживать. Когда я стояла на плацу, на поверке, и глядела, как ветер треплет гитлеровский флаг, неужто я могла предположить, что спустя много лет такой же ветер, а может, даже тот же самый, только промчавшийся тысячу раз по всему свету, будет трепать паруса, под которыми сижу я, красивая и загорелая, во всем белом и с самым необыкновенным мужчиной на свете? Я стояла там, на плацу, оборванная, грязная, вонючая, избитая, едва держась на ногах, и много чего было у меня в голове, но только не паруса, только не развлечения, только не смех.
Вам не холодно?
Инес! Добавь огоньку в камине.
И принеси нам еще воды с медом.
Помню одно лето, когда мы с Хенриком не сумели найти время, чтобы покататься на лодке, он все время разъезжал по Европе, но мы так сильно скучали по озеру, по ветру, что под конец, в последние теплые денечки, выбрались. Был очень красивый жаркий сентябрь, но когда мы поставили машину у пристани и выгрузили вещи, начали собираться тучи, ясно было, что сейчас грянет гроза, настоящая гроза, какие бывают после долгих недель летнего зноя. Все заторопились к берегу; целый день почти не дуло, озеро было спокойным, а в тот момент ветер совсем уж стих, потому они и свернули паруса и плыли на моторах или даже на веслах, но нам было настолько невтерпеж, что мы не могли больше ждать. Помню, как я бежала босиком по настилу, по шершавым, нагретым солнцем доскам. Мы побросали сумки в лодку, и Хенрик наперекор затишью поставил паруса, и тут вдруг подуло. Оттолкнулись мы от пирса, а ветер крепчал, набирал силу, небо потемнело, и из черно-синих туч хлынула вода. Озеро, прежде гладкое как стол, закипело под крупными каплями дождя. Ветер был очень сильный, а у нас паруса подняты с обеих сторон, и мы почти парили над этой булькающей водой, совершенно одни, остальные сбежали от грозы, а она в итоге прошла стороной; верно, ветер разгулялся и пролилась пара туч, но нам, по правде сказать, было все равно. Когда мы вот так сидели вдвоем, обнявшись, в штормовках, под потоками воды, в кажущемся покое – ведь когда лодка летит по волнам под парусом, то на палубе не чувствуешь ветра, и если бы не дождь, можно хоть свечку зажигать, – когда мы так сидели, я была самой счастливой на свете. И почудилось мне, что весь мир вдруг обрел самые прекрасные, какие только могут быть, формы, сложился в изумительное танцевальное па, и мне одной, одной-единственной в целой вечности представился случай увидеть это, лишь мне и Хенрику, и никому больше.
А ведь может статься, что ровно тридцать лет назад, в тот же день и в тот же час, в ту же минуту и секунду я валялась на песке, а они меня пинали; судьба – дама ироничная, и вполне могло статься, что это происходило тридцатью годами ранее секунда в секунду… но кто там вел счет, все слилось в один длинный кошмарный день, даже не знаю, в каком году это было, что уж говорить о днях.
Мы никогда не знаем, что с нами еще в жизни приключится. Всегда нужно надеяться, но и опасаться тоже нужно. Помню, как летала последний раз с Хенриком, уже привыкшая к полетам на таком маленьком самолете, ведь на нем все совершенно иначе, скорость небольшая, порой кажется, что земля внизу застыла, а иногда изрядно потряхивает, и в придачу можно лететь так низко, что сумеешь разглядеть, как яблоки на деревьях краснеют. Улетели мы тогда далеко за Париж, был погожий денек, конец лета, и я смотрела на все эти домишки там, внизу, под нами, и думала: вот сейчас в этих домиках, во многих из них, заботливые матери кормят своих детей, вытирают их запачканные мордашки или подают обед на стол, и кто-то из этих детей, когда вырастет, очень возможно, станет знаменитостью, потрясет мир, создаст какую-нибудь замечательную музыку или напишет прекрасную книгу. Так в каком же домике подрастает сейчас, уплетая клецки, новая Эдит Пиаф или мать Тереза? А может, новый Гитлер? Ну же, в каком? В том маленьком, с садом, или в убогом строении с провалившейся крышей, – может, здесь-то и живет ребенок, который через двадцать-тридцать лет сделает такое, что мир зальется слезами над миллионом убитых душ? А может, в том желтом доме с гамаком, натянутом между деревьев, сидит на горшке девочка, которая спустя годы станет известнейшей актрисой, и в нее влюбятся все парни на свете, а сейчас она сидит себе и ковыряет в носу. Вот какие мысли бродили у меня в голове, и я смеялась, пересказывала их Хенрику, и мы вместе смеялись.
Тогда, пока мы плыли между небом и зелеными полями и я была совершенно счастлива, я не знала, что на другой день, почти в тот же самый час, тот же самолет убьет моего Хенрика, загорится от какой-то лопнувшей трубки, и мой любимый, мой единственный мужчина, мой ненаглядный муж упадет с неба, как Икар, с пылающими крыльями и выжжет огромную поляну в лесу, в том самом лесу, который сейчас медленно скользил под нами. Только на другой день меня там уже не было, я осталась здесь, за стойкой, подавала кофе клиентам и поглядывала на часы, ждала его, и не было у меня никаких недобрых предчувствий, вся эта болтовня о предчувствиях – полная ерунда, я просто ждала, но он не появился в четыре, как обычно, а потом приехали люди с аэродрома, и стоило мне их увидеть, как я уже знала, только попросила двух дам, что тут сидели, уйти, вежливо попросила, заперла кафе, потом села за столик с этими людьми, приятелями Хенрика, и все выслушала. Один из них даже плакал, но я не плакала, с тех пор как вышла из лагеря, я никогда не плачу. Сидела я с ними и не столько слушала их, сколько думала о том, предыдущем, дне, о домиках, о самолете, который забрал моего Хенрика, и о том, что вот и закончилась лучшая часть моей жизни. Конечно, всегда надо надеяться, но я не могла не знать, что ничего лучше в моей жизни уже не будет просто потому, что быть не может.
С той минуты мне все равно, когда я умру. Сегодня ли, завтра или десять лет тому назад. Уйду без сожалений, я ведь знаю: все лучшее позади. Даже если бы случилось что-нибудь столь же прекрасное, даже если бы что-то еще было возможно, то я уже, наверное, не захотела бы – потому что не надо жадничать, нельзя хватать один счастливый день за другим без разбору, надо и меру знать. Ведь со столькими людьми ничего хорошего за всю жизнь не случилось и уже не случится только по той причине, что они родились в плохом месте или в плохое время или ходили по плохим дорогам, ума не хватило выбрать хорошую. Думаю, на свете мало людей, у кого была такая жизнь, как у меня, – людей, которые чувствуют, что жизнь была к ним щедра, и когда она исчерпается, они уйдут спокойные, умиротворенные.
Вы все молчите, одна я рта не закрываю…
Ну да что может быть лучше разговора в такой ненастный день. Темнеет уже. Сейчас Инес зажжет свечи, поставит их на столики. Иногда я смотрю, как она их расставляет, и думаю: одна свечка для Хенрика, вторая для мсье Петри, третья для его дочки, четвертая для Эдит Пиаф и еще несколько для прочих знакомых, которые к нам сюда захаживали. Может, они и сейчас сюда приходят, садятся за столики, слушают, как я болтаю, и терпеливо ждут, когда мы наконец присоединимся к ним – я и Тереза, почтенный Хайм и мадам Греффер, и тогда все начнется сначала, мы снова будем вместе пить кофе каждое утро, ездить на пикники, играть в кегли над каналом Сен-Мартен и снова будем молодыми…
Как думаете, там что-нибудь есть? Ждет ли нас там что-то другое, ну там небеса или ад? Как думаете, когда буду умирать, я почувствую, что отлетаю, что опять лечу куда-то ввысь? Кое-кто уверяет, что такое чувство обязательно возникнет, и я бы хотела еще раз полетать, как тогда. Самолеты, которыми управлял Хенрик, нисколько не походили на большие пассажирские, в них ты садился чуть ли не снаружи и наслаждался, переживал ту радость, когда возносишься над городом, над лесом, над полями, над этой повседневностью, оставшейся там, внизу. Теперь я уже старая, и если кто-нибудь захотел бы взять меня в такой полет, сердце у меня точно бы не выдержало.
Дома я храню старый альбом; знай я, что встречу сегодня вас, непременно прихватила бы его с собой. Жаль. Давно уж я его не открывала, не доставала из нижнего ящика комода. Если бы я разглядывала те снимки каждый день, то жила бы только воспоминаниями и точно умом тронулась, как мадам Греффер, либо этот альбом надоел бы мне до чертиков и не осталось бы у меня никаких радостей. Вынимаю я его лишь изредка, и всегда в какой-нибудь особенный день, страницы переворачиваю медленно и над каждым снимком задерживаюсь на несколько минут, припоминаю все, что тогда происходило, что и кто тогда делал, и такой вечер для меня – будто самый великий праздник, как для католика Сочельник перед Рождеством Христовым. У евреев много разных праздников, но Рождества Господня нет, и они об этом наверняка жалеют, потому что это такой прекрасный день, хотя для некоторых он – лишь безумная гонка по магазинам и фальшивая глазурь, от которой все становится клейким. Пусть так, но это все равно необычная пора, словно все люди, добрые и злые, договорились, что в эти два-три дня они будут хорошими, исполненными благодати, смирения и радости. В эти дни люди находят в себе смелость протянуть руку какому-нибудь человеку, на которого в иное время они и не взглянули бы, и сдается мне, что даже самые плохие делают это от всего сердца, ведь каждый человек хотя бы иногда хочет быть хорошим, но некоторые окружают себя этакой ледяной стеной и стесняются посочувствовать другому, пожалеть, подать милостыню, они предпочитают замкнуться в себе, ворчать и высокомерничать, и в Рождество Господне, празднуя вместе со всеми, соблюдая все традиции, они продолжают брюзжать, а порою вполголоса злословят, но в глубине души радуются тому, что раз в году им предоставляется повод хоть чуть-чуть вылезти из-за своей стены, из своей черствости.
И вот, выбрав время, – но не чаще одного раза в три-четыре месяца – я сажусь за мой альбом, обычно вечером, когда стемнеет, в тишине и покое, когда на улице умолкнет шум и гвалт, и медленно переворачиваю станицу за страницей, поглаживаю пальцами снимки и вспоминаю. Все эти фотографии выглядят так, будто их вырезали из старых газет, они кажутся ненастоящими, особенно самые старые. Почти на всех друзья, которых я давно не видела, многие уже, наверное, умерли, а другие просто заняты своими делами или уехали куда-нибудь далеко. Сижу и вспоминаю всякие разные дни и минуты и что тогда случилось, а иногда выдумываю то, что могло бы случиться. Когда вижу на снимке незнакомое лицо, стараюсь снабдить этого человека какой-нибудь историей или делаю его участником байки, которую услышала здесь, в кафе, сочиняю ему жизнь, которую он не прожил, и вдруг этот человек становится настоящим и очень даже знакомым. Некоторых я снабдила прекрасной жизнью, других отчаянием и печалью, страшными минутами, которых в общем-то никому бы не пожелала, только знаю, что жил на свете человек, с которым подобная история произошла, потому что другой, кто знал этого первого, рассказал мне о нем здесь, сидя за столиком. Грустных историй, уж не знаю почему, больше, чем веселых; люди, похоже, любят делиться своими печалями, а поделиться радостью стыдятся. Когда они несчастны, то приходят сюда и готовы любому открыться и ждут, что их пожалеют, утешат, протянут руку. Некоторые приходят сюда и после того, как все утряслось и жизнь переменилась к лучшему, и отдают долг, выплачивают его, утешая других, хлопая их по плечу, но тогда они редко говорят о себе, будто стесняются своего счастья. Если муж плохо относится к жене, ни в грош ее не ставит, бьет или изводит, то она рассказывает об этом кому ни попадя, ничуть не стыдясь; видно, потребность в сочувствии, добром слове сильнее стыда. Да вы сами припомните, сколько женщин со всей откровенностью поведали вам о том, как мужья их бьют, или разлюбили, или изменяют, а часто ли вы слыхали о веселых приключениях, о нежности и баловстве в ночи? Об этом не говорят. Люди не любят делиться такими историями.
Но я опять отвлеклась…
Вообще-то я здесь не кофе торгую. На самом деле я покупаю и продаю истории. Одни любят рассказывать, другие любят послушать, а я всегда тут, рядом. Их разговоры, разбавленные вином, такие текучие, им легко придать форму, как тесту для рогаликов, и если их умело пересказать, они будто становятся пышными и хрустящими. Иногда попадаются байки, которые сами по себе и не любопытны, и не поучительны, но если соединить их, получается красивая и умная история, и все, кто ее слушает, умолкают, задумываются, вот как вы сейчас. Вы ни единого слова не проронили, одна я говорю да говорю, сидим тут с полудня, уже стемнело, а вы только слушаете.
Как думаете, сколько из тех историй, что вы сегодня услыхали, настоящие, случившиеся на самом деле, а сколько принесли сюда разные люди и продали мне за чашку кофе или бутылку вина?
Что вы так странно смотрите?
Жизнь, вся целиком, слеплена из историй. Когда мы их слушаем, они кажутся то страшными, то чудесными, мы завидуем или радуемся про себя, что с нами такого не случилось. Разве так уж важно, кто пережил все это, разве важно, где правда, а где вымысел? Если честно, я иногда уже и сама не разберу. Всю жизнь собираю чужие истории, записываю в тетрадку и складываю вместе с моими, и теперь уже они все перемешались, и в результате я не помню, какая кому принадлежит, которая правдивая, а которая выдуманная, я уже очень старая, память подводит. Некоторые истории я потеряла, другие пришлось заново переписывать, но я до сих пор умею их красиво рассказать, и молодой Мишель порою сидит тут весь вечер и слушает меня. Я вам не скажу, и не просите, что тут правда, а что нет, что мне приснилось, о чем я только слышала, а что пережила на самом деле. Я и так вам доверила тайну, о которой никто не знает, сама не понимаю почему, может, потому, что у вас такой добрый взгляд. У меня тоже добрый взгляд, оттого мне все и верят и приходят сюда постоянно, вы же все равно завтра или через неделю вернетесь в Польшу, так почему бы не посвятить вас в тайну.
Хенрик всегда говорил…
Ладно, а может, и не было никакого Хенрика, просто потому что быть не могло? Уж не выдумала ли я его? Как считаете, легко найти такого мужчину? Может, и выдумала, слепила его из разных историй, и больше всего взяла из рассказов мадам Греффер, с которой я знакома вовсе не с давних пор, а лишь года два, но однажды, когда у нее настроение было получше, она рассказала мне, что в молодости была художницей и у нее водились денежки и красивый автомобиль; те перцы на барную стойку она поставила, но не много лет назад, а лишь вчера, и вот они теперь стоят и вправду выглядят очень симпатично. Мадам Греффер вроде была графиней или что-то в этом роде, но ее отец все потерял, отобрали после войны, потому что он был фашистом, крупным чиновником, и на его совести много людей, ведь в той войне больше других виноваты именно чиновники, это они заполняли бумаги, вписывали в бланки номера вагонов, набитых людьми, вносили цифры – тысячи и тысячи тел, сожженных в печах, тысячи и тысячи казней, и хотя не они стреляли, хотя не они меня били, но без них та машина не работала бы; и ведь не дрогнула у них рука, они жили в собственных домах с очаровательными женами, с кучей детей и каждый день с утра уходили на работу, открывали ящики, вынимали очередные бланки и заполняли графы, аккуратно, число под числом, фамилию под фамилией, так что набралось этих граф миллионы. В воскресенье они шли в церковь, а когда закончилась война, то начали говорить, что не понимали, что делают, или подчинялись приказу из страха, кое-кто и сейчас так говорит, но я им попросту не верю…
Ох, не о том я хотела сказать.
Отец мадам Греффер остаток жизни просидел в тюрьме. Она сбежала из Австрии в Париж, когда была еще очень молодой, тут начала рисовать и, кажется, преуспевала, но ничего у нее не осталось, потому что она все пропила, прогуляла, и вроде был у нее мужчина, не такой, как Хенрик, но очень похожий. Он давно умер, не знаю уж, как и отчего, но знаю, что с той поры она уже не рисует, только шатается по округе со своими собаками; выходит, она и впрямь его сильно любила. И это тоже красивая история, но, согласитесь, история о Хенрике красивее. Приятно ведь поверить на пару часов, что такое случается, что такие люди иногда где-то родятся, и вы сидите тут, заслушавшись, и спрашиваете себя: а ваша девушка или жена, будет ли она когда-нибудь рассказывать о вас так, как я о Хенрике? Слушаете меня, а в голове вертится вопрос: заслужили ли вы такую любовь и будете ли вы в глазах своей жены или девушки тем, чем Хенрик был для меня, а она в ваших глазах тем, чем я была для Хенрика? Все уже смешалось в памяти, быль и небыль, и видится будто издалека, иногда мне кажется, я его выдумала, а иногда, что он существовал взаправду. Так хорошо помню его самолет и паруса, его запах, его теплые ладони…
Давно это было, в одном кабаре или скорее в театре, на Монмартре, в середине представления встал некий мужчина из зрителей и застрелил актрису, вынул пистолет и пальнул ей прямо в лицо, потом стрелял еще несколько раз, когда она уже лежала. На него набросились, отобрали пистолет, побили, связали, и оказалось очень кстати, что среди публики находится комиссар полиции, немедленно позвонили в жандармерию, никому не разрешили уйти, и тот комиссар сразу же начал следствие. Он никого ни о чем не спрашивал, ведь все было ясно, лишь записывал показания, чтобы потом этого убийцу можно было отдать под суд, и никого не выпускал; все ужасно переполошились, кричали, что это незаконно, и даже сговорились вырваться из театра силой, но тут приехало множество жандармов и все начали давать показания, а она там лежала в крови, страшное дело, знаю, что говорю, мы были там с Хенриком. Так прошло часа два, все уже измучились, женщины утирали слезы, мужчины нервно ходили из угла в угол и курили одну сигарету за другой, и вдруг выяснилось, что это был спектакль, театр, что все неправда, что никто никого не застрелил, что это была игра. Но для тех людей это уже не имело никакого значения, ведь они два часа назад видели настоящее убийство, глубоко пережили его, прочувствовали каждой своей жилкой. Два часа полиция продержала их в тесном театре, и они смотрели на кровь, видели, как забирали тело, и никогда они этого не забудут. Для них это случилось на самом деле.
Эту пьесу можно было сыграть только один раз, много месяцев ее репетировали, чтобы дать только одно представление. Во второй раз ничего бы не вышло, по городу успели разнестись слухи, что это сплошной обман, а газеты раздули скандал. Я же свои истории могу рассказывать всю жизнь, ведь даже если вы кому-нибудь их перескажете, не беда.
Вся наша жизнь – одно большое представление, никогда точно не знаем, что происходит взаправду, а что окажется насмешкой судьбы, вдобавок понятия не имеем, чем все это закончится.
Ну вот…
Как думаете, что будет дальше?
Понравилась вам эта история?
А Хенрик?
Захотелось взглянуть на мой альбом?
Хотите послушать еще?
Может, какая идея вам в голову пришла или пожалели о чем?
Опять молчите. Только так странно смотрите.
Сначала вы заказали кофе, потом рогалик, на мой вопрос ответили, что приехали из Польши, листали «Пари матч», слушали меня так серьезно, но кто знает, может, вы вообще не понимаете по-французски?
Атропос
Любовь моя.
Еще месяца не прошло – а мне кажется, целая вечность, – с тех пор как я видела Тебя в последний раз. Это будто другая эпоха, все скрыто туманом, даже не могу передать одним словом, о чем я, собственно, тоскую. Знаю только, что вокруг меня все замерло, и я сама замерла, застыла, сделав полшага между тем временем и каким-то новым, которое, может быть, наступит…
Не знаю, почему именно сегодня я пишу Тебе. Проснулась с таким желанием, а разбудило меня солнце, впервые в этом году по-настоящему яркое. Сегодня Страстная суббота, день на удивление погожий, словно Господь Бог решил немножко побаловать себя в свой самый большой праздник. Наконец потеплело, перед кафе появились столики, расставленные на скорую руку и как бы временно. За столиками сидят люди, радуются нежданному теплу, от которого успели отвыкнуть за год, и непременно подставляют лица солнцу. Среди них сижу и я, попиваю кофе и пишу Тебе. Солнце отражается от белого листа, я щурюсь и невольно улыбаюсь, чувствуя, как горячий луч растапливает во мне огромный кусок льда, пусть хоть немного подтает.
Уже почти месяц прошел, любопытства у всех поубавилось, однако нет-нет да спросят: «Как ты?», «Как дела?» – и смотрят так, будто хотят добавить: «Наверняка не супер, по тебе видно». Чаще всего отвечаю машинально: «Хорошо», «В порядке», только бы отделаться, и иду дальше, но иногда черт дернет, а может, из вредности начинаю говорить, что плохо, мол, тяжело, и тогда тот, кто спрашивал, вдруг становится рассеянным, и я знаю, что ему хочется лишь одного – найти какой-нибудь пристойный повод, предлог, чтобы уйти, исчезнуть, избавиться от меня. Вижу детское счастье на их лицах, когда зазвонит мобильник или еще что-то их отвлечет, даст возможность улизнуть. «Слушай, я тебе позвоню. Может, вместе пивка попьем, и ты все мне расскажешь, а сейчас мне надо бежать, сама понимаешь».
Понимаю.
И все же: каковы мои дела? Что Тебе сказать? Не супер. У меня всегда было столько сил, я всегда знала, чего хочу, неслась как на пожар, не шла по жизни, а бежала; даже если мешкала – то лишь затем, чтобы набраться сил, передохнуть перед следующим броском. А сейчас у меня нет планов, ни на сегодня, ни на завтра, вообще никаких планов, разве что дойти до конца, точно я иду по пустыне и впереди только море песка и единственная цель – перевалить через все это…
Странно, но я не плачу, что бы ни делала и как бы ни сходила с ума, все равно не плачу, словно высох во мне источник слез, словно все уже выплакано.
Когда прихожу домой, сажусь в кресло, подворачиваю под себя ноги, закуриваю сигарету и застываю, замираю в бесчувствии, в безмыслии, часы, минуты проплывают мимо и ничего не приносят, ничего не обещают. Наверное, надо куда-нибудь пойти или выпить вина, почитать книжку, сходить в кино, купить новую шмотку, но сил нет встать с кресла, словно я вдруг отяжелела, растолстела. Сижу так и жду, пока солнце сядет, а когда оно сядет, не хочется даже включать свет, вот и остаюсь в потемках. Слышу, как шумит кровь в жилах и вода в трубах. В голове мелькают мысли, иногда горькие, иногда смешные, но они не складываются ни в какую историю, даже тоской это не назовешь. Я просто сижу, не в силах найти повода, чтобы куда-то пойти, чем-то заняться. Шум, что издает эта тишина вокруг, действует как компресс, как мазь – обволакивает и успокаивает. Настоящая пытка – люди. Когда попадаю в толпу, делаю глубокий вдох, будто ныряю в озеро, а когда выхожу из толпы, сразу протяжно выдыхаю, будто все это время не дышала. Поскорее бегу к моей тишине, сажусь в кресло и превращаюсь в ничто…
Чудесный сегодня денек. Улица почти пустынна, туристов нет, только группки детей с корзинками для освящения маршируют в сторону костела Тела Господня и немного погодя возвращаются обратно. Такие простые обычаи, наверное, сильнее всего объединяют людей. Идут с корзинками мальчишки, празднично одетые, а следом за ними совсем иная группа, в вязаных шапочках и спортивных костюмах, с сигаретами в зубах, потом девочки в платьях в цветочек, а вот две девчушки в лакированных туфельках и красных блестящих плащиках. Одни дети бедны, и это видно с первого взгляда, другие из богатых семей; одни воспитанные, а за спинами других словно прячется дьяволенок. Перед костелом, должно быть, собирается неслабая компания таких дьяволят, караулящих, когда их подопечные выйдут после церемонии. И в каком бы еще месте встретились все эти дети, если не перед алтарем? Разом они снимают салфетки с корзиночек и крестятся, когда ксендз, взмахнув кропилом, произносит слова обряда. Помню ли я себя с корзиночкой? Кажется, смутно припоминаю… В костеле я не была уже лет пятнадцать. А теперь тем более незачем туда идти. Ведь я не верю во все это; мне осталась лишь некая иррациональная искра надежды на то, что все не кончается так легко, в один миг, что богатство, которое в нас есть, не исчезает так запросто, не уходит целиком под землю. Но это лишь мерцающая, едва различимая искра. Похоже, я видела в жизни слишком много смертей. Костлявая всегда была где-то рядом. И не забывала напоминать о себе.







