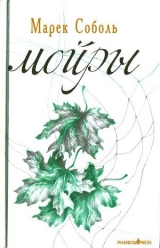
Текст книги "Мойры"
Автор книги: Марек Соболь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Annotation
«Вообще-то я здесь не кофе торгую, на самом деле я покупаю и продаю истории…» Уцелевшая в концлагере Лахесис ныне держит кафе в Париже, выслушивая рассказы клиентов, отлично понимая их ценность.
Атропос – медсестра из краковского Казимежа, ее повсюду окружает смерть, но она по мере сил пытается разорвать этот круг.
Проститутка Клото с твердостью и запалом прокладывает себе путь в жизни, она сама творит свою непростую судьбу.
Хотя роман Марека Соболя и отсылает нас к древним мифам и символам, по сути это повесть о современной жизни, о ценностях, неизменных во все времена, а также о том, как важно выговориться самому и послушать других.
Эта книга о том, как свести счеты со злом, как научиться жить с ним бок о бок и при этом неустанно стремиться к счастью – создавая свою собственную захватывающую историю.
Марек Соболь
Лахесис
Атропос
Клото
notes
1
2
3
4
Марек Соболь
Мойры
Посвящается Эвелине
Лахесис
Кофейня моя ничем не отличается от прочих кофеен в Париже. Здесь можно выпить хорошего кофе, некоторые даже говорят, что очень хорошего, можно съесть яблочного пирога, а кто не любит яблок в тесте, возьмет большой кусок шоколадного торта. Каждое утро я ставлю на стойку блюдо со свежими круассанами, одно блюдо – не больше, но и не меньше. Постоянные клиенты, почтенный Хайм или молодой Бувье, спешат к своим любимым рогаликам – и я уже с самого утра в приятной компании. Круассаны печет для меня Тереза, такая маленькая седенькая старушка из дома номер 47, она всегда сидит за столиком у зеркала. Ни разу еще она не взяла и сантима за эти рогалики, и неудивительно, ведь за целый день она выпивает столько красного, что ума не приложу, как у нее сил хватает добраться до дому.
Так что же я хотела сказать?..
Да, моя кофейня отличается от прочих в Париже, наверное, только тем, что все здесь старое, изношенное. Туговато с деньгами, знаете ли, да и сама я уже старая и попросту привыкла к этому хламу. Молодые этого не понимают, они любят, когда все сияет, предпочитают вещи новые, чистенькие. А мне милее те, что помнят прежние времена, те, что видели иных людей в иных нарядах и слушали музыку с трескучих пластинок. Думаю, в жизни каждого человека наступает момент, когда он начинает любить старые вещи.
Раньше, когда молодой была, я тоже обожала все современное и каждая новая вещь казалась краше прежней. Новая музыка лучше старой, новые автомобили красивее прошлогодних, а новая кофеварка лучше, чем та, от которой отшелушивается эмаль. Но даже Эрик, хотя ему только восемнадцать, говорит, что в старой кофеварке кофе получался вкуснее. Что поделать, пришлось поставить новую, прежняя-то сломалась, и починить ее уже нет никакой возможности. У новой квадратные кнопки с надписями по-английски, я заплатила за нее кучу денег, и надо же, негодяи какие, не позволили купить ее в рассрочку, а я ведь всегда оплачиваю счета в срок, хотя раньше дела шли не так, как сейчас, да и сейчас они не шибко идут… Но об этом я уже говорила. Словом, эти мерзавцы не дали мне рассрочки. Наверное, потому, что я такая старая…
Вдруг что-то происходит, и ты перестаешь понимать молодых. Их музыка кажется грохотом, новые автомобили уродливыми – все в них сверкает, мигает, да я бы вообще не смогла управлять такой машиной. Когда-то мы с Хенриком разъезжали на красивом автомобиле, американском, давно это было, когда Хенрик еще был жив. Больше пятнадцати лет прошло, как он умер, и столько же лет стоит на приколе наш автомобиль, скучает и пылится в гараже. Сама не пойму, зачем я до сих пор плачу за этот гараж, и немалые деньги, между прочим, да и кофейня моя не так уж чтобы процветала…
Наверное, мы любим все то, что любили в молодости, и вещи, что состарились вместе с нами. Полировка на старой мебели давно потускнела, по краям просвечивает голое дерево, но мы прикасаемся к этому дереву и чувствуем тепло, которым его пропитало время. Старые автомобили куда чаще ломаются, и все же нам нравится их форма, урчанье, широкие удобные сиденья и красивые, хотя и абсолютно бесполезные, нашлепки. Старые приборы ужасно несуразные, нужно прикладывать столько усилий, чтобы ими пользоваться, а мы их за это только больше любим. У меня есть древний пылесос, Хенрик купил его сразу после свадьбы. Не поверите, он все еще пусть кое-как, но работает. Знаю, у новых пылесосов лучше тяга и они меньше весят, не отнимают столько сил, а я уже старая, бывает, зараз обе комнаты не удается пропылесосить. В дождливые дни… а как дождь зарядит, сразу вспоминается лагерь, все побои, что выпали на мою долю, эти пинки и удары застряли в моих старых костях и, чуть наступит ненастье, тут же дают о себе знать.
Но я не о том хотела сказать…
Пылесос мой такой красивый, овальный, с надписью, оттиснутой на бакелитовой рукоятке. Я им очень горжусь. Когда вожу щеткой по дивану, чувствую себя так, будто еду с Хенриком в нашем автомобиле, в солнечный день по бульвару Сен-Жермен. Верх мы откидывали, я распускала свои длинные черные волосы, и, когда мы проезжали мимо, все мужчины за столиками перед кафе забывали о своих подружках, которые сидели рядом с ними, попивая кофе, и оборачивались на нас. Завидовали Хенрику – какая у него машина да какая девушка. Я обнимала Хенрика, клала голову ему на плечо, а он ехал гордый, сосредоточенный и только усмехался в усы.
Молодость проходит, но мы продолжаем любить те же самые вещи и даже тех же самых людей, – конечно, не всегда так бывает, но случается. Я до сего дня люблю Хенрика, хотя его уже пятнадцать лет как нет.
Но об этом я уже говорила…
Хотите еще кофе?
Думаю, моя кофейня не так уж плоха. Сколько людей приходит сюда каждый день уже много, много лет. Вот, к примеру, старуха Греффер. Является с тремя собачонками, сама в каком-то цветастом тряпье, чуть ли не в лохмотьях, неизменно закутанная в шерстяную шаль, даже если на улице жара, и в драном берете. Губы накрашены красной помадой и всегда неровно, ведь она теперь почти ничего не видит, но это уже перебор, скажу я вам, пожилые дамы не должны так выглядеть. Одна перчатка у нее без пальцев, почему, не знаю.
Молодой Бувье называет ее «сумасшедшей старухой», но он ведь понятия не имеет о том, что было, как она раньше жила, ему лишь бы валюту покупать да продавать, и сколько ни объясняй ему, все без толку. Собачки мадам Греффер обычные дворняжки, но все разные: одна маленькая и очень лохматая, другая длинная, как такса, а третья крупная, черная. И все в забавных шерстяных кафтанчиках, таких же дырявых и дряхлых, как одежонка самой Греффер. Она приходит сюда с ними каждый день, собачки укладываются под стол и спят там, она же попросит кофе, но почти к нему не притронется, только дремлет, слегка завалившись набок; наверняка ей снится мой Хенрик.
Зовут мадам Греффер Иоганной. Давным-давно она приехала в Париж из Австрии. Зашла она сюда однажды, разодетая, как дама, и с порога влюбилась в моего Хенрика. Тогда и она, и я были уже не первой молодости, но вместе смотрелись очень эффектно. У нее были длинные светлые волосы, а у меня тоже длинные, но черные. Она мне сразу понравилась, мы подружились, и, конечно, я звала ее не мадам Греффер, но просто Иоганной. Вместе мы ходили в кино, устраивали пикники за городом или в Люксембургском саду, а по субботам развлекались в кабаре на Монмартре. То было очень хорошее время, правда, очень хорошее, а она была жутко влюблена в моего Хенрика.
Думаю, она и сейчас приходит сюда ради него.
Даже и не знаю, стоит ли об этом рассказывать…
Может, все-таки выпьете кофе?
Наверное, такому мужчине, как Хенрик, одной женщины было мало. Жил он размашисто, торопливо, будто знал, что времени ему отпущено меньше, чем другим. Женщины по нему с ума сходили, не одна мадам Греффер. Я знала обо всех его интрижках, потому что он так неуклюже их скрывал, будто на самом деле хотел, чтобы я обо всем знала, ничего не упустила. Хенрик был очень сдержанный, рассудительный и далеко не простак, а вот интрижки скрывать не умел. Я всегда догадывалась, что происходит, хотя никто мне ничего не говорил; похоже, он нарочно был таким неосторожным, чтобы у меня появился повод запретить ему встречаться с той или с другой. Только я никогда не запрещала.
У Хенрика был отменный вкус, все, что он покупал, было красивым и непременно высшего сорта. Автомобиль мы выписали аж из Америки, Хенрик сказал, что «ситроены» дрянные и тесные. Денег у нас тогда было много, Хенрик работал в министерстве, да и в кофейне дела шли на славу. Не пойму, почему сейчас так трудно сводить концы с концами, ведь кофейня моя не сильно отличается от прочих. Что-то испортилось в этом мире, даже Париж испортился, а может, это я просто старая стала…
Так вот, у Хенрика был хороший вкус, и все его женщины производили впечатление, словно он приобретал их в картинной галерее. Он не искал их, не добивался, не очаровывал, как Мишель, тот, что держит кафе на соседней улице. Мишель, он мастер обольщать, у него свои тайные методы, иногда он меня в них посвящает, рассказывая о своих победах. Я уже очень старая, и он не видит во мне женщину, самое большее – собеседницу, с которой можно поболтать по вечерам, когда ему не удается никого подцепить и он бывает один. Я тоже ему много всякого рассказываю, парень он умный и понимающий, хотя чего-то важного ему недостает. Со своими девушками он только спит, встретится несколько раз, а потом бросает, словно боится, что привяжется к одной из них, или она его крепко полюбит, а потом хлопот не оберешься. Может, он эгоист, а может, что-то плохое приключилось с ним в жизни, хотя ни о чем таком он не упоминал. А может, он просто еще не повзрослел, вот и ведет себя, как малое дитя из богатой семьи, – родители покупают ему столько игрушек, что он поиграет с каждой пару минут и сразу хватается за следующую и ни одну не способен по достоинству оценить. Мишель уродился красивым и неглупым, этих игрушек, этих женщин, он может иметь сколько пожелает, но ни одну не ценит и ни к кому не привязан, потому что знает: он легко может найти женщину покрасивее или поумнее – в любом случае, новую.
Хенрик таким не был. Женщины сами вешались ему на шею, хотя он ни к каким хитростям не прибегал и по-настоящему никого не соблазнял. Всем он был добрым другом, и мужчинам тоже, но сами подумайте, возможна ли дружба, обычная чистая дружба, между женщиной и мужчиной, если она красавица и вдобавок не дура, а он хорош собой? Когда люди сходятся так близко, помогают друг другу, любят бывать вместе, обмениваются подарками, спрашивают о здоровье, целуют друг друга на прощанье и при встрече в щеку или в лоб, то почему бы однажды не поцеловаться в губы, не обняться покрепче и не ощутить вкус и запах той, другой, особы? Почему бы в конце концов не прикоснуться друг к другу нежнее, а потом еще нежнее, не восхититься красотой рук, губ, волос, загорелых плеч? Вот так рано или поздно друзья становятся любовниками, иначе и не бывает, а если бывает, значит, дружба не настоящая, или живут далеко друг от друга, или что-то еще мешает им сделать этот шаг – тяжелая работа, болезнь, да мало ли что.
Женщин у Хенрика было не очень много, честное слово. И все были яркими, каждая на свой лад, даже та художница, жуткая уродина. Нос картошкой, глаза сошлись у переносицы, волосы жидкие, всегда жирные и нечесаные, но зато она рисовала такие удивительные картины, что их уже невозможно было забыть, стоило раз увидеть. Одна ее картина, по слухам, висит в Центре Помпиду.
Она вечно была без денег, вечно витала в облаках. Бывало, слова из нее не вытянешь, придет и разве что скажет, как у нас тут чудесно, ну еще спросит, почем кофе, а когда продавала какую-нибудь работу, то сразу все проматывала и опять сидела без гроша. Дома я держу две ее картины – Хенрик их купил. Наверняка он переплатил, и хотя они ему нравились, купил он их прежде всего потому, что ей позарез нужны были деньги. Выплачивал по частям – нарочно, чтобы она сразу все не пропила.
Как ее звали? Не помню…
С памятью у меня плохо стало. Часто не могу вспомнить какое-нибудь имя или название улицы. Это оттого, что я уже очень старая…
Многих его женщин я знала. У некоторых были ужасные мужья, толстые или глупые либо такие, которым плевать на своих жен, а с Хенриком эти женщины расцветали, как и я, ведь он был необыкновенным мужчиной, который умел угодить женщине во всех смыслах. Просто он был слишком мужчиной, одной женщиной такому не обойтись.
Он вызволял своих пассий из их ужасной скучной жизни – точно так же, как почтенный Хайм вызволяет из лавчонок на свет божий всякие безделушки. Они лежат там годами из-за небольшого изъяна или непомерной цены, а иногда просто потому, что не подходят нынешним временам и покупателям. Почтенный же Хайм умеет углядеть подлинное сокровище и превосходно торгуется; бывает, что платит он совсем немного. Потом он расставляет найденное добро у себя в квартире, печется о нем, чистит, полирует, приделывает отколотые носы и уши, переставляет вещичку по сто раз, пока она не почувствует себя на месте. Он дает этим штуковинам ощутить то, чего они лишились, пока лежали в пыли на полке, никому не интересные, давно забытые прежними хозяевами. И вот теперь они снова получают ласку и восхищение от старого симпатичного еврея. Любой, кто приходит к Хайму, тихонько садится посреди комнаты и первые несколько минут молчит, ведь в его квартире как в сказке, как на чердаке, полном сокровищ, как в альбоме со старыми фотографиями. Можно сидеть часами, оглядываясь вокруг, а потом медленно обойти комнату, дотрагиваясь до всяких диковинок, сдувая пыль, которой нет, и изумляться работе чьих-то проворных рук, работе, завершенной много, много лет назад…
Но о чем же я говорила?
Женщины Хенрика иногда приходили сюда выпить кофе, и я была наготове, ждала, что меня окинут высокомерным, презрительным взглядом, как любовница обычно глядит на жену, но такого ни разу не было. Порой мне даже казалось, что они посматривают на меня с любопытством, – уж не знаю, что Хенрик им про меня наговорил, но точно ничего плохого. Он меня любил. А я никогда не была ревнивой, потому что знала: он бы меня не бросил.
Внешне мадам Греффер была самой привлекательной из любовниц Хенрика. Даже сейчас проглядывает в ней прежняя красота, хотя ей уже семьдесят и очень уж она неухоженная. Иногда она смотрится в зеркало – вон в то, мадам Греффер всегда сидит за столиком у зеркала, за этим столиком сиживала сама Эдит Пиаф, ей-богу, не вру, – так вот, когда она смотрит на себя в зеркало, я украдкой поглядываю на нее и вижу, будто наяву, ее прекрасные светлые волосы, какими они были, пока не поредели, не потемнели, а потом и поседели. Вспоминаю ее профиль, звонкий девичий голос, ее модные наряды, от которых теперь остались одни лохмотья.
Когда мой Хенрик умер, мы частенько сиживали с ней вдвоем, здесь, в кофейне, и вспоминали, но не плакали. После войны, с тех пор как вышла из лагеря, я ни разу не плакала, и мадам Греффер в беседе со мной тоже слез не проливала, хотя по каким-то иным случаям могла и всплакнуть. Мы беседовали о моем Хенрике, каким он был мужчиной, какое у него было красивое тело, и хохотали, как две старушки-веселушки, потому что все воспоминания о нем были светлыми и добрыми, и даже умер он красиво, как и подобает настоящему мужчине, до последней минуты он оставался необыкновенным. Уж таков он был, мой Хенрик, что даже после смерти умел доставить женщинам радость, даже после смерти умел нравиться. Иногда мы вдруг умолкали, когда на ум приходила мысль, что ни одна из нас больше никогда его не обнимет, не вдохнет запаха его голой волосатой груди, и нас охватывала печаль, но только на минутку: ведь это хорошо, что Господь Бог не позволил Хенрику состариться, сгорбиться, что оставил его навеки мужчиной в расцвете сил, состоявшимся и любимым, который ушел, прежде чем его настигла старость, как она настигла нас, и меня, и Иоганну, то есть мадам Греффер. Он же успел улизнуть и сейчас, наверное, смеется где-то там, и ждет нас, и грустит, оттого что с каждым днем мы становимся еще уродливее и глупее, дряхлеем не по дням, а по часам.
Однажды мадам Греффер спросила меня, когда мы еще были на «ты», почему я никогда не таила на нее зла за то, что она встречалась с моим Хенриком. Спрашивала только о себе, ведь о других его интрижках она ни сном, ни духом не ведала. Никто не знал, только я, потому что он их ловко скрывал и лишь со мной был всегда таким неосмотрительным, будто хотел, чтобы я заметила.
Но об этом я уже говорила…
Когда я еще в Польше жила, сразу после войны, захаживала к нам гуралька, она таскалась по домам, предлагая мясо, и была у нее такая присказка: «Что это за мужик, если у него носки не воняют». Я рассказала об этой гуральке мадам Греффер и добавила от себя: «Что это за мужик, если у него нет любовниц». Мы обе рассмеялись, но мой смех не был до конца чистосердечным, ведь правда не так проста, она и не бывает простой, сперва мне было очень трудно, хотя ревнивой я никогда не была, но это уже совсем другая история, и уж не знаю, стоит ли ее вам рассказывать.
А вы так и сидите перед пустой чашкой. Может, велеть Инес принести еще кофе?
Совсем недавно я ездила в Польшу. Поверите ли, сорок с лишним лет прошло, как я там не была, а как осталась одна, затосковала по маме, по папе, по сестре и подумала, чего бы не съездить. Пересчитала я свои сбережения – на дорогу хватит, а заодно выяснила, что отсюда, из Парижа, в Краков каждый день отправляется несколько автобусов, и как только я решила ехать, не прошло и пяти дней, как я была уже там, на своей улице, у своего дома, и дом этот выглядел точно так же, как тогда, таким же обшарпанным, хотя многие здания в округе отремонтировали, обновили и превратили в гостиницы, а в старой синагоге устроили музей.
Все переменилось…
Потом я побывала в другом доме, где мы жили, когда всех согнали в гетто, потом съездила в местечко, где был наш третий дом, но его снесли, а потом я захотела взглянуть на лагерь. Там поставили огромный памятник; больше там, по правде говоря, ничего примечательного и нет, но это единственное место, где я могу поговорить с мамусей, с папой, с Хеленкой, сестренкой моей. Они лежат где-то там, а может, и в другом месте, но умерли они точно там.
Все, кто выжил в лагере, кто провел там много лет, как я, все они чуточку ненормальные, им постоянно мерещатся груды тел и призраки тех людей, а с ними возвращаются боль и страх. Вот и со мной так…
На второй день я гуляла по Кракову, очень красивый город, очень старый, правда, небольшой, куда меньше Парижа, и опять пошла на мою улицу, в еврейский квартал, хотела посидеть в каком-нибудь кафе и немножко подумать, повспоминать, но оказалось, что там собралось множество народу, соорудили сцену – словом, фестиваль какой-то, большой концерт, на сцене пели на иврите, и я ничего не понимала.
Моя улица в Кракове называется Широкая, она и впрямь широкая, не улица, а рыночная площадь. Сейчас там повсюду гостиницы, рестораны, кафе и один-единственный, такой одинокий средь всех этих радостей, комиссариат полиции. Когда я пришла на Широкую, там было полно людей из разных стран – евреи, немцы, даже французы, но в основном все же поляки, и эта густая толпа, состоявшая по большей части из славянских тел, животов, грудей, ляжек, колыхалась, захваченная музыкой. Мне там сразу стало хорошо, тепло как-то, и почудилось даже, будто я снова молодая и могла бы с ними станцевать. Один парень, высокий, толстый, стоял себе и лупил в огромный африканский бубен. Его обступили люди, все молодые и все босиком, а две девушки танцевали посреди круга, подняв руки, изгибаясь, у обеих были длинные волосы, у одной светлые, у другой черные, блестящие, – точно такие были у меня в молодости, всегда немножко растрепанные, будто не совсем расчесанные, душистые. Девушки плясали, хлопали в ладоши, смеялись, а их голые стопы были уже все в пыли, как тротуар. У черноволосой задралась блузка и обнажился пупок с колечком, это колечко сверкало и выписывало кренделя в воздухе – круги, восьмерки, всякие разные узоры. По-моему, это замечательная мода, сережки в пупке, мужчинам это должно очень нравиться.
Моему Хенрику точно понравилось бы, уж я-то знаю.
Стояла я, глядела на девушку и, конечно, улыбалась, и вдруг черноволосая, посмотрев на меня, что-то весело крикнула, кажется по-польски. Но из-за шума я ничего не разобрала, только помахала в ответ и опять принялась разглядывать людей, как они веселятся, молодые и старые. Некоторые наверняка помнили войну и видели все то, что видели стены этого квартала и я вместе с ними. Казалось, что концерт, музыка, веселье именно в этом квартале изгоняют весь ужас, что творился здесь более полувека назад. У многих из этих молодых людей лежат здесь, в этих краях, сожженные тела дедушек и бабушек, у людей постарше – родителей, сестер, братьев, однокашников… Ведь мало кто уцелел, почти все сгинули.
За целый день я устала, а присесть было негде, вот я и пристроилась на бордюре, опершись спиной о фонарный столб. Пусть и устала, но чувствовала я себя молодой. Вокруг меня развеселившиеся парни и девушки садились прямо на землю, и я тоже не постеснялась так усесться, хотя пожилой даме решительно не подобает сидеть на бордюре, а я всегда стараюсь соблюдать приличия и очень не люблю тех, кто не умеет себя вести. Но гулять так гулять, и коли все смеются, надо смеяться; на славу позабавиться получается только тогда, когда чуть-чуть хватишь через край, но лишь чуть-чуть. Развлекаться – это целое искусство, надо знать, как далеко ты можешь зайти. Было дело, когда я зашла слишком далеко. Помню, однажды в кабаре мы с мадам Греффер, с Иоганной то есть, вздумали сплясать на столе; я была уже такая пьяная, и она тоже, публика окружила нас, хлопала, а Хенрику было приятно, что мы всем нравимся, ведь одна из нас была его женой, а другая любовницей, вот он и радовался и по-настоящему гордился. В то заведение приходили художники, артисты и всякие чудные люди, которые ничего толком не умеют делать, лишь рисуют красивые картины или пишут красивые книжки, а потом очень красиво просаживают все, что заработали. Ну мы и танцевали на столе, и было очень здорово, просто замечательно, только закончилось не очень хорошо, потому что я была такая пьяная…
Но я не о том хотела сказать…
Когда я села на бордюр, на сцену вышел новый ансамбль и заиграл другую музыку, трогательную, более мелодичную. Толпа притихла, немного унялась, а с десяток пожилых людей семитской внешности – наверное, экскурсия из Израиля – начали танцевать в кругу, такое у них свое колечко получилось: сплелись руками, склонили головы, медленно перебирали ногами. Многие сидели, как я, прямо на мостовой, подложив свитеры или газеты, кто-то курил или беседовал вполголоса. Уже совсем стемнело, прожекторы разгоняли мрак, но когда они освещали сцену, толпа погружалась в темноту. Певец заунывно причитал и всхлипывал в конце каждого куплета, а мелодичный припев исполнял едва слышно. Я не понимала, о чем он поет, и, думаю, большинство тоже не понимало, ведь в толпе было мало тех, кто говорил на иврите. Я не знаю иврита, у нас в доме говорили по-польски, только чуть-чуть знаю идиш…
Опять я отвлекаюсь…
Так вот, я не понимала ни слова из его песни. Бог его знает, о чем он пел – о тоске по родине ли, о девушке, которая его бросила, а может, о своих близких, погибших в печи, в лагере? Может, то была великая народная поэзия, а может, ерунда, пустые стишки для шлягера. Как бы то ни было, проклинал ли он войну или жаловался на неверную возлюбленную, слова его песни, которых почти никто не понимал, эхом отдавались от мостовой и домов вокруг и в общем были не так уж важны – важна была музыка, потому что музыку понимают все. Однажды, разозлившись, Господь смешал человеческие языки, когда люди захотели построить башню до самого неба, но музыку все понимают одинаково, ну или почти все. Ума не приложу, как негры в Африке умудряются наигрывать мелодичные песенки, если у них одни бубны. Ведь по бубну мелодично не постучишь. У глупенькой Адели, той, что приносит в кофейню багеты, парень – ударник, «очень страстный», говорит про него Адель, настолько, что регулярно ее лупит. Она с ним уже года два, и, честное слово, не знаю, то ли ей нравится, когда над ней измываются, то ли она его безумно любит. Я бы с таким парнем и недели не прожила. Если бы он меня ударил, я бы больше не смогла с ним заговорить, ведь меня так страшно били, а потом избитую опять били, а потом делали со мной такое, о чем я никогда никому не расскажу, даже в суде – если бы их судили, конечно, – не рассказала бы, пусть лучше они отвертятся от наказания; впрочем, их уже и без того нет в живых, одних убили, другие померли своей смертью, ведь все было так давно. Я была почти ребенком, а они – солдатами в черных мундирах, с виду очень приличными, а внутри очень злыми. Нельзя судить о человеке только по его внешности, можно быть красивым мужчиной с ясными глазами и творить ужасные вещи. Некоторые из них походили на чертей, но другие выглядели нормально, обыкновенные молодые ребята вроде тех, что приходят сюда каждый день, вроде Бувье или молодого полицейского, который живет над прачечной. Может, Бувье тоже способен сделать с женщиной то, что делали со мной, или бросать живых детей в печь… сама я такого не видела, мне только рассказывали… может, молодой Бувье, если бы началась война и ему выдали щегольский мундир и сказали, что евреи плохие или немцы плохие, может, он тоже ставил бы их в шеренгу голыми на плацу и стрелял по ним или забивал до смерти, я не знаю. Меня вывели из шеренги в первый же день, когда нас выгнали на плац и мы стояли там голые, – видно, я им понравилась; потом привозили новых, но меня не убили, хотя на мне уже живого места не было, синяя кожа, кости торчат. Не знаю, почему меня не убили. Правда, не знаю…
Я о том никому не расскажу, даже вам, хотя у вас такой добрый взгляд, да и кого это теперь волнует, люди не хотят об этом слушать, зачем, если жизнь прекрасна. Люди предпочитают приятные рассказы. Когда кто-нибудь заводит речь о лагере, его обрывают: мол, хватит, надоело, а мне вот никогда не надоедает, все что угодно может напомнить о том времени – чье-то лицо на улице вдруг растревожит память, или какое-нибудь резкое словцо, или чье-то имя, а когда бываю у парикмахера, сижу, вся подобравшись, и хочется плакать, потому что в первый же день в лагере мои красивые волосы сбрили, и только после войны я их заново отрастила. Тогда я думала, что это самое плохое, что может быть на свете, что ничего хуже со мной уже не случится, я проплакала всю ночь, а потом наступило чудесное утро, светило солнце, и нас выстроили на плацу, нас каждый день строили, и один эсэсовец прибил до смерти женщину, которая до войны жила под нами, на первом этаже, она была такой набожной, смирной, никогда и никому не сделала ничего плохого, и хотя жила бедно, кухню поделила пополам, на одной половине готовила молочные продукты, на другой мясо. Наша мама такими вещами голову себе не морочила, а та женщина была работящая и набожная, из дома выходила только за покупками и в микву… [1]
А вы знаете, что такое миква?
Прибил он ее за то, что она все время чихала и кашляла, – накануне мы, наверное, часа четыре стояли голыми, и она элементарно простудилась, он молол языком и молол, а она чихала, стоя в первом ряду прямо перед ним, у нее и в мыслях не было ему мешать, но кто-то засмеялся, и в конце концов он взял у солдата винтовку и прибил ее. Не знаю, почему он ее не пристрелил; может, ему доставляло удовольствие убивать ее на глазах у всех именно таким способом. Он даже запыхался, а ее голова раскололась пополам. Потом он продолжил свою речь, а та женщина… звали ее, кажется, Майер, Ривка Майер, если я не путаю, память меня подводит, но некоторые имена, некоторых людей я никогда не забуду… лежала она, значит, и так странно дергалась, хотя была уже мертвой, ведь ее мозг валялся на песке, и тогда я поняла, что утрата волос не такое уж серьезное дело, и все вдруг почувствовали: своим смехом они обрекли ее на смерть, – но ведь они не знали, не понимали, они пробыли в лагере только два дня и еще не успели сообразить, что да как. Впрочем, я там пробыла много лет, но по-прежнему не понимаю. Конечно, она бы все равно погибла раньше или позже, как погибли почти все, почти все, только мне повезло…
Что-то зябко стало…
Долго же мы с вами сидим, у меня уже все тело затекло.
Я не пью кофе, я ведь такая старая, что вообще чудо, как я столько лет прожила после всего, что выпало на мою долю, но с тех пор не могу пить кофе, только горячую воду с медом, мед очень полезный. Вы любите мед?
Когда я сидела на том бордюре, то меня вдруг будто разморило, и вокруг все затихли, посерьезнели. Заслушались, всем был понятен язык нот. Высокий парень перестал бить в бубен, просто стоял, пил пиво из банки и раскачивался, а меня словно куда-то унесло и почудилось на минутку, что рядом сидит Хенрик и что не придется мне доживать остаток жизни в одиночестве, но потом все пропало и я вспомнила, как пели в лагере, тихонечко, скорее бормотали, чем пели, потому что в любой момент могли заявиться эсэсовцы и избить. Вот из-за той печальной песни на меня и нахлынуло, все нахлынуло…
Открыла я глаза и увидела их. Сперва подумала, надо бы проснуться, но поняла, что не сплю. Я по-прежнему в Польше, в Кракове, на Широкой улице, вокруг те же люди, они слушают ту же самую музыку, – ничего не изменилось, почти ничего, только они, они шли, медленно, надвигались со всех сторон, просачивались сквозь толпу, выныривали из подворотен и переулков. Шли с опущенными головами, голые, серые и синие, людские скелеты, обтянутые гниющей кожей, такие, какими я их помню. Шли молча, и никто не обращал на них внимания, никто их не замечал, никто даже не смотрел на них, а они шли босые, ставили свои худые стопы рядом с молодыми ногами, голыми и приплясывающими, а когда проходили сквозь толпу, синие обвисшие груди женщин терлись о крепкие молодые соски танцующих девушек, тощие голые плечи утыкались в мускулистые загорелые тела парней. Когда же они проходили мимо меня, я почуяла трупный запах, никогда этого запаха не забуду, всюду его распознаю, он всю жизнь ходит за мной, запах гниющих зубов, кислого пота и мочи. Какая-то женщина двигалась прямо на меня – прошла сквозь меня, беспрепятственно, глядя себе под ноги, на серую мостовую, и скрылась. Уходили они оттуда смущенные, устыдившись себя, своего жуткого вида, и будто прощения просили за то, что их надо помнить, и в конце концов ушли прочь, напуганные танцами, все те, которых я помню, и те, которых не помню и не знаю, хотя они умирали рядом со мной. И так меня это ошеломило, я прямо не знала, что делать, и вдруг увидела девушку с черными волосами, ту, которая танцевала раньше с сережкой в пупке, увидела ее снова, она по-прежнему стояла в кругу танцоров, но уже опустив руки, раскрыв ладони, и смотрела на меня, и плакала, а слезы, как жемчужины, катились по ее лицу и падали на голую шею, складываясь в сверкающие бусы.







