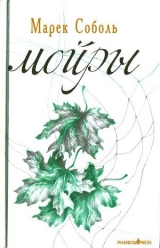
Текст книги "Мойры"
Автор книги: Марек Соболь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Но я не плакала, я никогда не плачу, хотя порою хочется, но, видно, разучилась. Меня тоже забрали, как забрали мамусю и папу. Им не повезло, и моей сестре Хеленке тоже не повезло, потому что она была не такая симпатичная, как я. Я всем нравилась, а ее убили, как и многих других. Я выжила, а они остались там с Богом, потому что Бога я оставила вместе с ними в лагере и больше уже никогда о Нем не думала. Выжила, да, хотя они изувечили, изгадили во мне все то, что женщине требуется для любви. Потом в больнице мне оттуда все вырезали, и заниматься любовью – это уже стало не для меня, детей я тоже не могла иметь, и даже если бы захотела, не с чем было пойти в микву, но зато я увидела Париж, встретила Хенрика, полюбила его и была с ним счастлива, открыла кофейню, познакомилась со всякими разными людьми. Я разговаривала с Эдит Пиаф и прожила жизнь лучше не бывает – с самым необыкновенным мужчиной, какие только на свет родятся. И он любил меня, хотя я уже не могла быть настоящей женщиной. Знаю, запрети я ему, он перестал бы встречаться с ними, с теми женщинами, покончил бы ради меня с интрижками, но я этого не сделала. Он бы перестал, знаю, но я хотела, чтобы он был счастлив, ведь я же была. Никто другой бы меня не захотел. Никто, словно в чудесном сне, не катал бы меня на автомобиле по парижским бульварам, не ласкал бы, как он, зная при том, что внутри я пустая, вроде пианино без струн, а он играл, вдохновенно ударял по клавишам, помня эту музыку наизусть, но никаких звуков не раздавалось, было тихо, как в гробу, потому что я все время помнила ту боль, потому что там, внутри меня, уже не было ничего, а он все играл и танцевал со мной. Ах, как он танцевал! Бывало, мы не вылезали с Монмартра по три дня, а однажды прокутили все наши сбережения – был мой день рождения, и мы угощали всех самым лучшим вином и всем, чего только не пожелают, а директор кабаре вынес меня на руках на сцену и встал передо мной на колени, а я была уже такой пьяной, что начала петь, и все затопали, засвистели, потому что я ужасно фальшивила. Но директор велел им – он тоже был совершенно пьян, – так вот, он велел им прекратить, мол, это его кабаре и здесь может петь любой, кого он попросит. Тогда в нас стали кидаться едой и нам пришлось удирать со сцены. Хенрик ужасно разозлился, но только на секундочку, и это был самый прекрасный день рождения в моей жизни, а ведь у меня их уже случилось больше семидесяти. Потом пришлось занимать, почтенный Хайм, когда узнал, почему мы у него занимаем, смеялся минут десять, а затем… Нет, я не плачу; с тех пор как вышла из лагеря, я ни разу не плакала, не была в микве и не рыдала, даже когда Хенрик умер, и я пожалела, что у меня нет ребенка, который унаследовал бы его красоту. Зачем плакать, если новый день может принести новое счастье. Этот урок я твердо усвоила. Ну и как я могла объяснить все это мадам Греффер, когда она спросила, почему я не ревновала? Да ревновала я! Еще как. Но только потому, что не могла дать ему того, что она давала. Что было ей отвечать?
Ей-богу, не пойму, зачем я вам все это рассказываю. Кофе вы не пьете. Только курите одну сигарету за другой. Цветы уже зачахли от вашего дыма. Я никогда не курила, но Хенрик курил трубку, а вы как паровоз, пепельница уже полнехонькая. Не пора ли вам уходить? Расселись тут…
Нет, я не плачу. Я никогда не плачу…
Ладно уж, оставайтесь. Расскажу вам про Эдит Пиаф.
Инес! Подай, наконец, господину кофе.
Дымите уж, коли нравится. Может, и мне попробовать…
Никогда не курила.
А вот она курила, одну за другой, прямо как вы. Пришла и села вон там, у зеркала, где обычно сидит мадам Греффер. Я сразу ее узнала.
Зеркало тогда еще было целым, без трещины. Стояла зима, и она вошла замерзшая, давно это было, мы тогда только приехали из Польши. Выглядела она очень плохо, то ли усталая была, то ли болела, глаза будто стеклянные, и она часто дышала. Вошла такая озябшая, был мороз и снежок сыпал, села на стул, вон там, и в этот момент – тррах! – зеркало треснуло. По всей ширине, сами видите, и абсолютно само по себе, а она жутко перепугалась и хотела сразу уйти, но Хенрик подошел к ней и принялся успокаивать. Сказал, что это от разницы температур – она внесла с собой холод, но ничего страшного, не о чем волноваться. Говорил он тихо, медленно, и она совершенно растаяла, как масло в кастрюльке, когда делаешь глазурь для торта, даже она ему поддалась, уж таким он был необыкновенным мужчиной, мой Хенрик. Уселась она, а я принесла ей кофе и сказала, что ее новая песенка очень красивая, та, в которой она поет, что ни о чем не жалеет, «Non, je ne regrette rien». Сказала ей, что у меня была очень трудная жизнь и только теперь здесь, в Париже, я счастлива, и проговорили мы с ней почти три часа, а Хенрик обслуживал клиентов, и нас тоже, она то и дело глотала какие-то порошки, ведь, по слухам, она вообще много пила и принимала кучу лекарств, точно как мсье Петри, который от этого и погиб…
Но о мсье Петри как-нибудь в другой раз.
Когда через три года она умерла, весь Париж замер, все те, кто куда-то шел, застыли на месте, развернулись и медленно зашагали на Пер-Лашез, и когда они туда дошли, набралось их тысяч сорок. Имя епископа, который отказался помолиться над ее могилой, стерлось из людской памяти, помнят только, что сыскался один такой, дурак; может, он до сих пор жив, да никому и дела нет, а может, умер, но никто не знает, где он похоронен, а она по-прежнему жива, и на ее могиле всегда свежие цветы, не раз видела, я ведь люблю гулять по Пер-Лашез. Говорят, ту песенку, «Non, je ne regrette rien», пели французские солдаты, когда покидали Алжир, вместо «Марсельезы», вместо гимна. Все пели ее песенки, а сейчас она уже часть Парижа, как Эйфелева башня, от которой поначалу тоже все нос воротили, а теперь, если скажут «Париж», то на ум сразу приходят Эйфелева башня и Эдит Пиаф.
Жизнь у нее была грустная. Я читала про нее книжку, написали обо всем – и что было хорошего в ее жизни, и что плохого, ничего не упустили, бесстыдники, словно раздели ее догола, но об одном они не знали, об одном лишь не написали, о том, как однажды зимою, году в 1960-м, она просидела здесь со мной три часа, за тем столиком, и все это время мы разговаривали. Сказала она, что у меня необыкновенный муж, и что она сама в него чуть не влюбилась, но, думаю, это была неправда, она так говорила, чтобы доставить мне удовольствие, ведь она вроде бы любила только одного человека, того боксера, что погиб в самолете, точно как мой Хенрик, правда, боксер был пассажиром, а мой Хенрик пилотом, но это уже совсем другая история.
А вы, сдается, мне не верите.
Вы еще молоды и не понимаете, какая интересная история наша жизнь, особенно когда она подходит к концу; я-то уже свою почти прожила, я уже такая старая, что даже силенок не хватает за один раз пропылесосить квартиру целиком. Гляньте на эти вытертые плитки, на дорожку, что ведет от бара через весь зал, это я ее протоптала, мои ноги в туфлях, сапожках, босоножках прокладывали эту дорожку день ото дня в течение долгих лет, а ведь человек не из камня сделан, как эти плитки, черные и белые вперемежку, но там, где стерлись, они стали серыми, такими же серыми, как и сама старость. Я много чего помню, но память с каждым днем становится все хуже, скоро и вовсе ничего не останется, кто-то положит новую плитку, за барной стойкой появится какая-нибудь молодая девушка, такая же молодая, какой была я, когда приехала в Париж, а я уже буду на кладбище – только не на Пер-Лашез, не знаю, где лягу, – и все обо мне забудут, как о том епископе, хотя ничего плохого я вроде в жизни не делала и глупостей особых тоже не совершала, но я одна, совершенно одна, и нет у меня никого, кому полагается обо мне помнить.
Смерть – очень личное дело. Я видела в жизни столько смертей. Видела громадные кучи мертвых тел, на моих глазах этих людей убивали, а потом их тела лежали и гнили, пока наконец кто-нибудь не закапывал их или не сжигал. Но из всего, что было, крепче других запомнилась та единственная смерть, когда убили Ривку Майер, потому что она жила под нами, а прочие были чужими, они гибли десятками, почти каждый день я видела новые трупы или на моих глазах кого-то опять убивали, но я не плакала, не горевала, ничего не чувствовала, ведь все происходило так тихо, бесшумно, будто в сломанном телевизоре – изображение осталось, а звука нет.
Когда выйдешь в поле и сорвешь один хлебный колос, разомнешь его в пальцах, понюхаешь, сдуешь шелуху, разгрызешь одно зернышко – то словно кожей ощущаешь каждый рассвет, что вставал над этим полем, каждый дождь, который его окропил, этот запах, это золото на ладони, столько чувств они вызывают. Порою, не в силах удержаться, встанешь на колени, возьмешь горсть земли и поднесешь к лицу. Но когда мы стоим на краю того же поля и смотрим на комбайн, как он жнет, молотит, отделяет мякину, ссыпает зерно в прицеп, разве возникает у нас то же чувство, помноженное на миллион, разве мы ощущаем то солнце и тот запах в миллион раз сильнее, разве падаем миллион раз на колени? Нет, стоим и смотрим равнодушно, и ни капли волнения, какое мы чувствуем, размяв в пальцах один-два колоска. Когда падает самолет и гибнут сто человек, мы запоминаем лишь цифру, только ее, и она не становится переживанием, но в тот же самый день в ста домах, где-то там, звонит телефон или стучат в дверь и скорбный голос сообщает горестную весть, и жизнь ста жен или ста мужей, ста матерей, отцов, дочерей или ста сыновей переламывается пополам, и для них все вдруг меняется, все теряет смысл, а бывает, и выгодой оборачивается, но ничего уже не остается как прежде и уже никогда таким не будет. А те, кто читает о катастрофе в газетах, смотрит по телевизору, помнят только цифру – сто или сто двадцать, сто семь, сто сорок три или еще какую, побольше, поменьше ли. Одни говорят, что немцы загубили шесть миллионов евреев, другие – что только два с половиной, а может, только два миллиона, а может, два миллиона и одного, и этот один вроде как и не считается, но он мог бы быть моим папой или Ривкой Майер. Да какая разница, шесть миллионов или два? Можно растереть в пальцах один колос или два и в их запахе, цвете найти Бога. Но когда комбайн ездит по полю туда-сюда, это уже только жатва.
Жатва…
Я совсем замерзла. Хотите горячей воды с медом?
Мед полезный.
У моего деда была пасека. Видели бы его, с ног до головы облепленного пчелами! Они летали повсюду, даже страшно было бегать по траве, но если бы вы нарочно убили хоть одну, дедушка бы вас проклял. Он в своих пчелах души не чаял. Не позволял их трогать, даже когда от них спасу не было, когда они влетали в кухню и садились стаей на творожник или тонули в компоте. Дедушка их вылавливал, окунал в воду и осторожно клал на подоконник, чтобы у них крылышки высохли на солнце и они могли благополучно улететь. Потом его тоже убили, когда жгли деревню. Никто не выжил. В его ульях было миллиона два пчел. А может, два с половиной. А то и шесть.
Ульи тоже спалили.
Это дед приохотил меня пить воду с медом, горячую. Уже здесь я научилась добавлять в воду кусочек лимона. От этого еще здоровее получается, ведь в лимоне витамины. Наверное, благодаря меду я так долго и живу, хотя через столько всякого прошла и уж давно должна была уйти из этого мира.
Как думаете?
Инес! Принеси нам с гостем по кружке кипятка с медом.
Хенрик тоже очень любил мед с кипятком, и та его художница любила, он научил ее пить мед, у нее всегда был такой болезненный вид.
Как ее звали? Память у меня совсем никуда не годится…
Видите те перцы на стойке? Это она придумала. Однажды пришла в ненастный полдень, погода была особенно мерзкой, а она сияла как никогда. Видно, только что продала картину и предвкушала, как будет гулять по всему Монмартру. Вошла и говорит: «Грустные вы какие-то. И к чему унывать?» Сказала и выскочила за дверь. Через минуту вернулась с сумкой, полной красных сочных перцев, выложила их в корзинку для хлеба и поставила точно на то место. С той поры корзинка там и стоит. Иногда я кладу в нее красные яблоки, а иногда просто красные цветы, но такие, алые. Гляньте, как эти перцы хорошо смотрятся. Кругом все деревянное, и за окном деревья, поэтому здесь всегда немного темновато; конечно, кое-что блестит – зеркало, кофеварка, стекла, но и в них отражается дерево, зелень, а красная корзина согревает зал. Вот и художница была такой же, согревала всех вокруг себя, а сама сгорала. Бывают такие люди. Эдит Пиаф, к примеру, или мсье Петри, пока не зачах, будто тот плющ, и не умер. Потом художница уехала в Америку и, кажется, даже писем не писала, Хенрик бы мне сказал. Когда он умер, я подумала, не найти ли ее, не сообщить ли о его смерти, но я понятия не имела, где ее искать, ведь я даже не знала ее адреса. Сейчас ее уже, наверное, на свете нет, мы ведь с ней были ровесницы, а она всегда так плохо выглядела и много пила, курила, я же никогда не курила. Только Хенрик баловался трубкой…
Мсье Петри был очень веселым человеком и таким умным, хотя никаких институтов не кончал, но он всегда много читал и любил играть с моим Хенриком в шахматы и заодно беседовать. Петри почти всегда проигрывал, а если выигрывал, то, сдается мне, Хенрик нарочно ему поддавался или по какой-то причине становился рассеянным. Они любили играть друг с другом, хотя, по правде сказать, они больше беседовали, а шахматы просто стояли между ними; бывало, за весь вечер ни одной фигуры не передвинут. Когда разговаривали о политике, то начинали ужасно громко кричать, так громко, что кое-кто из гостей, рассердившись, уходил из кафе, но когда разговор шел о женщинах, они принимались шушукаться, изредка кто-нибудь из них разражался смехом, и оба так странно на меня поглядывали. В ту пору мсье Петри был любимцем женщин. Невзрачный и невысокий, он всегда умел блеснуть, очаровать, хотя по сути не был заправским соблазнителем. Мишель, кстати, добывает девушек ворожбой. Есть у него одна знакомая на улице Марэ, которая гадает на картах. Он с ней сговорится, потом посылает к ней девушек. Она им нагадает счастье с блондином, а он и есть светловолосый с голубыми глазами и ездит на красивой красной машине, вот гадалка и талдычит про счастливую любовь, блондина и красную машину, и стоит девушке это услышать, она уже во власти Мишеля. Разве придет девчонке в голову, что гадалка способна обманывать? В придачу ворожея эта столько туману напустит, что те девушки опять к ней приходят, когда он их бросит, иначе бы они ни за что к гадалке не пошли. Надо признать, Мишель – не подарок, но иногда он бывает очень тонким и вдумчивым. Я могу болтать с ним целый вечер, хотя ему лишь двадцать с хвостиком, а я уже старуха и всякого в жизни навидалась. Похоже, к старости я стала ужасной болтушкой, но ведь скоро помирать, и ничего-то после меня не останется, только те рассказы в голове Мишеля, ну и, может, в вашей голове.
Сама не знаю, зачем я вам все это говорю.
Вкусный мед? Пейте, пейте.
У мсье Петри вроде и не было других приятелей, кроме Хенрика. Но однажды он влюбился в девушку, которая тоже сюда захаживала, и они поженились и родили двух прелестных дочек. Долго я ее потом не видела, потому что она работала и нянчилась с девочками. Петри иногда забегал сыграть в шахматы с Хенриком, но все уже было по-другому: он вечно торопился; стоило ему сесть за стол, как она уже звонила, его требовала. Остались у Петри только дом да Хенрик, а обо всем прежнем пришлось забыть, о том, как вместе с нами развлекался в кабаре, как мы ездили за город или катались на лодке под парусом. Даже в кино не удавалось его зазвать.
Иногда думается мне, что, наверное, оттого мы с Хенриком были такими счастливыми, что я не могла иметь детей. Он был волен делать что хочет, а я могла ему всюду сопутствовать, ведь мне не нужно было все время заниматься домом, сначала стирать пеленки, потом провожать детей в школу, приглядывать за ними, чтобы толковыми росли. Это ведь большое искусство – растить детей и одновременно умудряться жить своей жизнью, не отказываясь от всякого разного. По-моему, не многие так умеют, почти никто, вот и они не справились, хотя, возможно, пытались; про нее не скажу, я ее мало знала, но он бы еще погулял или по крайней мере сделал бы что-нибудь лично для себя, но он смирился; его хватало только на то, чтобы от случая к случаю забегать к Хенрику. Конечно, дети – самое главное в жизни женщины, но с мужчинами не всегда так. Мужчины, они разные, одни любят заботиться о детях, стирать пеленки, варить кашу, гулять с коляской, и порой у них даже получается лучше, чем у жены; ничего иного они в жизни не ищут, ничего иного не желают, они нашли свое счастье. Но бывают и другие. Эти в один прекрасный день садятся на корабль и отплывают открывать новые земли или запрутся в лаборатории и давай искать что-то важное, а еще бывают такие, кто всегда в пути. Этим мужчинам, когда они обзаведутся детьми, семьей, постоянно приходится разрываться, вся их жизнь – один большой бесконечный выбор, они все время пренебрегают чем-то любимым ради другого, тоже любимого, и каждый день их мучает совесть.
Я страшно горевала, что не могу родить, особенно когда принимала разные таблетки – сама не своя была, ведь я старела на глазах и борода начала пробиваться, выщипывать приходилось. Мы могли бы взять ребенка, но в конце концов смирились с тем, что будем жить иначе; и потом, это ведь не одно и то же, я всегда хотела ребенка от Хенрика – частицу моего необыкновенного мужчины, каким-то чудом проявившуюся в моем мальчонке или девчушке. Утеха на старости лет и память: жесты, как у отца, взгляд – словом, наследник, настоящий, а не приемный. Теперь жалею, теперь понимаю, что дети – это нечто большее, есть в них кое-что, чего мне теперь сильно не хватает: они будут жить дольше, еще много лет после того, как мы уйдем. Обо мне некому помнить. Почтенный Хайм даже старше меня и, наверное, умрет раньше, Тереза тоже уже очень старая. Приходят сюда разные молодые люди, но у них нет повода помнить обо мне, ведь я для них ничего не сделала, самое большее – подала кофе с рогаликом. Не знаю, зачем человеку надо, чтобы о нем кто-нибудь помнил, разве это не глупо, но так уж повелось, хочешь не хочешь, и чем ближе смерть, чем чаще мы об этом думаем. Я никогда не плакала, с тех пор как вышла из лагеря, но иногда становится так грустно, оттого что исчезну я из этой жизни, как урна с тротуара, и никто, ни один человек не ощутит утраты. А если даже и ощутит, то ненадолго.
Но я не могла иметь детей, и тут уж ничего не поделаешь, внутри у меня ничего нет, чтобы рожать. Бывало, встану перед зеркалом и думаю: на что мне это тело, груди, длинные волосы, зачем все это? Жить не хотелось, особенно когда Хенрик целовал меня, ласкал, а во мне ни отзвука, глухая тишина.
Только раз я почувствовала себя так, будто внутри у меня все целехонько, – той ночью, когда танцевала с Иоганной, мадам Греффер, на столе. Я вам об этом уже рассказывала. Вокруг полно мужчин, а мы красивые, и на дворе шестидесятые годы, а тогда многое дозволялось, даже то, что теперь считается непристойным. Мы танцевали, ночь была абсолютно пьяная, и все развлекались на полную катушку, стояли вокруг нас, хлопали, и Хенрик радовался, ведь одна из нас была его женой, другая любовницей, и обе всем нравились. Потом я сбросила шаль, а Иоганна, мадам Греффер, сбросила жакет, и выглядело это так, будто мы раздеваемся. Один человек, я хорошо его запомнила, потому что у него всегда были такие печальные глаза и лишь в тот вечер он смеялся и веселился, и вот тот человек открыл шампанское и давай нас им поливать, как автогонщиков на пьедестале, тряс бутылкой и хохотал, а шампанское брызгало на нас, и тут же кто-то еще откупорил бутылку, и еще кто-то, и мы были уже совсем мокрые, и все у нас просвечивало, у Иоанны сквозь блузку, у меня сквозь платье, ведь тогда девушки не носили лифчиков, это же был конец шестидесятых. В общем, все смеялись, забавлялись, и Хенрик вместе со всеми, в таких случаях он никогда особо не ревновал, ему было приятно, что я нравилась другим мужчинам, очень приятно, у меня ведь и вправду была красивая грудь; когда я, выйдя из лагеря, отъелась, грудь у меня вдруг стала совершенно такой же, как у девушек с цветных газетных фото, такой, какой должна быть, большой, упругой, да только бесполезной. И вот тогда, на столе, я испытала нечто такое, чего не испытывала еще никогда, ведь в лагерь я попала почти ребенком, а потом мне все оттуда вырезали, но я поняла, что происходит: в тот миг я почувствовала себя настоящей женщиной. Я была уже совсем пьяная и очень счастливая, забыла обо всем на свете и вдруг обхватила себя руками, вот так, и стянула платье, осталась перед ними в одних трусиках. И тут все замолчали, только музыка продолжала играть да я все танцевала, но Иоганна, мадам Греффер, остановилась, и никто не хлопал, все начали медленно расходиться, делая вид, будто меня там и нет, на столе. А Хенрик снял пиджак и подал мне на вытянутой руке, он долго так стоял, пока я наконец не сообразила, что хватила через край, забыла о слишком многом, тогда я взяла у него пиджак, набросила на плечи и села, молча.
Что вы так странно смотрите? Думаете, они отвернулись от меня, потому что я предстала перед ними голой? Вы не знаете Парижа? Тут все можно, и даже Хенрик не перестал бы хлопать и радоваться тому, что все смотрят на мою грудь, как она подпрыгивает в танце, гордился бы мной, а Иоганна наверняка тут же стащила бы с себя блузку и продолжила отплясывать на пару со мной.
Но у Хенрика и в мыслях не было, что я могу совсем раздеться, он-то знал, как выглядит мой живот, с жутким глубоким шрамом во всю ширину, который в придачу раздваивается и доходит вот досюда. За год до отъезда из Польши мне сделали последнюю, самую тяжелую операцию; потом, во Франции, я немного обросла жирком, отчего рубцы стали похожи на рытвины или на парижские бульвары, когда смотришь на них с самолета. Знаю, что говорю, мы ведь с Хенриком летали над Парижем, теперь это вроде бы запрещено…
Они все ужаснулись, увидев меня голой, ведь раньше никто не видел, только Хенрик, а я попросту забыла, не подумала, совсем с ума сошла от того чувства, которое на меня вдруг накатило; позже Иоганна, мадам Греффер, никогда об этом не вспоминала, даже спросила меня однажды, почему я на нее не злилась за то, что она была любовницей Хенрика.
Но об этом я уже говорила…
Сидела я тогда, закутавшись в мужнин пиджак, платье надеть не могла, оно было насквозь мокрое, и, помню, все искоса на меня поглядывали. Публика мгновенно вернулась за свои столики, будто их туда ветром сдуло, все беседовали о чем-то, не обо мне, конечно, в тот момент это была неподходящая тема для беседы, и я знала, что некоторые никогда об этом не заговорят, у других же спустя какое-то время развяжутся языки, любопытство в них победит, им захочется поболтать, потрепаться. Мне же хотелось провалиться сквозь землю, но Хенрик сел рядом со мной и глядел так спокойно, так нежно, что я поняла, все в порядке, он меня не возненавидел, ведь я только этого и боялась, мне было все равно, что видели другие, меня это не волновало, я могла бы встать и ходить от столика к столику, показывая им рубцы поближе, разрешая даже потрогать, могла бы рассказать, откуда они взялись, а потом наблюдать, как люди зеленеют и, возмущенные, покидают кабаре, – запросто, мне было все равно, но я этого не сделала и только одного боялась: что Хенрик меня возненавидит, что уйдет и не вернется, и я заплачу еще раз за то, за что платить должен кто-то другой.
Сейчас я уже старая, и вам, наверное, трудно представить, что я тогда чувствовала, теперь все мои рубцы спрятались в складках старой кожи, в придачу у меня была еще одна операция, старость наносит раны чуть ли не каждый день, так что те, прежние следы стираются, и даже если кто-нибудь их сейчас увидит, то совсем не ужаснется, но тогда я была молода, и грудь у меня была красивая, и личико хорошенькое, и фигурка, и при всем при этом – жуткие шрамы, будто меня пытались перерезать пополам, шрамы, въевшиеся в кожу. Я смотрела на них каждый день в зеркале и даже не помышляла что-нибудь с ними сделать – зачем? Теперь, наверное, меня бы прооперировали; говорят, нынче и похуже изъяны удается скрыть, а еще можно увеличить грудь, но мне не надо было ничего увеличивать, наоборот, мою грудь можно было хоть в витрине выставлять, даже странно, после всего, что было…
Когда Хенрик впервые увидел мои рубцы, он смотрел на них, смотрел, а потом вышел из комнаты, и я подумала, что он уже не вернется, была уверена, что вот сейчас услышу, как закрывается дверь, и больше я его не увижу. Это случилось здесь, на этой улице, у нас была маленькая квартирка в доме под тринадцатым номером, только тогда мы еще не были вместе, из Польши мы выехали друзьями, не как пара или супруги; верно, жили вместе, но я была страшно неприступна.
Отвергала его, отворачивалась, хотя он из кожи лез, ведь мы оба знали, что любим друг друга. Ну и однажды я решила, что так дальше продолжаться не может, ему плохо по моей вине, и я позволила, чтобы он меня поласкал и раздел, хотя догадывалась, чем это закончится… А потом он вышел, но вернулся и сел рядом со мной, и я ему обо всем рассказала, хотя, если начистоту, не обо всем, потому что есть такое, о чем я не расскажу даже в Судный день, если он когда-нибудь настанет…
Господи, я все время повторяюсь.
Вам не скучно?
Рассказала я ему обо всем, он выслушал и лег рядом, и я знала, что он не спит. Больше я ничего не стала говорить, только разделась до конца и прижалась к его горячему телу, к спине, и тихонько заснула, словно бесплотная тень.
Так и началось наше великое счастье. Только мы сдали польские паспорта, как Хенрику предложили место переводчика в министерстве, и с того дня нам всегда везло, все шло как по маслу. Хенрик отлично говорил и по-французски, и по-итальянски, и, конечно, по-польски, и чем дольше он там работал, тем больше в нем нуждались, до самого конца он много зарабатывал, у меня осталась от него пенсия, без которой я бы вообще не справилась, потому что кофейня совсем не приносит денег, ну и на гараж еще приходится тратиться…
Хенрик, выйдя на работу, сразу купил себе новый костюм, а мне красивое кольцо и огромный букет цветов, и сделал мне предложение, и мы сразу поженились. Тогда я толком ничего не понимала, ведь настоящей женщиной я не была, но теперь, когда я столько знаю – жизнь научила, да и успела я вдосталь насмотреться на других людей, – теперь я и вовсе не понимаю, зачем он на мне женился. Он был таким завидным мужчиной, мог взять буквально любую, но решил жить с той, что никогда не родит ему детей, никогда не займется с ним любовью. Похоже, он надеялся, пробовал несколько раз, но скорее ради меня, думал, что все-таки мне это нужно, да и врач был того же мнения, но каждый раз, когда казалось, что еще чуть-чуть – и нутро мое оживет, эти шрамы, черт бы их побрал, все портили. Годы шли, ума у меня прибавлялось, и в конце концов я дала себе обет: никогда его не ревновать, никогда не упрекать за интрижки, я только не хотела, чтобы он путался абы с кем. Но у него были такие замечательные любовницы, и он всегда был так добр ко мне, и когда ему опять взбредало в голову что-нибудь новенькое, он не забывал обо мне, всегда старался освободить меня из моей неволи, от тех черных мундиров, что всю жизнь стояли надо мной, от всего того, о чем не расскажу, о солдатских сапогах, бивших меня в те места, которые другие мужчины целуют, на которые другие мужчины кладут голову, когда хотят на минуту забыться…
Нет больше Хенрика, и с мадам Греффер мы больше не беседуем, ну и с кем мне прикажете болтать, я ведь совсем одна. Тереза только и знает, что глушить красненькое, к тому же она такая дурочка, хоть и старая. С ней можно посудачить лишь о том, когда кофе был лучше, сейчас или раньше, или о том, как замечательно цветут деревья за окном, и все. Когда сидим за кофе с Мишелем, тоже о таких вещах не разговариваем, молод он слишком. Однажды я ему кое-что рассказала, но он полагает, что это уже невозвратное прошлое, ничего подобного больше никогда не будет, поэтому надо об этом побыстрее забыть, а я думаю, он ошибается, такое может повториться, а может, и уже повторяется, не здесь, в других краях. Мишель молод, он еще многому должен научиться. Будь хотя бы мсье Петри жив, мы повспоминали бы Хенрика, крепко они дружили.
Но я ведь не закончила историю о мсье Петри.
Когда его старшей дочке исполнилось четыре годика, она тяжело заболела. Не могла вообще двигаться, ни кушать, ни писать, совсем ничего, а через год умерла; они, мсье Петри и его жена, пережили тогда настоящий кошмар, тыкались во все места, потратили все деньги, влезли в огромные долги, даже у нас занимали, но я никогда об этом не вспоминаю, мы с Хенриком деньги тратили в свое удовольствие, о чем теперь поминать. Все в округе, знакомые, соседи, старались им как-то помочь. Девочка погибала, таяла на глазах и в конце концов умерла ночью, задохнулась, дышала она уже с большим трудом, а они еще себя корили: мол, из-за них она умерла, недоглядели, но это ведь неправда, малышка бы все равно умерла, не той ночью, так через неделю или через две, она умирала каждый день, и каждый день они ее спасали, а под конец не удалось.
Нет большего счастья, когда рождается ребенок, но нет и большего несчастья, когда ребенок умирает, а родителям приходится с этим смириться. Супруги Петри с этим не справились, отвернулись друг от друга, ругались и никогда уже не радовались жизни, даже чуть-чуть. На вторую дочку махнули рукой, она сама о себе заботилась, – словно за тот год они изжили всю любовь, какая им была отпущена на земле, место любви заняли равнодушие и ненависть. Мсье Петри начал пить, пил он все сильнее и сильнее, и не выдавалось уже и дня, чтобы он был трезвый, она сначала закатывала ему скандалы, потом плюнула, и общего у них осталось только квартира. Они походили на две тени, бледные, печальные и обтрепанные, а глаза запавшие и пустые. Смотреть на них было страшно, честное слово, просто жуть.
Шли годы, один за другим, а он все пил и пил, и куда только подевался прежний мсье Петри, веселый, умный, у которого в ответ на любую шутку находилась острота еще забавнее, к которому льнули женщины, как собаки льнут к порогу мясника. Трудно было поверить, что когда-то он играл в нашем кафе в шахматы и спорил об искусстве с теми гостями, которых приводила сюда та художница с носом-картошкой. Ну а потом погиб Хенрик, и мсье Петри остался совсем один. Ни у кого не хватало терпения возиться с ним, грязным, мрачным и сильно поглупевшим. Даже у меня не получалось его разговорить, ничем нельзя было его заинтересовать, он лишь моргал и тупо смотрел на меня. Поначалу за ним приходила дочка, пыталась увести его отсюда или из какого-нибудь другого заведения, и я его просила, мол, идите домой, к жене, уговаривала одуматься, но все зря. Потом он перестал сюда приходить, напивался где-то в другом месте, я уже видеть его не могла, и, конечно, я чувствовала себя виноватой, с пьяницами всегда так, все вокруг чувствуют себя виноватыми, только не они сами. Однажды я его выгнала, клиенты были недовольны, он сидел с раннего утра и к полудню уже стал невыносим. Бормотал что-то без ладу и складу, иногда кричал. Очень было неприятно.







