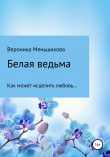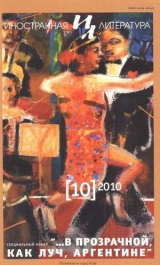
Текст книги "Падает тропическая ночь"
Автор книги: Мануэль Пуиг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Мануэль Пуиг. Падает тропическая ночь
Глава первая
До чего грустно в этот час, почему так?
– Это вечерняя тоска, Нидия, она приходит, когда темнеет. Лучше найти какое-нибудь дело, занять себя чем-то в такое время. Потом, ближе к ночи, уже по-другому, это ощущение уходит.
– Особенно, если можешь легко заснуть. Тогда не думаешь обо всем, что было ужасного.
– Тут тебе повезло, ты даже не представляешь, как это помогает. Когда сон не идет, в голову лезет самое жуткое. Не будь этих чудных таблеток, я бы столько времени не продержалась.
– Тебе грех жаловаться, Люси, ты не пережила такого горя, как я.
– Знаю, Нидия. Но у меня жизнь тоже была не сахар.
– Когда умерла мама, бывало так же, помнишь? В этот час воспоминания одолевали особенно сильно.
– Помнить-то мы помнили о ней всегда; первое, о чем я думала, проснувшись, – что мамы больше нет. Но в этот час сильнее всего ощущалось ее отсутствие. Правда тогда, среди стольких дел, в голову не лезли, как теперь, одни грустные мысли. Ну да, столько было обязанностей.
– Приготовить поесть.
– А с детьми какая ответственность, Нидия. Вывести их в люди.
– И потом случается такое – тебя лишают самого дорогого.
– У верующих хоть есть утешение. Но я не могу себя обманывать, никак не могу. Великое дело – вера. Правда, завидую тем, у кого она есть.
– Да, Люси. Я им тоже завидую.
– Простым людям намного легче, они утешаются верой. А если не можешь себя обманывать, видишь жизнь, как она есть?
– Когда умер Пепе, было иначе, я словно соображение потеряла. И плакала-рыдала дни напролет. Но в этот раз все совсем по-другому.
– Одно дело муж, другое – дочь, Нидия. Твоя дочь. Что же такое творится, просто ужас.
– Люси, не могу сидеть взаперти, пойдем погуляем.
– Исключено, дождь собирается.
– Люси, ты не рассказала про эту, из соседнего дома. Чего это она больше не заходит?
– Из-за твоего приезда, наверное. Она заходила, в основном, излить душу, но при тебе не решается.
– Женщина она молодая, ей, должно быть, интересней в компании сверстников.
– Ну зачем ты так? Да нет! Она частенько заходила, сразу видно, охотно человек приходит или нет. Сначала она мне не нравилась, потом я привыкла. Она ведь приятная, по-своему, тебе не кажется?
– Знаешь, Люси, мне она показалась странной, но не вредной. Хотя держит дистанцию, с тобой тоже? Может, только со мной.
– Думаю, она не ожидала тебя здесь встретить, шла рассказать о наболевшем, а тут увидела тебя и не смогла.
– И поэтому больше не приходит. Люси, она же с тобой хочет поговорить, слегка излить душу.
– Знаешь, Нидия, просто невероятно, что вообразила себе эта женщина, даже не сомневалась, что он ее тоже любит.
– Но она ведь не девочка, должна понимать что к чему, призналась хоть, сколько ей лет?
– Нет, но судя по возрасту сына и по тому, что она училась до замужества и получила этот свой диплом, ей никак не меньше сорока пяти.
– Почти как Эмильсен.
– Сколько ей исполнилось бы в августе?
– Сорок восемь, Люси.
– Вот подлость!
– Да уж…
– Но у тебя есть сын, и он тебя обожает.
– Бедный Масик. Добрая душа, но дочь – другое дело, Люси. Тебе не понять.
– Ты ненормальная, мужчине пятьдесят, а он все у тебя Масик.
– Само получается. Мы всегда звали его Масиком.
– Пора зажигать свет. До чего уныло в домах с тусклым светом; ты, может, замечала: в домах одиноких стариков всегда мало света. Поэтому я люблю, когда все ярко освещено. Никогда не обращала внимания?
– Эту тоже зажечь?
– Да, чтобы не смахивало на стариковский дом.
– А как она с этим типом познакомилась?
– Я тебе говорила, что она серьезно болела, да?
– Да, Люси, но не сказала чем. Тем же, чем Эмильсен?
– Нет…
– Я думала тем же, почему-то так себе это представляла.
– Нет… Там было другое, Нидия.
– Ты говорила, она страшно перепугалась.
– Да, но вовремя спохватились.
– Значит, опухоль.
– Нет… Как это называется? Что-то вроде вируса. Она все по-португальски объясняла и повторяла термины здешних врачей.
– Без конца мешает португальский с аргентинским, то есть с испанским. Я не сильно ее понимала.
– Она столько лет в Рио. Я тоже, когда говорю с теми, кто здесь давно живет, вставляю много португальских слов, непроизвольно.
– Так что там за болезнь?
– Ну это… вирус. И никак не могли попасть в точку, ну эти врачи, но потом наконец определили, и она сразу пошла на поправку. А в санатории познакомилась с ним.
– У него-то что было?
– Там его жена лежала. Она умерла, бедняжка.
– От чего, Люси, от того же, что Эмильсен?
– Нет, вроде у нее было кровоизлияние, долго болела, но было ясно, что она умрет.
– Странно – кровоизлияние у нестарого человека.
– Об этом она особо не распространялась. У нее одна тема: он.
– А он уже поглядывал на других женщин, в такие минуты?
– Нет, он вроде расчудесный, только и думает, что о доме. И за женой ухаживал, не жалея сил, пока она болела.
– И как же так получилось?
– Она видела его мельком в санатории, мимоходом, в коридорах, когда ее водили из палаты на процедуры.
– И в такие моменты ее тянуло заглядываться на мужчин?
– Не забегай вперед, девушка не из тех, кто заглядывается. С ней случилась очень странная вещь, Нидия.
– Какая?
– Когда она его увидела, ей показалось, что это другой, ну в смысле, что он очень похож на того, другого мужчину, которого она сильно любила много лет назад и с тех пор больше не видела, это ее крайне поразило. И она подумала, что этого, из санатория, тоже никогда больше не увидит.
– Судя по твоим словам, этот из санатория не был похож на ее бывшего мужа.
– Нет.
– Значит, она вертихвостка, Люси.
– Нет, по-моему нет. Она помногу часов работает, и много занимается. И вовсе ей не до того, чтобы за кем-то бегать. Нет, Нидия, что ты. Иначе она бы не кинулась к нему очертя голову, когда он попался ей на пути.
– Ну, я к тому, что их уже трое: бывший муж, этот, с кем она познакомилась в санатории, и тот, на которого он так похож.
– Судя по ее намекам, после развода она сильно увлеклась тем типом из Мексики и теперь этим, здешним, и все.
– Конечно, аргентинец, мексиканец и бразилец, они очень похожи.
– Да, муж был аргентинцем, я тебе говорила?
– Был? Он что, умер?
– Нет, жив.
– Знаешь, Люси, никак не могу привыкнуть говорить: Эмильсен была тем-то и тем-то. Что ее больше нет.
– Но она живет в твоей памяти, в воспоминании всех, кто ее любил.
– Это дела не поправит. Конечно, она всегда будет жива в моей памяти, но что мне с того? Я хочу поговорить с ней, потолковать о том о сем, и не могу! Тоскую, а ее в живых нет как нет.
– Нидия, иначе и быть не может, понятно, что горько, как не горевать, если теряешь дочь? Да еще такую, что всегда была тебе подругой.
– Как бы я хотела привыкнуть к мысли, что ее больше нет. И послушать ее совета, она ведь, как заболела, видя мое беспокойство, когда ей становилось хуже, смотрела мне пристально в глаза и говорила: “Ты себя береги”.
– Помню ее еще здоровой. Так жаль, что я не могла быть с вами, когда вы столько всего пережили, от Рио до Буэнос-Айреса так далеко
– Хорошо, ты не видела ее во время болезни. Она никогда не жаловалась, но сильно сдала.
– Какая девочка, какая сила духа!
– Люси, скажу честно, она ведь ни разу не намекнула, что знает, что с ней. Ни разу не пожаловалась при мне, никогда.
– Просто берегла тебя.
– Я не хотела сейчас ехать в Рио, не было сил, но вспомнила, как она говорила, что надо себя беречь, и поехала.
– Знаешь, Нидия, тебе это пойдет на пользу. Пляж, вечерняя прохлада – будешь хорошо спать, в прошлый твой приезд у тебя снизилось давление, и теперь будет так же, вот увидишь.
– Но тогда мне было семьдесят восемь лет, а теперь восемьдесят два.
– Ах, пожалуйста, не произноси эти цифры, звучит как шутка.
– Какие тут шутки…
– Нидия, сядем на диету построже, и давление у тебя снизится. Немного сбросишь вес, и тебе станет лучше.
– Не готовь больше мучного, не могу устоять перед твоей лапшой.
– Соседке так понравилось, а она ведь из семьи испанцев, там больше готовят из риса.
– Почему она переехала в Рио?
– Она уехала из Аргентины во времена Исабелиты и “Тройного А”, когда пошла эта кампания против психоаналитиков, мол, все они из левых. Она-то не психоаналитик, у нее диплом психолога.
– Этого я никогда не понимала, раньше таких дипломов не было.
– Когда я училась, не было такой специальности, а то бы я выбрала ее. Надо было пройти всю медицину, а потом специализироваться в психиатрии.
– Да, это я помню, Люси.
– Вот, а потом ввели специальность “психология”, изучать медицину стало не обязательно, отсюда и пошли все эти шарлатанки, да простит меня бедняжка Сильвия, ведь она со мной всегда так любезна.
– А о психоаналитиках-женщинах ты ни словом не обмолвилась.
– Понимаешь, в дипломе писали “психолог”, психиатр звучало слегка старомодно, а те, кто изучал медицину, окрестили себя психоаналитиками, по словам этой самой Сильвии. Как-то так.
– Вроде поняла. Значит, психиатры – это те, кто сначала изучал медицину, психологи же не изучали ничего. А психоаналитики – не мытьем так катаньем присвоили себе это звание.
– Приблизительно так.
– Видишь, что-то я понимаю? Хотя объясняешь ты не ахти… Только вот память начинает подводить, но, если мне хорошенько объяснить, я пойму.
– Просто у тебя слух отличный. А я, если два-три человека говорят одновременно, уже не понимаю.
– Зря ты сердишься на сына, когда он тебя поправляет, Люси.
– Почему?
– Потому что ты можешь ляпнуть наобум, не дослышав, отвечаешь, как Бог на душу положит, наугад, как придется.
– Знаешь, Нидия, когда дети становятся родителями, по-моему, это очень плохо.
– Бедный мальчик, до сих пор беспокоится, поправляет тебя.
– Знаешь, Нидия, я не собираюсь взвешивать, что сказать тому или другому, говорю, как есть, и баста.
– Ладно, не сердись, расскажи про соседку, почему она уехала из Аргентины?
– Я же тебе сказала, из-за угроз “ААА”, помнишь? “Тройной А”.
– Как не помнить…
– Ты ж говоришь, у тебя дырявая память. Видишь, тоже не любишь, когда тебя поправляют. В общем, она уехала, потому что однажды ночью позвонили и сказали, чтобы убиралась из страны в двадцать четыре часа, а то убьют.
– У Эмильсен была подруга, ей тоже пришлось уехать. Но та преподавала на факультете.
– Пол-Аргентины вынудили уехать. Короче, она оставила сына у бывшего мужа, они уже жили врозь, а, когда закончился учебный год, послала за ним. И он остался с ней в Мексике – мальчик. Мальчику очень понравилась Мексика, всегда говорил, что хочет там жить.
– Я так и не съездила. Собирались туда с бедной Бланки-той, но жизнь отпустила ей мало времени, бедняжка, добрая душа.
– Нидия, что мы все о мертвых? Вот невеселый возраст.
– Не ной, Люси, прошу тебя, не жалуйся.
– Ты права. В общем, там она познакомилась с этим человеком, жутко в него влюбилась, а потом ей пришлось переехать из Мехико сюда, так плохо она переносила высоту. И теперь живет здесь уже много лет.
– А тип, который так ее любил, не поехал с ней? Почему?
– Нет, это она его сильно любила, он вроде сначала ее любил, а потом нет.
– Вот она и стала страдать от высоты. Я не психолог, и то понимаю. Когда я видела, что Эмильсен лучше, у меня и давление улучшалось; поистине, все хвори от печали. Но продолжай, что там дальше?
– В общем, несколько месяцев назад она познакомилась в клинике с этим другим мужчиной, поразительно похожим на того, из Мексики. Однако ей и в голову не приходило, что она снова с ним столкнется, ну с этим, который здешний. И в один прекрасный день идет она в аргентинское консульство выправить бумаги и встречает его. Приветствует по-испански, а он смеется, он же не аргентинец. Просто в этой клинике раньше работал очень известный доктор, аргентинский профессор, и он привел туда много клиентов из наших. Из аргентинской колонии. Он был очень пожилой и, как ты догадываешься, уже умер. Ну ладно, в общем, там, в консульстве, она встретила этого и, думая, что он аргентинец, спросила по-испански, как поживает его жена. Они ведь раньше никогда не разговаривали. И жена тоже оказалась бразильянкой.
– А он, что делал в консульстве?
– Что-то оформлял для клиента. Явно судьба. По ее словам, человек этот – красавец каких мало, в ее вкусе. Показала фото, но мне он не понравился, сильно лысый и довольно полный. Она говорит, ей такие нравились всегда, именно с такой внешностью, домашние, без лоска, и совсем не важно, говорит, что у него брюшко.
– И чем он похож на того?
– Не спеши. Понять это ей было непросто. Много времени заняло.
– Но чем похож-то?
– Взглядом. Тот же взгляд. Глаза черные, немного детские, чуть пугливые, смотрит все больше в сторону.
– Взгляд человека, говорящего неправду.
– Нет-нет. Она говорит, взгляд человека, который нуждается в защите, как ребенок, потерявший мать. Я ей сказала: только у детей, особенно у мальчиков, есть что-то такое во взгляде, когда они маленькие, лет до двенадцати-тринадцати, потом это проходит, и тогда уже не тянет их потискать, прижать покрепче, почти сдавить, они уже не такие нежненькие, как раньше.
– Девочки другие, ты права. Или не знаю, может, это только Эмильсен всегда казалась взрослой. Одного я не выносила, даже злилась страшно – когда она не могла спокойно посидеть в кино. Вечно ей то в туалет, то еще чего, не давала спокойно фильм посмотреть. Но это было единственное. Я с ней никогда хлопот не знала.
– А с моими детьми просто беда была, но в кино они сидели тихо.
– Продолжай. Там она спросила, как поживает его жена.
– Да, Нидия. Он ответил, что жена умерла. И они заговорили об этой болезни, о других людях, которые там лежали, она ведь тоже провела там пару недель, и до этого еще лежала какое-то время – то ложилась, то выписывалась, и была в курсе болезней целого этажа, клиника помещалась в трехэтажном доме, прежде принадлежавшем одной семье, так-то. Он принялся рассказывать, и они увлеклись беседой. По ее словам, в глаза он почти не смотрел, больше по сторонам, и она тоже стала отводить взгляд, так ей это действовало на нервы. И он напоминал ей другого, хотя она этого еще не сознавала, все спрашивала себя, как идиотка, почему всегда, с самого начала, этот человек привлекал ее внимание. В санатории она часто думала, что в этом человеке из коридора есть что-то необычное, очень привлекательное, но непонятное. А в консульстве он смотрел на людей, которые сновали туда-сюда с бумагами, и не глядел на нее, пока они разговаривали, и тогда она тоже перестала смотреть на него и вдруг почувствовала его взгляд. Он собрался с духом и посмотрел на нее, пока она ему что-то говорила, глядя в другую сторону. Она ощутила, как взгляд его скользит по ее лицу, волосам, губам, рукам, декольте. А когда она решилась взглянуть ему в глаза, он их отвел. Она воспользовалась этим, чтобы рассмотреть его получше, и увидела, что на нем неглаженая сорочка. Не из тех, что постираешь, повесишь, и они разглаживаются сами, нет, а такая, что надо гладить, и она была неглаженая. И тут она не удержалась, слова сами сорвались с языка, и она предложила ему пойти выпить кофе внизу, в новом здании консульства, таком шикарном. Ведь она, по ее словам, женщина очень сдержанная, мол, это и плохо, что слишком сдержанная.
– Именно это мне в ней не нравится, теперь понятно. Она долго все обдумывает и не говорит ничего лишнего.
– Да уж, непосредственной ее не назовешь. Я сказала об этом сыну, а он говорит, что современные аргентинские женщины все такие, черствее, что ли. Это оттого, мол, что их матери были слишком словоохотливы, но неискренни, всех старались к себе расположить, такие вроде приветливые.
– То есть мы были фальшивые.
– Не фальшивые, но такие – профессионально приветливые, как говорит мой Кука. А эта из новой волны.
– Нет, “новая волна” говорят про молодых. Эта старше.
– Я хочу сказать – нового сорта. Но в тот день он ее потряс, что-то ей от него передалось, и она стала говорить не задумываясь – вроде предложения посидеть внизу. Он ответил, что у него с собой мало денег, а она сказала, что угощает, приглашает выпить чего-нибудь прохладительного, от кофе у нее перевозбуждение, кофе она пьет, только когда пациенты идут один за другим и глаза слипаются и клонит в сон. В общем, тип согласился.
– Люси, ты будто вчера родилась.
– А что? Думаешь, неправда?
– Думаю. Она постоянно с кем-нибудь крутит. Тебе рассказывает только эту историю, а у самой роман за романом.
– Почему ты всегда плохо думаешь о людях?
– Убеждена, что это так.
– Нет, Нидия, в таких вещах она откровенна. Постоянно твердит, что очень старомодна, это ее недостаток, и с мужчиной у нее ничего не будет, если она не увлечена им по-настоящему.
– Продолжай.
– Но если ты не веришь ее рассказам, зачем тебе знать дальше?
– А она уже совсем выздоровела?
– Говорит, что да.
– Выглядит она неплохо, значит, хоть это правда.
– Она рассказывала, что считала себя безнадежно больной, ей было так плохо, что казалось: это неизлечимо. И когда врач ее выписал, она словно впала в исступление, в эйфорию, ощутила жажду жизни, как никогда раньше. И, вернувшись к себе в квартиру, стала думать об этом человеке из санатория, и чем он так ее поразил. Единственное, говорит, о чем просила в те минуты, это о великом даре рисовальщика. Тогда она смогла бы набросать по памяти его портрет, изучить и понять, чем он так ее потряс.
– Скажи, как он выглядел на снимке?
– Не киногерой. Лысый, очень крепкий, широкие плечи. Полноват, хотя нет, не рыхлый толстяк, а такой, крепкий. Небольшой животик. Но из ее рассказов у меня сложилось о нем другое впечатление. Я представляла себе его высоким, здоровым, но совсем не толстым. По ее словам, все дело во взгляде и в голосе.
– Люси, ты была права, дождь начинается.
– У него взгляд человека очень чувствительного, его легко впечатлить, или поразить, да, именно это слово, и даже ранить. А голос, по ее словам, такой низкий, благозвучный, как когда разговаривают в церкви. И еще он будто слегка дрожит.
– Значит, в санатории она уже с ним говорила. Болела, а уловки свои не забывала.
– Нет. Она без конца твердит, что он понравился ей сразу, еще издали, непонятно почему, он ведь не из тех, на кого оглядываются. А после санатория она все думала о нем, правда, как о чем-то утраченном навсегда. Нет, не так. Думала, чем этот тип ей так понравился и почему не идет из головы. Еще не сообразила, что он похож на другого. Но, встретив его случайно в консульстве, уже почти догадалась. Словно ей дали карандаш, и она рисовала его, того, из Мексики, которого очень любила, рисовала, как самый искусный рисовальщик, и он оказался похож как две капли воды на этого, с тем же взглядом нежного создания, но без изъянов себя тогдашнего – белобрысого, тщедушного, заурядного. Этого так просто с ног не собьешь, как бы сильно ни дул жуткий ветер, ветер невзгод и печали.
Глава вторая
– Это она звонила, да?
– Да, шлет тебе привет. Спрашивала, как ты.
– Знала бы она, как я ее критикую, бедную… Чего только с языка не сорвется.
– Столько времени не звонила, так еще ни разу не было. Вроде собирается зайти, что-то расскажет или опять затянет старую песню. Ведь от него никаких вестей.
– Наверняка звонила проверить, может, я куда-то вышла и ты сейчас одна.
– Возможно. Видно, совсем зациклилась на этом.
– Но, Люси, сейчас ведь у нее прием пациентов?
– Да, но одна из записавшихся позвонила, сказала, что не сможет прийти. У нее выдалось сорок пять минут, и она решила ненадолго прилечь. Вот из этого окна видно ее окно. Гляди, там, наверху, на четвертом этаже окно спальни. Консультация выходит на другую сторону. Я всегда вижу ее жалюзи, подняты они или опущены, встала она в воскресенье рано или спит до двенадцати. Теперь жалюзи всегда подняты спозаранку, ей и с утра не спится, и по вечерам она колобродит допоздна, когда не работает. Из-за нервов.
– Но со здоровьем все нормально, она ничего не говорила?
– Нет, здоровье в порядке. Просто она головой много работает. Человек она, по-моему, неплохой, оттого у нее столько пациентов, людям она умеет помогать, всерьез вникает. Думала, и этому человеку сумеет помочь. Ведь там внизу, в новом баре консульства, она пережила особенные минуты. В Рио не принято сидеть в барах, здесь скорее пропустят стаканчик на ходу, у стойки, и в новом баре этого шикарного здания почти никогда никого не бывает. Дивная тишина, свежий ветерок, никто не снует взад-вперед, как в адской суете консульства. И он уже не мог отводить взгляд, да и она тоже, они ведь сидели за чудным столиком.
– Снаружи или внутри, как в кафе Буэнос-Айреса?
– В Буэнос-Айресе есть кафе и со столиками на тротуаре. Мне здесь этого не хватает – чтобы бар на каждом шагу и можно было посидеть.
– Люси, наконец ты хоть что-то признаешь за Буэнос-Айресом. Тебя послушать, так на свете ничего, кроме Рио-де-Жанейро, не существует.
– Не преувеличивай, Нидия. Просто Буэнос-Айрес навевает тяжелые воспоминания. Подумай, у меня там был роскошный дом, и я его потеряла. Ты такого не пережила – потерять дом и вообще все до последнего сентаво.
– Многие всё потеряли в те годы.
– Но иностранцы от Буэнос-Айреса в восторге. Им особенно по душе, что столько кафе, где можно посидеть. Сиди хоть часами за чашечкой кофе, и официант слова не скажет, мол, пора освободить столик или заказать что-то еще. Такой обычай только там – часами сидеть, разговаривать.
– Помнишь, сколько в Италии стоило посидеть в кафе? Роскошь несусветная.
– Эту нашу привычку мы унаследовали от Испании. Они всю жизнь проводят за разговорами, непонятно, откуда в стране такой прогресс, если они только и делают, что болтают.
– Своди меня как-нибудь в кафе, я в Рио ни одного не знаю.
– Свожу, но это не то. У них там больше пиво пьют, и кругом все молодежь, либо одинокие мужчины. А женщины туда не ходят, и гвалт стоит жуткий. Рио не для пожилых, сама видела – на пляже мы с тобой единственные.
– А куда деваются старики?
– Откуда я знаю… По домам сидят, Нидия, взаперти. Видно, думают, что я ненормальная – целый день на улице.
– Ах, Люси, будь ты целый день на улице, глядишь, и меня сводила бы подышать воздухом. А тут, внутри, я больше терзаюсь. Мне так кажется.
– Нидия, в хорошую погоду я каждое утро вожу тебя на пляж, но выходить два раза в день мне утомительно. А ты неугомонная.
– Эта девушка, по-моему, неважно выглядит, не то что прежде. Сегодня утром, на улице, она мне не понравилась. Надо надеяться, что болезнь не вернется.
– Наверное, просто плохо спит. Зря она так обольщалась.
– Но откуда эти невероятные иллюзии? Он-то, что ей обещал?
– Нидия, они поначалу так поладили, что казалось, все складывается удачно. Тогда, в баре, он рассказал ей о работе, о детях.
– Люси, как ты думаешь, мой зять скоро женится?
– Знаешь, Нидия, чем больше человека любишь, тем больше страдаешь и хочешь найти ему замену. Он обожал Эмильсен, и я искренне желаю, чтобы он поскорее нашел хорошую женщину, способную ему помочь. Ему нет еще и пятидесяти. Помнишь, как в эти годы ощущается одиночество.
– Я в эти годы уже привыкла быть вдовой.
– Но у мужчин иначе, они не могут без женщин.
– Люси, этот человек был счастлив с женой? Что он рассказал этой?
– Что был в отчаянии. В первые дни почувствовал огромное облегчение оттого, что бедняжка жена больше не страдает, но теперь сходит с ума.
– А кто смотрит за детьми?
– Она так давно болела, что по части детей у него все было налажено. Подыскал пожилую сеньору, и она все делала по дому. Потом, дети уже не маленькие, дочке лет семнадцать или около того, она младшая. И вообще, они живут у его матери. Но эта моя соседка сразу сообразила, что он очень хороший человек, она в санатории видела, как он приносит работу с собой и корпит над ней, пока сидит с женой. Ее, конечно, заинтриговало, что за бумаги? И в баре он сообщил, что работает счетоводом, или бухгалтером, она это сказала по-португальски, специализируется по налогам. И он таскал в санаторий все свои бумаги, хотя уставал после целого дня бесконечных хлопот.
– Ты откуда знаешь?
– Эта моя соседка, бедная Сильвия, потом обо всем узнала. У него туговато с деньгами, приходится работать, сколько сил хватает. Представляешь, еще мать, и двое детей учатся. Он смог положить жену в эту клинику, потому что жена состояла в кассе взаимопомощи, ей полагалось как преподавательнице средней школы. В общем, сидят они тогда в баре, и он спрашивает Сильвию, не за тем ли она его туда позвала, чтобы заказать какую-нибудь работу. Она даже растерялась, ни с того ни с сего вдруг спросил такое. Он-то думал, что она еще в санатории знала, что он бухгалтер. А она только тут спросила, что у него за работа, он и рассказал. Она говорит, мол, нет, просто хотела побеседовать, узнать про его жизнь. Тут он вроде не выдержал ее взгляда и отвел глаза. И стал объяснять, что жизнь у него самая что ни на есть обыкновенная и, что бы он ей ни рассказал, все будет скучно. Она еще больше растерялась и принялась рассказывать, что начинает жить заново, думала, никогда не поправится, а теперь решила стать гораздо общительнее, чем раньше, и хотела с ним поговорить, думала, ему тоже хочется с ней чем-то поделиться. Такое говорят, когда скрывают правду.
– Какую правду, Люси?
– Ну, помнишь, когда ты молода, пышешь здоровьем, хочется подойти к человеку, который тебе нравится. Тип ей понравился, и баста, пойди угадай причину, но ее подмывало побольше разузнать о нем, кто он, что любит. Она сказала, что, выздоровев, пообещала себе стать более открытой, не замыкаться по-глупому, жить иначе. Но, понятно, скрыла, что заговорить решила не с кем попало, не с противной тощей секретаршей из консульства, а подкатила к нему. Что-то в нем ее привлекло. Из стольких мужчин, прошедших мимо с момента ее выздоровления, она выбрала его. По ее словам, он на все отвечал, вел себя вежливо, но как-то заторможенно. Так бывает заторможен еще не совсем проснувшийся человек, полусонный, рано утром. Он разговаривал с ней, но что-то в нем еще не пробудилось, она это чувствовала. И она снова стала расспрашивать о его жизни. И жизнь его оказалась очень печальной, социальная страховка жены не покрывала всех расходов по болезни. Он убедил жену, что страховки хватает на оплату клиники с отдельной палатой для нее и очень хорошим уходом, но это было не так. Он влез в долги и теперь должен платить. А суток не хватает, чтобы переделать все дела, чем больше клиентов, тем лучше, но в сутках всего двадцать четыре часа. А в консульстве он хлопотал по делу, что-то мудреное, по налоговым соглашениям между двумя странами, для клиента-толстосума, не желающего платить в казну. Вот и вся его жизнь, работа с утра до вечера, возвращение домой, там, слава богу, все в порядке, у матери еще есть силы понемногу за всем присматривать.
– Но матери кто-то помогает, есть прислуга в доме или нет?
– Нет, та пожилая сеньора приходит ежедневно, но только до вечера, оставляет детям готовый ужин. Мать вечером моет посуду. Он застает все в полном порядке. Сильвия вообразила, как грустно ему бывает приходить домой, и заговорила об этом. И тут его понесло. Мать целый день смотрит телевизор, и в десять вечера у нее уже слипаются глаза. Он просит ее вставать попозже, тогда вечером ее не тянуло бы в сон и они могли бы поговорить. Но сама знаешь, как в таком возрасте не спится по утрам, в ранний час. А если мать выпьет кофе, то ночью страдает от бессонницы, глаз не смыкает, что ж ей, бедняжке, делать?
– Та еще ей не свекровь, а эта уже плохо о ней говорит, думаешь, правду рассказывает? Не очень-то я ей верю.
– А какая ей выгода рассказывать неправду? Он принимает душ, и усталость уходит, особенно эта тяжесть в голове, и тут ему хочется, чтобы мать рассказала о детях – как они провели день. А мамашу не оторвать от восьмичасового сериала, а как закончится эта гадость, сын просит, чтобы она смотрела еще и последние известия и затем рассказывала ему новости. А мать слушает новости уже усталая и ничего не запоминает, карга расслабленная, нельзя так себя запускать! Запустишь себя – пиши пропало. Нидия, ты ни за что не бросай читать газету и слушать новости.
– Да, это правда, я в Аргентине всегда смотрю их по телевизору, привыкла еще с того времени, когда Пепе был жив и слушал новости по радио.
– Человек надевает пижаму, за весь день не было времени ни о чем подумать в беготне по центру Рио, от офиса к офису, а к концу дня ему даже словом не с кем перемолвиться. Главное для него – узнать, что делали дети, жена сообщала ему все подробности. И однажды он с мамашей поговорил серьезно, мол, не порть она глаза у телевизора, к его возвращению была бы бодрее, и вообще продаст он телевизор. И мать расплакалась. Он чуть не умер от раскаяния. И заметил, что бедная мать очень сдала и уже не тянет, значит, он сам должен быть сильным и держаться. И пока он ест, мать ему что-то рассказывает, но уже до смерти усталая, а он, по словам этой Сильвии…
– Почему ты все время говоришь “эта Сильвия”?
– Есть другая, из Копакабаны, журналистка, ты ее еще не знаешь, тоже аргентинка. И тут, к счастью, он чувствует, что страшно устал, не перед ужином, а потом, на полный желудок, его одолевает жуткая усталость, и бывают дни, когда он засыпает раньше матери. Но в другие дни нет, особенно по субботам, когда не встает так рано. По субботам, когда жена еще не болела и если сон его не одолевал, они старались посмотреть какой-нибудь фильм по телевизору, только реклама надоедала, но во время заставок жена успевала что-то с ним обсудить. А теперь– ничего. Они спорили, жена утверждала, что, когда смотришь телевизор, лучше не гасить весь свет, так меньше портится зрение, она в одной статье читала. А он нет, предпочитал сидеть в полной темноте, как в кино. Он рассказал этой Сильвии все в мельчайших подробностях, они ведь с женой ладили, но счастливы в полной мере не были.
– Когда он стал критиковать жену? В баре консульства?
– Не сбивай меня. Теперь-то он может гасить весь свет сколько угодно, но раньше, когда начиналась реклама, она сидела рядом, с зажженным светом – в этом она упорствовала. А он всегда просил ее приодеться вечером к его приходу, и вот начинается реклама, а жена ходит, как чумичка, и он говорит, что она смахивает на служанку, а она, может, делала так нарочно, ведь стоило ей немного привести себя в порядок, он сразу замечал и не сводил с нее глаз во время рекламы. Он как-то купил ей платье подороже, надень рождения, и она его приберегала, надевала, только когда хотела произвести впечатление.
Но больше всего ему нравилось одно платье, оно ей очень шло, он заказал его приятелю, ездившему в Нью-Йорк, но для матери, на ее семидесятилетие, и, когда платье привезли, оно ей оказалось мало и досталось жене, ясное дело. И вроде в этом платье она преображалась, так оно ей шло, в цветочках, бело-зеленое. Но его она надевала редко.