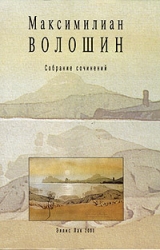
Текст книги "Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков"
Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
IX
«Боярыня Морозова»
«…А то раз ворону на снегу увидал… Сидит ворона на снегу и крыло отставила, черным пятном на белом сидит. Так вот эту ворону я много лет забыть не мог. Закроешь глаза – ворона на снегу сидит. Потом „Боярыню Морозову“ написал».
Этими словами Суриков еще раз приоткрывает психологические тайники своих замыслов, дает нам в руку зерно, из которого расцветает композиция.
«Стрельцы» пошли от пламенника свечи, горящей днем на фоне белой рубахи. «Меншиков» – от низкой избы, в которой «мне» скучно, и кто-то безвинно гибнет рядом. «Морозова» – из трагического черного пятна вороны с отставленным крылом на белом фоне.
«Боярыня Морозова» была задумана еще раньше «Меншикова», сейчас же после «Стрельцов». Первый эскиз ее был сделан еще в 1881 году, но к настоящей работе Суриков приступил только в 84-м.
Уже в эскизе 81-го года42 вся композиция и устремление сил установлены. Только общий фон и тон картины иные. Даны мглистая московская оттепель и Кремлевские стены в глубине. Шутовской характер поездки подчеркнут погремушками, которыми потрясает ведущий лошадь. Сама боярыня Морозова пока только черное пятно, без экстатического жеста. Но почти все основные персонажи толпы уже налицо. Слева бежит мальчишка, справа идет женщина и стоит на коленях старуха.
Карандашный эскиз 84-го года вытягивается в длину и дополняется рядом фигур, которые в первом эскизе не включались в пределы рамы. Он любопытен тем, что в нем все персонажи, с одной стороны, откровенно современны, а с другой – расставлены почти без жестов. Очевидно, художнику хотелось проверить общее движение задуманной композиции, независимо от индивидуальных движений отдельных лиц.
Любопытно, как Суриков геометрически разрешил поставленную себе задачу.
Ему надо было передать движение, уходящее в глубину картины, дать ощущение того, что Морозову «везут».
«Для „Морозовой“ я много раз пришивал холст, – говорил он, – не идет у нее лошадь, да и только. Наконец прибавил последний кусок – и лошадь пошла. Я ее ведь на третьем холсте написал. Первый-то был совсем мал, а тот я из Парижа выписал».
Конечно, тут вопрос был не столько в величине, сколько в удлиненном формате холста. Величина являлась важной только потому, что центральная фигура была заранее данной величиной. Надо было узнать, до каких пределов холст должен быть вытянут.
Если мы разделим всю композицию по диагонали, то заметим, что спина лошади и правый борт розвальней идут по диагонали от правого нижнего к левому верхнему углу, а левая оглобля с левым бортом саней образуют как бы перспективную линию удаления, сходящуюся с первой на куполе церквей. В этом конусе, составляющем основной клин движения, пересекающий наискось всё полотно, вписаны вплотную розвальни, фигура Морозовой, лошадь и стража с алебардами, идущая впереди. Из него подымается только кисть правой руки с двуперстным знаменьем, и, конечно, не случайно, потому что это выводит ее из общего потока движения и сосредотачивает на ней внимание как на основном символе совершающегося события.
Если же от середины купола, в котором сходятся линии, опустим перпендикуляр, то в этот соседний конус вместится как раз фигура мальчишки, бегущего за санями.
Таким образом определяется поток движения, уходящего в глубину картины, и достигается необходимая иллюзия удаления, дополненная еще и тем, что точка схождения этого конуса движения находится значительно выше линии горизонта.
Толпа же слева и справа образует жидкую статическую массу, разрезаемую этим конусом, и по ней проходят и перекрещиваются, как волны, следующие за кормой ладьи, – волны впечатления, оставляемые совершающимся событием. Таким образом, ясно, что вопрос о величине холста сводился к вопросу о необходимой массе толпы. Мы можем судить по обоим эскизам, что вначале она была слишком мала, и потому не получалось впечатления рассекаемой человеческой массы; но опасно было и слишком увеличить ее, удлиняя холст, так как тогда фигура боярыни Морозовой рисковала уменьшиться, затеряться в толпе. Необходимо было найти ту точную меру, при которой голова боярыни доминировала над толпой, а толпа была бы достаточно велика. Тут выступал уже из-за вопроса о композиции вопрос о психологической напряженности самого лица.
О возникновении лица Морозовой я слыхал от Сурикова такой рассказ: «В типе боярыни Морозовой тут тетка одна моя – Авдотья Васильевна, что была за дядей Степаном Федоровичем Торгошиным, что стрельцом-то у меня с черной бородой. Она к старой вере стала склоняться. Мать моя, помню, всё возмущалась: что это у нее всё странники и богомолки… Она мне по типу Настасью Филипповну из Достоевского напоминала. В Третьяковке этот этюд, что я с нее написал.4'
Только я на картине сперва толпу написал, а ее после. И как ни начну ее лицо – толпа бьет. Очень трудно было лицо ее найти. Ведь сколько времени я его искал. Всё лицо мелко было – в толпе терялось.
В селе Преображенском на старообрядческом кладбище – ведь вот где ее нашел. Была у меня одна знакомая – старушка Степанида Варфоломеевна из старообрядок. Они в Медвежьем переулке жили, у них там молитвенный дом был. А потом их на Преображенское кладбище выселили. Там, в Преображенском, все меня знали. Даже старушки мне себя рисовать позволяли и девушки-начетчицы. Нравилось им, что я казак, а не курю.
И вот приехала к ним начетчица с Урала – Анастасия Михайловна. Я с нее написал в садике этюд в два часа.44 И как вставил ее в картину – она всех победила.
„Персты рук твоих тонкостны, а очи твои молниеносны… Кидаешься ты на врагов, как лев“. Это протопоп Аввакум сказал про Морозову. И больше про нее ничего нет».
Боярыне Морозовой в картине противопоставлена толпа.
Толпа как психологическое целое представляет одну из труднейших задач живописи, особенно если она берется не орнаментально и не чисто конструктивно. Еще труднее дать национальную психологию толпы в определенный патетический момент. Такие попытки в XIX веке чаще удавались в романе и в драме, чем в живописи. При этом надо прибавить, что русская толпа самая трудная из всех.
Западная толпа, особенно толпа латинская, проще. Она легче находит себе выражение в общем жесте, в общем чувстве. В ней есть единство порыва, обусловленное как общественной большой воспитанностью, так и традиционными правовыми руслами, заранее подготовленными в подсознании на все случаи жизни. Она охотно и дружно подчиняется опытному капельмейстеру, всегда являющемуся в нужный момент. Конфликты ее совести разрешаются гораздо проще благодаря громадному количеству выработанных историей моральных формул. Этот нравственный автоматизм очень облегчает ее внутренний рисунок.
Русская толпа сложнее, невыявленнее. Ее чувства глубже и разнообразнее, смутнее и противоречивее. Это толпа немых, не имеющих ни слова для своей мысли, ни жеста для своего чувства… Каждый остается мучительно замкнутым в лабиринте своей души. Нет упрощенной цельности чувства – нет готового, заранее предрешенного выхода, всё основано на дроблении взаимоотражений и сложных рефлексов.
Потому ее движения неуклюжи и страшны. Ее порывы более дики, ее проявления более бессмысленны, именно благодаря большей сложности нравственного чувства отдельных лиц.
Мы знаем эту психологию русской толпы и по Достоевскому, и по Толстому. Но в русской живописи единственным мастером, достойно разрешившим эту задачу, был Суриков.
В «Стрельцах» еще нет толпы в точном смысле. Есть род скомпонированных человеческих групп, занятых своим личным ужасом, ряд психологических гнезд, разделенных ожиданием смерти. Поэтому у художника и явилась необходимость связать всю композицию единым символическим знаком – зажженной свечою. Та же толпа, что лепится на заднем плане по ступеням Лобного места, в счет не идет. Она трактована обще и небрежно, почти случайно. Художнику было не до нее.
В «Боярыне Морозовой» Суриков подошел к изображению толпы непосредственно как к основной задаче. Он взял случайную, разношерстную уличную массу и проследил в ней психологические волны, рождаемые патетическим событием. В распределении толпы лежит строгий геометрический чертеж, без которого невозможна композиция.
Этот чертеж связан с ранее найденным нами «перспективным конусом удаления», по которому увозят Морозову.
Розвальни врезаются в густую человеческую массу и оставляют за собой, как быстро идущая ладья, две вспененные борозды, превращая равнодушное любопытство и глумливый смех, встречающие шествие, в волны потрясенного чувства.
Эти линии эмоциональных волн тоже сходятся перспективно, но не выше горизонта, на куполе церкви, куда упирается «конус удаления», а на горизонте, в той точке, что проходит через загривок лошади, потому что там приходится «нос» ладьи, рассекающей толпу. Из этой точки эмоциональные линии расходятся не прямо, как перспективные лучи, а дугообразно, как настоящие волны.
Толпа впереди, та, которая еще не увидала лица Морозовой, теснится с любопытством и грубо хохочет в ожидании позорного зрелища. Ее характеризуют четыре лица: возница и мальчишка справа, а слева купец и священник.
И бубенцы, и хворостина, которыми в первом варианте художник хотел подчеркнуть шутовской характер шествия, в картине сосредоточены в лице осклабившегося возницы. Ни он, ни Морозова не видят друг друга, но лица их перспективно противопоставлены одно другому как крайние контрасты света и тени. Это основная антитеза композиции.
Рядом с ним лицо по-детски неразумно смеющегося мальчишки en face[99]99
Изображенного спереди (фр.).
[Закрыть]. Он уже видит Морозову, но смех не успел сбежать с его лица, тогда как за ним вправо, откуда виднее профиль Морозовой, он уже заменился на некоторых лицах настороженностью, а на женских – испугом.
Слева же, откуда Морозова видна только со спины, скверно глумится священник, прислушиваясь одним ухом к речам острящего купца и обмениваясь взглядом с возницей.
Там, где розвальни прошли, картина толпы меняется органически. Рядом с бортами струи человеческой влаги захвачены непосредственным движением: слева бежит мальчишка, догоняя сани, а справа внизу стоит странница на коленях и сидит юродивый. Оба они физически неподвижны, но в них дано высшее напряжение чувства, следующего за Морозовой. Они целиком устремлены вслед ей в своем благословении. Таким образом эти две ближайшие борозды равновесятся: высшему напряжению движения слева соответствует высшее напряжение активного чувства справа.
В крыльях водного следа, оставляемого идущей ладьей, можно всегда различить несколько рядов расходящихся и постепенно убывающих волн. Так и здесь. Только левое крыло движения, взятое в ракурсе, естественно короче и менее разработано. Вся видимая толпа находится в правом крыле.
Вторая волна, состоящая почти сплошь из женских фигур, представляет собой нарастание глубокого, замолченного, с собою самим борющегося и себе противоречащего чувства, которое усложняется по мере ее отдаления.
Она начинается фигурой мальчика, идущего рядом с санями и глядящего на Морозову испуганно-удивленными, широко открытыми глазами. Это тот же самый мальчик, который на два шага впереди смеется рядом с возницей; теперь он увидал, и мы видим следующее выражение его лица.
Затем эта борозда развертывается в таком порядке: боярыня со сложенными руками, идущая за мальчиком, подпершаяся горестно старуха, молодая женщина, готовая разрыдаться, склонившаяся боярышня, монашка, выглядывающая из-за ее плеча, и странник с посохом.
В последних фигурах невыявленная душевная борьба доходит до высшей точки.
После лица самой Морозовой лицо молодой монахини – самое яркое горение духа во всей картине. Из всей толпы, глядящей на Морозову, она одна смотрит ей в глаза. Между ними бежит такой же магнетический ток, как между глазами Петра и рыжего стрельца в «Утре стрелецких казней».
В крупной и мрачной фигуре странника, в его руке, сжимающей посох, трагический душевный разлад достигает апогея.
На левом крыле этой борозде соответствует окаменевший от боли профиль боярского мальчика постарше и ряд теснящихся под самой рамой женских фигур, тоже в профиль. Вслед за ними (так как в эту сторону Морозова обращена спиной) начинается сразу гогочущая темная толпа, не прошедшая еще через огненное крещение ее лика, с глумящимся священником во главе.
Но на правом крыле развертывается еще третья борозда. Она сплошь мужская. Это растревоженная, но не преображенная влага недоверия, враждебности, гнева. Но ни смеха, ни глумления в ней уже нет. Она идет от смутного мужика в тулупе, через стрельца, видимого со спины, через крупного старика с седой бородой, неодобряющего черноглазого монаха, пристально и гневно вглядывающегося из-под руки старика, и заканчивается безразлично глумливым и презрительным лицом другого монаха и равнодушно любопытствующим бронзовым лицом татарина в тюбетейке.
Наконец, выше третьей волны, как бы пена от ее удара об стены церкви, лепятся фигуры двух мальчишек, взобравшихся на карниз, чтобы лучше рассмотреть. Еще выше их, в самом правом верхнем углу – икона Божией Матери, на которую устремлены глаза Морозовой.
Графически схему всей композиции можно представить так:

Было бы рискованно утверждать, что Суриков сознательно нашел и провел в картине этот геометрический чертеж. Он образовался и определился постепенно путем перестановок фигур, путем долгого притирания их друг к другу, путем подшивания новых кусков холста, как мы видели. Сурикову не свойствен был отвлеченный замысел, он исходил из конкретного. Он шел от живого человеческого лица.
У каждого из лиц, составляющих толпу «Боярыни Морозовой», есть своя интимная история. Некоторые из них нам довелось записать со слов самого художника.
«Священника в толпе помните? Это целый тип у меня создан. Это когда меня из Бузима учиться посылали, раз я с дьячком ехал, с Варсонофием. Мне восемь лет было. У него тут косички подвязаны. Въезжаем мы в село Погорелое. Он говорит:
– Ты, Вася, подержи лошадь. Я зайду в Капернаум. Купил он себе зеленый штоф и там уже клюкнул.
– Ну, – говорит, – Вася, ты правь.
Я дорогу знал. А он сел на грядку, ноги свесил. Отопьет из штофа и на свет посмотрит. Точно вот у Пушкина в „Сцене в корчме“. Как он русский народ-то знал!
И песню дьячок Варсонофий пел. Я и слова все до сих пор помню:
Монах снова испугался
(так и начиналась),
В свою келью отправлялся –
Ризу надевал.
Большу книгу в руки брал,
Очки поправлял.
Бросил книгу и очки,
Разорвал ризу в клочки,
Сам пошел плясать.
Наплясался до доводи,
Захотел он доброй воли,
Вышел на крыльцо.
Стукнул, брякнул во кольцо –
Ворон-конь стоит.
На коня монах садился,
Под монахом конь бодрился
В зеленых лугах.
Во зеленых во лужочках
Ходят девицы кружочком.
Девиц не нашел.
К честной девушке зашел.
Тут и лягу спать.
На полу монах ложился –
На перинке очутился:
Видит, что беда.
Что она ни вынимала,
Всё монаху было мало.
Съел корову, да быка,
Да ребенка – третьяка…
А дальше не помню, всё у него тут путалось. Так всю дорогу пел. Да в штоф всё смотрел. Не закусывая пил. Всю ночь так ехали. А дорога опасная: горные спуски. А утром в городе на нас люди смотрят – смеются.
…А юродивого я на толкучке нашел – огурцами он там торговал. Вижу – он. Такой череп у этих людей бывает. Я говорю: идем. Еле уговорил его. Идет он за мной – всё через тумбы перескакивает. Я оглядываюсь, а он качает головой – ничего, мол, не обману. В начале зимы было. Снег талый. Я его на снегу так и писал. Водки ему дал и водкой ему ноги натер. Алкоголики ведь они все. Он в одной холщовой рубахе босиком у меня на снегу сидел. Ноги у него даже посинели. Я ему три рубля дал. Это для него большие деньги были. А он первым долгом лихача за рубль семьдесят копеек нанял. Вот какой человек был. Икона у меня была нарисована. Так он всё на нее крестился – говорил:
– Теперь я всей толкучке расскажу, какие иконы бывают.
Так на снегу его и писал. На снегу писать – всё иное получается. Вон пишут на снегу силуэтами… А на снегу всё пропитано светом. Всё в рефлексах лиловых и розовых. Вон как одежда боярыни Морозовой, верхняя, черная, и рубахи в толпе. Всё пленэр. Я с 1878 года уже пленэристом стал. „Стрельцов“ тоже на воздухе писал. Всё с натуры писал: и сани, и дровни. Мы на Долгоруковской – тогда ее еще Новой Слободкой называли – жили,43 у Подвисков, в доме Збук. Там в переулке рядом, что на Миусское поле шел, всегда были глубокие сугробы и ухабы и розвальней много. Я всё за розвальнями ходил – смотрел, как они за собой след оставляют, на раскатах особенно.
Как снег глубокий выпадет, попросишь во дворе на розвальнях проехать, чтобы снег развалило. А потом начнешь колею писать. И чувствуешь здесь всю бедность красок.
И переулки я всё искал по Москве: смотрел, крыши где высокие. А церковь-то, что в глубине картины, – это Николы, что на Долгоруковской.46
Самую картину я начал в 1885 году писать. В Мытищах жил – последняя избушка с краю. И тут я еще штрихи ловил. Помните посох-то у странника в руках? Это богомолка одна проходила мимо с этим посохом. Я схватил акварель да за ней. А она уже отошла. Кричу ей:
– Бабушка, бабушка! Дай посох…
А она и посох-то бросила – думала, разбойник я.
Девушку-монахиню в толпе – это я со Сперанской писал, она тогда в монашки готовилась. А те, что кланяются, – всё старообрядочки с Преображенского.
В восемьдесят седьмом году я „Морозову“ выставлял».
X
Перелом (1888–1891)
«Боярыня Морозова» была высшей точкой суриковского творчества. После нее начинается медленное склонение.
Трудно представить себе, в какую сторону направилось бы творчество после «Морозовой», если бы в его жизни не случилось событие, перевернувшее весь внутренний строй его творчества.
Через год после окончания «Морозовой», седьмого апреля 1888 года умерла его жена. Удар этот не был неожиданным, как мы можем видеть по этюдам к Марии Меншиковой. Но это нисколько не уменьшает ни его силы, ни его значения.
У нас нет ни документов, ни признаний самого Сурикова о том, как он пережил этот удар. Но ясно, что с ее смерти исчезла та интимная, замкнутая творческая атмосфера, в которой созревали и выявились и «Стрельцы», и «Меншиков», и «Боярыня Морозова».
Из этого сосредоточенного внутреннего мира он был снова кинут во внешний мир. Но он не сразу покинул свой опустевший дом. Он остался еще в его осиротевших комнатах, чтобы отдать последнюю творческую дань прошлому.
Он написал «Исцеление слепорожденного».47
Эта картина так же выпадает из цикла суриковских картин, как и «Римский карнавал». Ни как живопись, ни как композиция она не представляет для нас интереса. И жест, и выражение лица прозревающего слепого, в котором можно узнать «юродивого» из «Морозовой», преувеличены, почти карикатурны. Фигуры, выглядывающие сзади, безразличны и неинтересны. Жест и поза самого Христа случайны и невыразительны.
Она не была предназначена для публики.
«Я ее лично для себя написал», – говорил Суриков.
Но для биографа она представляет документ очень большого значения как страница интимного дневника души.
Лицо Христа невольно останавливает внимание необычным своим обликом и тою творческою волей, которая в него вложена.
Для художников, задававшихся целью изобразить лик Христов, было естественно искать выявления собственного сокровенного «я», воплощения внутреннего человека, в них скрытого.
Мы далеки от того, чтобы искать в суриковском Христе глубокого религиозного миросозерцания. Не таков был человек. Но всё его искусство есть «угадывание».
Он угадывал не только убедительные черты исторических эпох, но и глубочайшие законы искусства, проходя с закрытыми глазами теми узкими тропами, с которых срывались зрячие. В данном случае он угадал лик Христов большой религиозной глубины.
Этот лик, как лицо Марии Меншиковой, не воспоминание крови, а исповедь, и здесь он шел не от родовой памяти, а от личной драмы. Они связаны. Там была совершающаяся на глазах драма безвинной гибели близкого человека. Здесь – желание угадать лик той судьбы, которая вела ее этим путем, попытка понять и оправдать эту судьбу.
Его Христос – неизбежный, налагающий, кротко неволящий, странно не соответствует совершаемому им чуду исцеления слепорожденного. В нем нет ни милосердия, ни жалости. Он весь – кроткая, тихая, но неумолимая и неотвратимая воля.
Вглядываясь в его лицо, мы замечаем, что воля эта сосредоточена в эллипсисе, образуемом разрезом глаз и надбровными дугами. Особенно странны самые глаза – тяжелые, темные, без блеска, не отражающие света, целиком устремленные внутрь, нависшие, как тихая, переполненная темной дождевой влагой туча. От них веет молчанием.
В реальной жизни такой взгляд можно видеть у людей, достигших большой глубины созерцательного сосредоточия религиозной мысли.
Но можно с уверенностью сказать, что Суриков не подсмотрел этот взгляд в действительности, но угадал его внутри себя.
Эта картина является ключом, замыкающим цикл «Стрельцов», «Меншикова» и «Морозовой».
В ней он выявил образ той судьбы, которая вела его героев к трагической гибели.
Творческая судьба вела Сурикова таким путем: с ранних лет она поставила его свидетелем драматических положений, жестоких форм жизни и сильных характеров, заботливо охраняя его при этот от каких бы то ни было ударов, направленных против него лично. Когда же он созрел до художественного творчества, она позаботилась найти для него такой драматический конфликт, который довел бы его душевное напряжение до высшей точки горения.
Характер художника был слишком крепок, целен и закален, чтобы не справиться быстро со всяким личным испытанием. Поэтому он – вольный сибирский казак, древнерусский богатырь – был уязвлен в той области души, в которой он был неопытен и бессилен, – в области сердца. Он был уязвлен жалостью.
Судьба выбрала этот душевный надрыв так, что заставила его страдать не в себе, а в своей любви к любимому человеку, причем никакого действенного выхода ему не дала, а поставила горестным и безвольным свидетелем гибели другого. Этим для душевного отчаяния открывался только один выход – в творчестве.
Только острой болью могли быть вскрыты в такой натуре глубокие подсознательные тайники души и выплавлены художественные прозрения, раскрытые в трилогии «Морозовой», «Стрельцов» и «Меншикова».
Но как только уголь этой жалости, неустанно растравлявший его сердце всю первую половину творчества, угас, и он творчески осознал его в лике своего Христа, как здоровая, преисполненная стихийных сил натура мгновенно затянула все душевные раны, и последовал буйный взрыв жизнерадостности.
Суриков сам говорил об этот кризисе такими словами:
«В том же году в Сибирь уехал. Встряхнулся. И тогда от драм к большой жизнерадостности перешел. У меня всегда такие скачки к жизнерадостности бывали. К воспоминаниям детства вернулся. И написал тогда бытовую картину „Городок берут“».
Задумывая «Исцеление слепорожденного», Суриков под прозревающим, очевидно, подразумевал самого себя. Это была чисто литературная идея.
В жизни всё произошло наоборот. Он не прозрел, а ослеп. Правда, он с новой яркостью и выпуклостью увидал ясный и крепкий день жизни, но совершенно утратил видение тех ночных тайн, которые он переживал до этого в надрывающих творческих снах. В нем угас провидец и остался только художник. Лично как живописец он еще продолжает расти и крепнуть, но художественная ценность его картин идет на убыль.
Смерть жены, воспринятая им как тяжелый удар, на самом деле была освобождением: судьба взяла у него необходимую ей дань творческой сверхсильной и сверхсознательной работы и теперь давала отпускную.
Он вернулся в Сибирь, чтобы связать концы порванных нитей своей жизни и найти утраченного себя.
Проведенный через ряд родовых воспоминаний крови, он приходил к личным воспоминаниям детства, к тому именно воспоминанию, про которое он сам любил рассказывать как про самое сильное из первых своих детских впечатлений: как он с матерью ездил в Торгошинскую станицу и видел на берегу Енисея, как «городок берут», – «и конь черный прямо мимо меня проскочил – верно, это он у меня в картине и остался».
С этого коня и пошла, очевидно, вся картина. На этюде к всаднику, разбивающему «городок», он еще белый. Но на картине он его сделал черным, большеголовым «тарапаном».
В «Городке» ясно можно проследить, с какою силой нахлынули на него все бодрые и удалецкие воспоминания детства и с какою страстью взялся он за разработку тех живописных задач, которые увлекали его во время писания его прежних картин.
Тут есть всё: и эффект черного пятна на белом снегу, и человеческие фигуры, насквозь просвеченные снежными рефлексами, и лица, освещенные снизу, точно огнем рампы, есть и сани, и розвальни с их деревянными переплетами, приводившие его в восторг, и расписные дуги, и валдайские колокольцы, и цветные валенки, и тулупы, и дохи, и меховые шапки, а главное – родные сибирские лица, цельные, крепкие, освещенные радостными улыбками, чуждые каким бы то ни было душевным драмам, раздвоениям и надрывам.
В «Исцелении слепорожденного» Суриков справил траурные поминки и преодолел личную потерю; в «Снежном городке» он отпраздновал свое возвращение на родину. Эта картина – его «Детство и отрочество», и в ней явственно звучат те же интонации голоса, что и в рассказах его о своем детстве.








