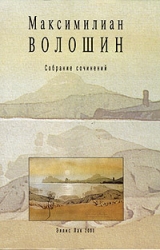
Текст книги "Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков"
Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
«Фикция „равенства“ стала реальностью в нашем костюме».
Так говорит Сизеран.31
В жизни нет ничего ужаснее осуществленных идеалов.
Самое понятие «идеала» глубоко противоречит понятию искусства. Это не парадокс.
В душе художника всегда живут два момента, жаждущие воплощения: воспоминание и идеал красоты.
Воспоминание – это основа всего, что есть ценного и важного в искусстве.32 Это реальность внешнего мира, прошедшая сквозь призму личности. Тут живая связь, здоровый корень, касающийся своим концом самых чистых и могучих источников жизни. Воспоминание всегда субъективно и оригинально.
Идеал красоты вырастает в нездоровых областях человеческой души, засоренных общими местами, чужими мыслями, моральными учениями, всякими общественными условностями. Идеал по своему смыслу есть нечто пригодное для всех, т. е. безличное, потому что он растет в противоположность воспоминанию в той области мыслей, которая составляет достояние всех.
Этим определяются и два отношения к искусству. Люди поверхностные, практические, чуждые искусству, не носящие в своей душе зерна мудрости, ищут в искусстве идеала и поучения. Они требуют, чтобы им изобразили жизнь так, как им хочется, чтобы она была.
Люди, любящие жизнь во всех ее проявлениях, понимающие, мудрые, ищут воспоминания.
Эпохи великих идеалов были всегда эпохами грубых и варварских форм жизни. В эти эпохи бывают яркие личности, но не бывает истинного индивидуализма. Личность проявляется скорее своей несдержанностью, чем своей силой. Истинные индивидуальности редко оставляют по себе имя. Они чаще целиком переливаются в свое произведение, дотла сгорая в нем, как это было с неведомыми гениями XIII века.
Художники XIX века выпустили из своих рук нити жизни. Они уходили в разные стороны, увлекаемые социальными идеалами века, и забывали, что они только до тех пор могут оставаться великими владыками жизни, пока они будут простыми ремесленниками, пока через их руки будет проходить весь внешний, материальный мир жизни. Свою власть они отдали в руки фабрики и иронией истории оказались подчиненными в изображении современной жизни вкусам портных.33
Современная одежда не могла не оказать глубоко растлевающего влияния на стыд тела.
В те времена, когда для того чтобы раздеться, было достаточно одного широкого движения руки, не могло существовать стыда тела. Стыд тела теперь не сводится ли почти целиком к стыду раздевания: к этому ряду унизительно-позорных мелких жестов вылезания из своего футляра?34
Художникам давно пора оставить абстрактные области «большого искусства» и начать делать искусство в жизни, искусство несравненно «большее» по силе той власти, которую окружающие вещи имеют над человеком.
Художник должен стать заклинателем вещей в современной обстановке.
Пророки и мстители
Предвестия Великой Революции
Я развернул книгу наугад, и мне раскрылась такая страница: «Весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны погибнуть, кроме некоторых весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали эти зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований.
Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать добром, что злом. Не знали, кого обвинять и кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии уже в походе вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех. Но кто и для чего зовет, никто не знал того, и все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что каждый предлагал свои мысли, свои поправки и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на какое-нибудь дело, клялись не расставаться – но тотчас начинали что-нибудь совершенно новое, иное, чем сейчас сами же предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибло.
Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые, избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса».1
Это последняя страница из «Преступления и наказания» – бред Раскольникова в Сибири. Я читал эту страницу много раз и раньше, но теперь мне казалось, что ее никогда раньше не было и она только что выросла в этой книге. Я читал ее другим, которые, я знал, любили эту книгу, и они тоже не могли вспомнить именно этой страницы. Очевидно, глаза наши до нынешних времен скользили по этим строкам, не видя их.
Только дыхание ужаса революции выявило их для нас, как прикосновение огня обнаруживает бледные буквы, написанные химическими чернилами на белом листе бумаги.
Оно было написано ровно сорок лет тому назад – это апокалипсическое видение, в котором уже есть всё, что совершается, и много того, чему еще суждено исполниться.
Души пророков похожи на темные анфилады подземных зал, в которых живет эхо голосов, звучащих неизвестно где, и шелесты шагов, идущих неизвестно откуда. Они могут быть близко, могут быть далеко. Предчувствие лишено перспективы. Никогда нельзя определить его направления, его близости.
Толща времени, подобно туману, делает предметы и события грандиознее и расплывчатее.
Поэтому часто бывает, что ураган, притаившийся на пути одного народа, для провидцев этого народа представляется событием мировым, а не национальным, и наступление частичной катастрофы кажется наступающим концом мира.
Наиболее яркий пример такого предчувствия – это всеобщее ожидание конца мира в третьем и четвертом веке христианской эры, которое разрешилось падением Римской империи.
С пророчеством Достоевского хочется сопоставить пророчество св. Киприана, писавшего в конце третьего века:
«Мир близится к концу. Это не старость, это признак надвигающейся смерти… Человек старится и умирает. Так же и мир должен умереть. Все знаки свидетельствуют о том, что земля близится ко времени своего распадения.
Зимою дождь не оживляет семян, лето не дает тепла, чтобы созреть плодам. Весна потеряла свое прежнее обаяние. Осень – свое плодородие. Мраморные каменоломни и золотые рудники истощаются, источники воды пересыхают.
Дети рождаются лысыми. Жизнь не кончается старостью, она начинается усталостью. Растет безлюдие. Земля без пахарей, на морях только изредка проходят корабли, нивы пустынны. И в нравах тот же упадок. Нет больше невинности, нет справедливости, нет дружбы. Уровень знаний понижается. Лучи солнца бледны и не дают тепла. Луна незаметно уменьшается и скоро исчезнет совершенно; деревья, которые радовали нас своей зеленью и плодами, засыхают. И не ждите, что бедствия, истязающие народы, уменьшатся. Они будут расти и множиться до дня последнего суда».2
Другой отец церкви, Лактанций, еще законченнее выражает то же настроение:
«Мир подходит к концу. Зло царит в мире. А между тем то, что теперь, это еще золотой век, сравнительно с тем, что будет: исчезнет всякий закон, всякая вера, всякий мир, всякий стыд, всякая правда.
Меч пройдет по миру и пожнет жатву. Имя Рима будет стерто с лица земли. Ужас меня охватывает, когда я говорю это, но я говорю, потому что так будет; снова власть вернется на Восток, Азия снова будет править, а Европа будет рабой.
И придут времена ужаса. И не будет таких, кому мила жизнь. Города будут разрушены до самого основания, огнем и мечом, землетрясениями, наводнениями… Земля не даст плодов своих человеку… Животные станут умирать».3
Лактанций заканчивает картину распадения мира пришествием Антихриста и трубой Архангела, призывающей всех на Страшный суд.
Слова Лактанция об Азии и новом порабощении Запада невольно вызывают на память пророческие слова Владимира Соловьева о том, что всемирная история внутренно окончилась. «Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов. Но содержание их, в существе дела, заранее известно».4
И еще поразительнее эти слова в его стихотворении «Панмонголизм», написанном осенью 1894 года.
Панмонголизм. Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предчувствием великой
Судьбины Божией полно.
Когда в растленной Византии
Остыл Божественный Алтарь
И отреклися от Мессии
Народ и князь, иерей и Царь,
Тогда поднялся от Востока
Народ безвестный и чужой,
И под ударом тяжким Рока
Во прах склонился Рим второй.
Судьбою древней Византии
Мы научиться не хотим,
И всё твердят льстецы России:
Ты третий Рим, ты третий Рим!
Ну что ж, орудий Божьей кары
Запас еще не истощен…
Готовит новые удары
Рой пробудившихся племен.
От вод Малайи до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен восставшего Китая
Собрали тьмы своих полков.
Как саранча, неисчислимы,
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы,
Идут на Север племена.
О, Русь, забудь былую славу –
Орел Двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.
Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть,
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.5
Сравнивая страницу Достоевского со словами Лактанция и св. Киприана, так близко подходящими друг к другу по стилю, замечаешь одну существенную разницу.
У всех троих есть яркое и вполне определенное чувство приближающейся катастрофы, но африканский ритор Лактанций говорит о моральном падении мира и о политическом торжестве Азии, совпадая в этом с Вл. Соловьевым, св. Киприан говорит о старости мира и с ужасом видит, что лучи солнца бледнеют и размеры луны уменьшаются, но оба они остаются в области физической природы, и Страшный суд, которого они ждут, кажется для нас теперь только отчетом, который греко-римская культура готовилась дать перед Всемирной Историей.
Между тем в словах Достоевского чувствуется приближение катастрофы иного рода, – катастрофы психологической, которая всё потрясение переносит из внешнего мира в душу человека.
«Обезьяна сошла с ума и стала человеком».6
Следующий день начнется, когда человек сойдет с ума и станет Богом.
В пророчестве Достоевского чувствуется именно эта катастрофа: новое крещение человечества огнем безумия, огнем св. Духа. Нынешнее человечество должно погибнуть в этом огне, и спасутся только те немногие, которые пройдут сквозь это безумие невредимыми – «чистые, избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю. Но никто и нигде не видел этих людей, никто не слыхал их слова и голоса».
У хилиастов7 третьего века конец мира, у Достоевского безумие с надеждой новой зари за гранью безумия.
Как сонное видение преувеличивает и преображает в грандиозную и трагическую картину случайное внешнее явление, дошедшее до мозга спящего, так душа, полная пророческими гулами и голосами, преображает первые признаки падения греко-римской культуры в дряхлость всего мира и в наступление Страшного суда, а приближение Великой Революции разоблачает тайны последнего и величайшего безумия человечества, которое, действительно, говоря словами Вл. Соловьева, «закончит магистраль Всемирной Истории».
Для того чтобы понять и разобрать пророчество раньше его осуществления, нужно не меньшее откровение, чем для того, чтобы написать его.
Только времена, надвигаясь и множа факты, дают ключ к пониманию смутных слов старых предвидений, опрозрачивая образы и выявляя понятия в невнятных рунах прошлого.
Нужно самому быть пророком для того, чтобы понять и принять пророчество до его исполнения. Пророчество Достоевского оставалось для нас невнятным, пока мы не ступили на самый порог ужаса.
Пророчества почти всегда бессознательны. Очень редко они бывают пророчествами знания, немного чаще встречаются пророчества глаза – видения, и на каждом шагу мы имеем дело с пророчествами чувства – так называемыми предчувствиями.
Пророчества глаза и пророчества знания совершенно не войдут в нашу тему, относясь по самому своему существу к другой области.
У человека есть две возможности бессознательного предчувствия: страх и желание.
Это два органа, два щупальца, которыми он осязает дорогу перед собою.
Мы имеем с ними дело во всех обстоятельствах обыденной жизни и потому не обращаем внимания на их сущность. Между тем все наши отношения с будущим исчерпываются этими двумя органами восприятия, по существу своему диаметрально противоположными.
Желание и страх являются двумя формами одного и того же чувства предвиденья и выражают наши различные отношения к наступающему.
Страх – это чувство пустоты, неизвестности – «horror vacui»[83]83
Ужас пустоты (лат.).
[Закрыть]. Желание – это чувство полноты.
Самое чувство в своем существе еще не познано нами. Мы знаем его только в его крайних проявлениях. В своем наиболее чистом виде мы можем наблюдать это чувство в моменты ожидания, когда весь организм бывает охвачен тем особенным нервным волнением, в котором нельзя отличить стихии страха от стихии желания.
Без сомнения, наше чувство будущего, подобное памяти – чувству прошлого, возникает именно в том промежуточном пространстве – между страхом и желанием. И оно уже есть в нас отчасти. Только для памяти мозг выработал себе двойную перспективу: хронологию и закон причинности, в то время как в области предвидения такого чувства еще нет.
* * *
В слове «Революция» соединяется много понятий, но когда мы называем Великую Революцию, то, кроме политического и социального переворота, мы всегда подразумеваем еще громадный духовный кризис, психологическое потрясение целой нации.
В жизни человека есть незыблемые моменты, неизменные жесты и слова, которые повторяются в каждой жизни с ненарушимым постоянством: смерть, любовь, самопожертвование.
И именно в эти моменты никто не видит и не чувствует их повторяемости: для каждого, переживающего их, они кажутся совершенно новыми, единственными, доселе никогда не бывавшими на земле.
Подобными моментами в жизни народов бывают Революции.
С неизменной последовательностью проходят они одни и те же стадии: идеальных порывов, правоустановлений и зверств – вечно повторяющие одну и ту же трагическую маску безумия и всегда захватывающие и новые для переживающих их.
Революции – эти биения кармического сердца – идут ритмическими скачками и представляют непрерывную пульсацию катастроф и мировых переворотов.
Духовный кризис наций, который является неизбежным бичом в руке каждой из Великих Революций, – это кризис идеи справедливости.
Идея справедливости – самая жестокая и самая цепкая из всех идей, овладевавших когда-либо человеческим мозгом.
Когда она вселяется в сердца и мутит взгляд человека, то люди начинают убивать друг друга.
Самые мягкие сердца она обращает в стальной клинок и самых чувствительных людей заставляет совершать зверства.
Она несет с собой моральное безумие, и Брут, приказывающий казнить своих сыновей, верит в то, что он совершает подвиг добродетели.
Кризисы идеи справедливости называются Великими Революциями.
Анатоль Франс говорит с горькой иронией:
«Робеспьер был оптимист и верил в добродетель. Государственные люди, обладающие характером подобного рода, приносят всяческое зло, на какое они способны.
Если уж браться управлять людьми, то не надо терять из виду, что они просто испорченные обезьяны. Только под этим условием можно стать человечным и добрым политическим деятелем.
Безумие революции было в том, что она хотела восстановить добродетель на земле.
А когда хотят сделать людей добрыми и мудрыми, терпимыми и благородными, то неизбежно приходят к желанию убить их всех. Робеспьер верил в добродетель: он создал Террор. Марат верил в справедливость; он требовал двухсот тысяч голов».8
Кабанэс в любопытной книге о революционных неврозах говорит:
«Голод создавал болезни. Но и зрелище голода создало болезнь, новую, свойственную только этому времени – „бешенство сострадания“. Человечество отчаянно взывало к бесчеловечью, к самой смерти – великому врачу, который, казалось, мог исцелить все болезни мира. Марат, которому постоянно делали кровопускания и который всюду видел только кровь, был неумолимым филантропом. Шалье – святой Террора, жестокость которого была вся в словах, но который носил в сердце невыразимую жалость ко всем страдающим, ужаснул мир пароксизмом своего бешенства».9
Человечество в своем совершенствовании должно пройти сквозь идею справедливости, как сквозь очистительный огонь.
Прежде чем прийти к полному и безусловному оправданию мира («мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить!»10), надо пройти под лезвием меча, рассекающего всё видимое, всё познаваемое на добро и зло, правду и ложь, справедливость и насилие.
У статуи Справедливости в руках меч.
У статуи Справедливости глаза всегда завязаны, а одна чашка весов всегда опущена!
Пароксизм идеи справедливости, это – безумие революций.
В гармонии мира страшны не те казни, не те убийства, которые совершаются во имя злобы, во имя личной мести, во имя стихийного звериного чувства, а те, которые совершаются во имя любви к человечеству и к человеку.
Только пароксизм любви может создать инквизицию, религиозные войны и террор.
И любовь страшнее и разрушительнее ненависти, потому что ненависть только тень любви, потому что ненависть только огненный цветок, распускающийся на дереве любви, на неопалимой купине человечества.
Безумие в том, что палач Марат и мученица Шарлотта Корде с одним и тем же сознанием подвига хотели восстановить добродетель и справедливость на земле.
Сентябрьские убийцы во время Французской революции, убивая заключенных в тюрьмах аристократов, верили, что они совершают таинство священного очищения нации.
2 сентября во дворе Аббеи11, когда уже лежали груды трупов один на другом, произошло'движение среди присутствующих, потому что кто-то сказал:
«Надо пустить детей посмотреть».
Революция повторяла слова Христа: «Пустите ко мне малых сих».12
«Да, да, верно!» – раздались голоса, и каждый посторонился, чтобы дать место ребенку.
Чем человек чувствительнее и честнее, тем кризис идеи справедливости сказывается в нем с большей силой и нетерпимостью.
Робеспьер, Кутон, Марат, Сен-Жюст по своему существу сентиментальны и чувствительны.
Робеспьер, когда еще до революции был судьей в городе Аррасе, предпочел отказаться от должности, чем скрепить своей подписью представленный ему смертный приговор.
Кутон плакал над смертью канарейки.
«Jean-Pierre Marat etait tres doux»[84]84
«Жан-Пьер Марат был весьма мягок» (Фр.).
[Закрыть], – гласит стих Bepлэна.13 Сен-Жюст написал в своем дневнике:
«Очевидно, Господу угодно было кинуть меня в среду этих извращенных, чтобы я, как меч, покарал их».
Генрих Гейне в своей «Истории религии и философии в Германии» сравнивает Эммануила Канта с Максимилианом Робеспьером:
«И в Канте и в Робеспьере в наивысшей степени было воплощено мещанство: природою им обоим суждено было взвешивать сахар и кофе, но судьбе угодно было поручить им иное, и одному на чашу весов она возложила короля, а другому Бога… И оба взвесили честно».14
Гейне совершенно прав, называя Робеспьера мещанином. Справедливость Робеспьера – справедливость во имя государственности, т. е. справедливость мещанская, справедливость бюргера, горожанина, справедливость, которая лежит в наше время в основе всех установлений государственного порядка. Он сам косвенно признался в этом словами:
«Идея высшего существа и бессмертие души – это постоянное напоминание о справедливости; поэтому она социальна и достойна республики».15
Справедливостью во имя божественного установления была и справедливость старого режима, но Робеспьер справедливость поставил выше божества и этим сделал ее мещанской.
У Марата и у сентябрьских убийц была справедливость самая непоследовательная, так как ее критерием служит личная страсть.
Справедливость Дантона – справедливость во имя родины – «Родина в опасности!» – справедливость жестокая, но целесообразная, смягченная добродушием сильного зверя.
Справедливость жирондистов – справедливость во имя человечности, обманчивая справедливость Руссо.
«Бедный, великий Жан-Жак! – говорит А. Франс. – Он встревожил мир. Он сказал матерям: „кормите сами своих детей“, и молодые женщины стали кормилицами, и художники стали изображать знатных дам, кормящих грудью своего ребенка.
Он сказал людям: „Люди рождены добрыми и счастливыми, а общество сделало их несчастными и злыми. Они найдут свое прежнее счастье, возвратясь к природе“. Тогда королевы сделались пастушками, министры – философами, законодатели провозгласили права человека, а народ, добрый по природе своей, в течение трех дней резал заключенных в тюрьмах!»
Но самая страшная справедливость – справедливость Сен-Жюста – справедливость во имя справедливости. Справедливость, висящая среди мира, как огненный меч гневного серафима, прообраз Страшного суда, всеиспепеляющее пламя абсолютного морального чувства разгневанного божества, не нашедшего оправдания миру.
«Господу было угодно кинуть меня в круг этих извращенных, чтобы я, как меч, покарал их».
Сен-Жюст – воплощение абсолютной идеи справедливости, которая в самом звуке его имени отметила свое появление на земле.
Безумие отдельных лиц ищет оправдания своей справедливости в высшей и неоспоримой идее, но неоспоримые идеи, сталкиваясь в водовороте жизни, производят разрушительные взрывы.
Отдельные безумия находят свое успокоение только в законе – безумии объективном, которое является равнодействующим всех безумий.
«В демократии народ подчинен своей собственной воле, а это очень тяжелый вид рабства. В действительности народ настолько же чужд и враждебен своей собственной воле, насколько он чужд воле своего царя, так как общая воля или совсем отсутствует, или присутствует очень мало в воле отдельного человека, который, однако, испытывает это противоречие во всей его целости» (А. Франс).16
Почему же ни Робеспьер, ни Сен-Жюст, в руках которых была вся власть, не дали Европе того закона, который она, спустя несколько лет, приняла из рук Наполеона?
Они были тверже и чище его, подобные двум архангелам ужаса, стоящим у врат нового мира.
У них не было минут слабостей, нерешимости, отчаяния и даже простой боязни, как в жизни Наполеона.
Власть Наполеона в том, что он пришел во имя свое и дал закон во имя свое, тогда как Робеспьер хотел дать закон во имя республики-государства, а Сен-Жюст во имя справедливости. И тайна власти Наполеона в том, что он смотрел на людей, как на «испорченных обезьян».
Санкция закона – в имени, от которого он исходит, будь это закон от Иеговы или закон от Наполеона.
Во имя безымянной идеи нет закона, будь это непорочная идея самой справедливости или успокаивающая идея государства – мещанства.
Закон Наполеона и был законом мещанства, но он не был дан во имя мещанства, а во имя законодателя.
Русская революция – это только один частичный кризис, который в душе Достоевского выявил тайны последнего и величайшего безумия человеческого рода, который погибнет весь в этих моральных конвульсиях, кроме тех немногих избранных, которым предназначено начать новый род людей, новую жизнь, обновить и очистить землю, перенести внешний закон внутрь человеческой души.
Тогда нынешнее – звериное сознание общественного организма, которое ниже нашего личного сознания, станет равным ему и тождественным.
Но прежде чем человечество придет к этому полному и безусловному единству личности и общества, надо до самого конца пройти времена безумия. Надо всё видимое, всё познаваемое рассечь лезвием меча на добро и зло, правду и ложь.
* * *
Страшны стихийные предвестия этих моральных пароксизмов. Конвульсивный ужас бежит и кривляется, оповещая об их наступлении.
Во Франции наступление Великой Революции пробудило панический ужас, спавший в утробе средневековья.
«Нервность населения была так велика, – говорит Тэн, – что достаточно было маленькой девочке встретить вечером около деревни двух незнакомых людей, чтобы целые округа начинали бросать свои жилища и спасаться в леса, унося с собой свои пожитки».17
Это были первые предвестия террора.
Этот ужас не всегда переходит в убийства.
Эпидемия ужаса тысячного года вылилась не в убийства, а в мистицизм.
Страх – это скачок в бессознательное. Если энергии взрыва нет места вверх, он производит разрушение на земле. В то время Франция была полна бродяг и нищих. Разрушение замков еще не начиналось. Но эти босяки и хулиганы уже осмелели от парижских событий. Они были «Черной сотней», наводящей ужас. Они жгли хлеб и вытравляли посевы.
«Центр Франции был потрясен эпидемией, которой дали имя „Великого Страха“. В каждом городе она начиналась одинаковым образом, Вечером начинали циркулировать слухи: говорилось о приближении нескольких тысяч разбойников, вооруженных с ног до головы, которые истребляли всё на своем пути, оставляя за собой только пожары и развалины. Слухи росли, подобно грозовому облаку; самые храбрые бывали захвачены. Прибегал в город человек и рассказывал, что он видел собственными глазами облако пыли, поднятое наступающим войском. Другой слышал, как били в набат в соседнем селении. Сомнений больше не оставалось. Через какой-нибудь час или меньше город будет разграблен.
И рабочие и мещане хватались за оружие: ружья, штыки, пики, топоры, рабочие инструменты – всё отбиралось для вооружения. Являлась импровизированная милиция. Самые смелые уходили из города в поиски, навстречу неприятелю.
Вернутся ли они?
В ожидании женщины прятали драгоценные вещи, трепетали за своих детей… Проходит час… два… Смертельное томление! Наступает ночь, увеличивая ужас. Ходят патрули. На перекрестках горят факелы.
Между тем крестьяне, гонимые ужасом, бегут в город и волокут с собой свои пожитки.
Но вот возвращаются разведчики. Они не нашли ни одного разбойника. Страх уменьшается. Через несколько дней он разрешается всеобщим хохотом.
Овернь, Бурбоне, Лимузен, Форес были один за другим охвачены этой странной паникой. Эпидемия шла с северо-запада на юго-восток. Она отразилась тоже, но с меньшей силой и правильностью, в Дофинэ, в Эльзасе, во Франш-Конте, в Нормандии и в Бретани. В Париже такая паника была в ночь на 17 июля 1789 года, через три дня после взятия Бастилии. Главные моменты развития этой эпидемии – конец июля и начало августа 1789 года»[85]85
D-r Cabanes. Les nevroses revolutionnaires.
[Закрыть].18
* * *
Уже с половины XVIII века во Франции ожидали пришествия Революции, повсеместно, всенародно, безусловно, почти с такой же напряженностью, как человечество ожидало светопреставления в конце десятого века.
Во Франции, как и в России, было больше всего пророков желания – этих «Женщин из Магдалы», ожидающих под раскаленным зноем пустыни пришествия Мессии. Они все измучены и сожжены ожиданием и страстью. Революция сразу сжигает их. Они гибнут в ее пламени, радостные и счастливые. Они ждут ее дуновения, и, когда губы мятежа прикоснутся к их лбу, – им больше нечего делать на земле. Они ждут только одного поцелуя и не переживают страстности первого прикосновения.
* * *
Среди Сивилл Революции есть две фигуры библейского прозрения и пафоса: маркиз Мирабо – отец Великого Мирабо, друг людей, «Ami des hommes», заточавший в тюрьму своих детей19, и Казотт.
Они боялись революции и ненавидели ее и поэтому видели дальше других. Их предчувствие – предчувствие ужаса. Маркиз Мирабо был один из тех, которые наиболее четко видели приближение тучи, хотя и туманно сознавали, какие молнии она несет в себе.
Вся его ненависть к сыну, порывистая и страстная, неожиданно освещаемая ярыми молниями любви и удивления перед его гениальностью, – вся эта ненависть – уже пророчество.
В его письмах есть такие неожиданные прозрения и вспышки, что для его ненависти чувствуются другие, более властные причины, чем скупость и искажение родительского чувства.
У него прорываются иногда такие фразы: «Время людей, подобных моему сыну, приближается гигантскими шагами, потому что в настоящее время нет женщины, которая не носила бы во чреве своем будущего Артевельда или Мазаньелло20».
А иногда он восклицает с дьявольской гордостью: «Уже в течение пятисот лет мир терпит Мирабо, которые никогда не были, как остальные люди. Стерпит он и этого, и сын мой – я ручаюсь за него – не уронит нашего имени».
Старый лев чувствовал, что он породил дракона, дышащего пламенем.
Всё время кажется, что он говорит не о своем сыне, а о наступающей Революции.
В самом преследовании сына, в этом неотступном желании маньяка запереть его в тюрьму «навсегда» чувствуется, что он обращается не к сыну, а к чему-то более грозному, к какой-то стихии, которая поглотит всё, если он не обуздает ее.
Это внезапное прозрение старого режима – яркое, гениальное, от которого приподымаются волосы на голове. Это – Валаам, прорицающий против своей воли среди всеобщей слепоты.
В то время, когда граф д'Артуа (Карл X) протежировал Марата, герцог Орлеанский – Бриссо21, каноники Лаонского собора воспитывали Камиля Демулена22, а Сан-Ва-атский Аббат – Робеспьера, Конде покровительствовал Шамфору23, сестры Короля – Бомарше, m-me де Жанлис – Шодерлос де Лакло24, Кардинал де Тенсен – Мабли, – маркиз Мирабо одиноко стоит со своей неутолимой ненавистью к своему родному сыну.
Казотта23 хочется поставить рядом с маркизом Мирабо, потому что и для него революция была не вожделенным освобождением, а надвигавшимся ужасом.
В годы перед Революцией он почти безвыездно жил в провинции, вдали от Парижа, в глубине своей семьи. Он весь захвачен, заворожен глазами приближающегося чудовища, которое должно поглотить самое дорогое для него на земле – короля и церковь. И он кричит о надвигающейся опасности и борется с ползущей лавиной, ясно зная, что будет раздавлен и уничтожен. Он вызывает духов, он хочет сделать Контрреволюцию при помощи мертвецов. Он посылает своего сына к королю, которого везут из Варенна26, и тому удается спасти дофина, затерявшегося в толпе. Перед праздником Федерации на Марсовом поле27 его сын произносит по его поручению заклятия около Алтаря Отечества, чтобы поставить Марсово поле под особое покровительство ангелов. Сын доносит отцу, что, когда толпа танцевала карманьолу около Тюильри и он произнес заклятие, то руки сами собой опустились и танец расстроился.








