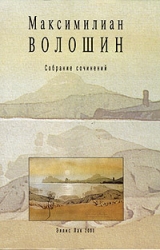
Текст книги "Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков"
Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
«На земле был один день, и в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того верил, что сказал другому: „Сегодня будешь со мною в раю!“. Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Слушай, этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета без этого человека одно сумасшествие. А если так, если закон природы не пожалел и этого, а заставил его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь, и состоит из лжи и глупой насмешки. Стало быть, самые законы планеты ложь и дьяволов водевиль».36
Славянин с варварской душой, открытой буйному дыханию всей розы ветров нравственности, не имеющий достаточной уверенности ни в бытии Божьем, ни в пути, который ведет его к познанию, что дано Ахселю поколениями самознающей веры предков, Кириллов ложью называет то самое, чему Ахсель дает царственное имя мечты. Мысль о собственной своей божественности бродит в нем тревожно и смутно. Его дух, еще не прокаленный насквозь логическим сознанием, не постиг, что человеческое я есть единственный путь к Богу, который поэтому ведет всегда внутрь, а не вовне. Его мысли текут смутно и перебивают сами себя:
«Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам Богом стал – есть нелепость. Иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаешь – ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один – тот, кто первый, – должен убить себя непременно, иначе кто же начнет и докажет? Я еще только бог поневоле и я несчастен, ибо обязан заявить свое своеволие. Это всё, чем я могу в главном пункте показать свою непокорность и новую страшную свободу мою. Ибо она очень страшна. Я начну и кончу, и дверь отворю, и спасу».37
Смутным и сбивчивым лепетом кажутся эти слова Кириллова рядом с великолепными, точными, божественно ясными формулами Акселя.
Но Аксель – это Кириллов, преображенный на Фаворе человечества38. Это осуществленная греза Кириллова, который сам, по трогательному выражению своему, был «богом поневоле».
В этом соответствии Кириллова и Акселя таится много предопределений для русского духа. Кириллов – это первый младенческий лепет сознания, Аксель же завершение, увенчание огромной исторической культуры, расцветший цветок целой расы, последний удар ступни, которым человечество, заканчивая свой танец, отталкивает ненужную больше землю.
Но Кириллов реальный и живой человек, один из живущих ликов русской жизни, Аксель – герой, отвлечение, идеал-только символ. По отношению к Кириллову он такое же отвлечение, как великий инквизитор есть тоже только отвлечение по сравнению с Архидиаконом. Но если мы станем искать в жизни прототипа Акселя, то это будет, конечно, сам Вилье де Лиль-Адан. Трагедия эта – и автобиография и исповедь, несмотря на глубокую бездну, отделяющую героическое самоубийство Акселя от нищенской жизни Вилье, которого не миновало ни одно унижение, ни одно поругание.
Аксель и его автор разошлись в конечном выборе.
«Сара! Слушай! – говорит Аксель. – Ты сама решишь после: зачем пытаться воскресить одно за другим все опьянения, которыми мы насладились в идеальной полноте, и желать преклонить наши столь царственные желания перед компромиссами всех мгновений, в которых их собственная сущность, ослабленная, завтра же исчезнет совершенно. Хочешь ты принять, вместе с нам подобными, все горести, которые готовит нам завтра, все пресыщения, все болезни, разочарования, старость и еще дать жизнь существам, обреченным на скуку продолжения?».39
Творчество всегда есть избрание того, что могло быть и уже не случится в жизни, и потому Вилье де Лиль-Адан, избрав путь поэта, этим самым обрек себя на компромиссы всех мгновений, на все пресыщения и разочарования.
И когда Вилье де Лиль-Адан, умирая на койке госпиталя St. Jean de Dieu, исправлял последние листы «Акселя», он должен был думать, созерцая эту невозможную возможность своей жизни, о том, что он сам избрал выход не менее героический, но более трудный.
VI
Жизнь Вилье – это возможное продолжение «Акселя» при условии иного выбора, и потому ее уместно рассказать здесь.
Точно так же, как и в фабуле «Акселя», – тайными руководителями человеческих судеб еще во времена крестовых походов был избран великий исторический род, который через пять веков существования должен был дать Европе гениальную и трагическую фигуру великого поэта в лице своего последнего представителя Матиаса-Филиппа-Августа графа Вилье де Лиль-Адана. Нужна была древняя и густая кровь благородной кельтской семьи, на средневековых вершинах которой стоят Иоанн Вилье де Лиль-Адан, штурмом бравший Париж в 1418 году, истребитель Арманьяков,40 и Филипп-Август Вилье де Лиль-Адан, последний великий магистр Ордена Иоаннитов, геройский защитник Родоса против Солимана Великолепного,41 и, после падения его, основатель Мальтийского ордена, нужны были все десятки поколений этого рода, пронизавшего' своею волей историю старой Франции, чтобы на самой вершине своей пирамиды в середине девятнадцатого века воздвигнуть одного поэта. Герб Вилье де Лиль-Аданов, подобно гербам Ауерспергов и Моперсов, тоже несет в себе пророчество и указание: это лазурная голова с такою же десницей на золотом поле, овитом складками горностаевой порфиры и девиз: «Va oultre!»[19]19
«Иди до предела!» (фр.).
[Закрыть] – герб, подобающий поэту, главными чертами которого были: царственное утверждение лазурной мечты, греза о золоте, которой жила его фантазия, устремление к запредельному и мстительный сарказм.
Вилье родился 7-го ноября 1838 года в Сен-Бриё, глухом уголке Бретани, в затишье небогатой семьи, отстаивавшей здесь уже в течение ряда поколений ту историческую волю, которая должна была возродиться как мысль.
Все обстоятельства детства слагались так, что указывали ему на его предназначение. Ему было семь лет, когда нянька потеряла его во время прогулки и группа странствующих скоморохов подобрала его и увела с собой. Лишь через две недели маркиз-отец нашел его в Бресте, в ярмарочном балагане, окруженного нежностью и любовью всей труппы. Так казалось со стороны, но мечта ребенка пережила за это время два года, которые он провел вместе с цыганами, странствуя по Италии, Германии, Тиролю и Венгрии, и после был возвращен семье красавицей-цыганкой.42 Его память сохранила все подробности, имена, события и пейзажи этих стран, точно эти две недели были таинственным посвящением его детской души в мир тех образов, которые ему было суждено закрепить.
В своей мечте он воспитывался у бенедиктинцев в Солемском аббатстве. Монахи глядели на него как на предназначенного, и в религиозных процессиях он, как потомок хоругвеносцев Франции, носил орифламму св. Бенедикта,43 а знаменитый восстановитель ордена, Дом Геранжер, при первом причащении Вилье, для того чтобы отметить особое положение его в христианском мире, служил сам торжественную мессу отдельно для него одного.
Когда Вилье минуло двадцать лет, его родители, нисколько не сомневаясь, что Матиасу суждено своей мыслью и пером вновь завоевать те богатства и ту славу, которую их предки завоевали мечом и кровью, и убежденные, что Париж – единственная достойная его арена и что долг их в том, чтобы пожертвовать всем ради развития его гения, продали старый дом и землю в Сен-Бриё, бросили свои дела и переселились вместе с ним в Париж.
Первое появление его в литературе среди молодых в то время парнасцев было блистательно. Никто из узнавших его в ту эпоху не мог выразить своего впечатления иначе, чем словом «гений».
Маллармэ впоследствии в таких словах вспоминал это первое его появление в Париже44:
«Никто, сколько я помню, входивший к нам с широким жестом, говорившим: „вот я!“, не был кинут ветром иллюзии, затаившимся в невидимых складках, порывом столь буйным и необычайным, как некогда этот юноша; никто не явил в это мгновение юности, мгновение, в котором взгораются молнии судьбы не его только, но возможной Человека, то сверкание мысли, которое навсегда отмечает грудь бриллиантом Ордена Одиночества. То, чего хотел действительно этот пришелец, было, я серьезно думаю это: царствовать. Когда газеты заговорили о кандидатуре на свободный престол, – то был престол Греции, – не посмел ли он предъявить немедленно свои права на него, опираясь на царственных своих предков? Легенда, но правдоподобная, и заинтересованным она никогда не была опровергнута. И этот претендент на все царственные венцы не избрал ли, прежде всего, своего престола между поэтами? На этот раз, определив судьбу свою, прозорливо решил он: „вместе с гордостью к доблести рода моего присоединить единственно благородную славу нашего времени, она же – великого писателя“. Девиз был избран.
Ничто не замутит во мне, ни в памяти многих поэтов, ныне рассеявшихся, видение его – приходящего.
Молнией, да! – воспоминание это будет светиться в памяти каждого, не правда ли, вы, знавшие его? Коппэ, Дьеркс, Эредиа, Катюлль Мандэс – вы помните?
Гений! – мы так поняли его.
Я вижу его. Его предки были в этом привычном ему движении головы назад, в прошлое, когда он откидывал свои длинные, неопределенно пепельные волосы, с видом: „пусть они остаются там, я же знаю, что делать, хотя теперь подвиги гораздо труднее“. И мы не сомневались, что его бледно-голубые глаза, отразившие в себе не прошлое, а иное небо, следят грядущие пути сознания, о которых нам еще и не грезилось».
Не превосходит ли всё это соединение обстоятельств, то, которое Вилье создал для Акселя? И гений, который так мог потрясти четкий, лишь к бриллиантово точным критическим взвешиваниям способный ум Маллармэ, не был ли еще более ослепителен, чем сокровища германских королевств, сверкающей лавиной рухнувшие к ногам Акселя, не скрывал ли он в себе скипетра власти, еще более осязаемого, чем это золото Черного Леса?
В юности Вилье де Лиль-Адана было такое мгновение, сосредоточие всех возможностей, роза всех путей, которое было равно царственному мигу последнего акта «Акселя».
Там, где Аксель выбрал смерть, Вилье выбрал жизнь, и этот выбор был более трагичен, чем выбор Акселя.
VII
Царственные сокровища Вилье в реальной, литературной жизни Парижа были подобны тем заговоренным кладам, которые, раскрытые в полночь, ослепляют кладоискателя блеском золотых монет, а днем оказываются черепками битой посуды.
Это было у него в семье. Его отец маркиз Жозеф Вилье де Лиль-Адан, живший мечтой о миллионах, для которой у него не было выхода в творчестве, был фантастическим дельцом.
Сухой, высокий, чопорный, он был одарен всепожирающей энергией и тратил ее в осуществлениях химерических предприятий. То он вел дела о наследствах, конфискованных во время Великой революции, то мечтал найти утерянные богатства рода Вилье, раскапывал старый их замок в Кентене, чертил планы его подземелий, исчислял ценности кладов, а позже в Париже истратил остаток своего состояния в финансовых операциях, и, умирая в грязной комнатке третьеразрядного отеля, говорил: «Я умираю спокойно. Я осуществил мечту моей жизни. Я оставляю Матиасу состояние, равное любому из богатейших царствующих домов Европы».
Сокровища, которые Вилье-поэт нес с собою в жизнь, имели ценность вечную и реальнейшую, но они не были обменной монетой того дня, в который он вступил и жизнь, и спустя немного он увидел себя кинутым, как Иов,45 в помойную яму Всемирного Города, и железная нищета в лохмотьях со всеми унижениями голода и грязи стала у его изголовья и не отходила в течение тридцати лет.
Это была не беззаботная бедность веселой богемы, не тесная мещанская скудость средств, обрекшая Маллармэ на уроки английского языка и на ограничения духовного комфорта, это была эпическая нищета большого города, которая «заставляет ночевать на лавках скверов, делает лицо серо-бледным, глаза стеклянными, а спине дает смиренную осунутость того, кто просит милостыню».46
Тридцать лет он бродил по Парижу, не имея ни крова, ни очага, в грязном белье и в обшмыганном черном сюртуке, тридцать лет он проводил ночи в кафе и отравлял свой сияющий мозг всеми тусклыми ядами кабацкого алкоголя. У него не бывало письменного стола, и он писал лежа на полу; у него не бывало бумаги, и он записывал свои мысли на папиросных бумажках. Иногда литература давала ему так мало, что он добывал себе средства для жизни уроками бокса и фехтования. Он прошел через все невероятные профессии Парижа, вплоть до того, что был одно время манекеном у врача-психиатра47: изображал для рекламы в его приемной выздоравливающего больного.
Его гений, такой неудобный в своей ослепительности, такой непонятный в своей идейной утонченности, неподкупный в своей неуклонной цельности, никому не был нужен, и только литературные мародеры ходили за ним по ночным кафе, подбирая гениальные слова и мысли, которые он кидал без счету в своих импровизациях, и на следующее утро они расточались в газетных фельетонах и реали-зировались в звонкую монету.
Но свойство тех сокровищ, которые носил в своей душе Вилье де Лиль-Адан, было таково, что он не замечал своей бедности, которая заслонялась от него мечтой о золоте.
Анатоль Франс писал после его смерти48:
«Не знаю, следовало ли его жалеть или завидовать ему. Он ничего не знал о своей нищете. Он умер от нее, но ни разу не почувствовал ее. Своею мечтой он жил непрестанно в зачарованных парках, в чудесных дворцах, в подземельях, переполненных сокровищами Азии, где переливались сияния царственных сапфиров и сверкали гиератические девы. Этот нищий жил в счастливых краях, о которых счастливцы этого мира не имеют никакого понятия. Это был провидец: его тусклые глаза созерцали внутри ослепительные зрелища. Он прошел через этот мир как сонамбула, не заметив ничего из того, что видим мы, и созерцая то, что нам недозволено видеть. Так взвесивши всё, мы не имеем права сожалеть о нем. Из банального сна жизни он сумел создать для себя вечно новые экстазы. По этим подлым столам кофеен, пропитанным запахом табака и пива, он расточал потоки пурпура и золота. Нет, нам недозволено жалеть его. Мне кажется, что я слышу его слова:
„Завидуйте мне и не жалейте меня. Жалеть о тех, кто владел красотою, – кощунство. А я носил ее в себе и созерцал только ее, внешний мир не существовал для меня, и я никогда не удостоил взглянуть на него. Моя душа была полна уединенных замков на берегу озер, где луна серебрит очарованных лебедей, Прочтите моего „Акселя“, которого я не успел закончить и который останется моим шедевром. Вы увидите там два прекрасных создания божьих: юношу и девушку, которые ищут сокровища и, увы! – находят их. Когда же они овладели ими, они обрекают себя на смерть, сознавая, что есть лишь одно сокровище, воистину достойное обладания, – божественная бесконечность.
Отвратительная каморка, в которой я грезил, играя Парсифаля49 на разбитом пианино, в действительности была пышнее, чем Лувр. Прочтите афоризмы Шопенгауэра и найдите то место, где он восклицает: „Какой дворец, какой Эскуриал,50 какая Альгамбра51 сравнятся когда-нибудь в великолепии с тою темницей, в которой Сервантес писал своего Дон-Кихота?“.52 Он сам, Шопенгауэр, в своей скромной комнате имел Золотого Будду для напоминания о том, что нет в мире богатства иного, чем отказ от богатства. Я получил все удовлетворения, которые могут искушать сильных земли. Я был в глубине души великим Магистром Мальтийского ордена и королем Греции. Я сам создал свою легенду и возбуждал при жизни еще такое же удивление, как император Барбаросса целое столетие после своей смерти. И моя мечта так стерла реальность, что даже вы, знавший меня лично, не сможете отделить существования моего от тех сказок, которыми я великолепно украсил его. Прощайте, я прожил свою жизнь самым богатым, самым великолепным из всех людей!“».
VIII
Не бедность составляла трагедию жизни Вилье. Эта антитеза золотой мечты и нищеты слишком примитивна в своей геометричности, чтобы его мысль могла на ней останавливаться. Если нищета не доходила до его сознания, то главным образом потому, что он не считал ее явлением достаточно сложным и интересным, чтобы на нем останавливаться Его библейская бедность скорее была благодеянием судьбы, которая устранила этим с его дороги те компромиссы, разочарования и узы, которые повлекли бы за собою относительное богатство, она только помогла ему донести до конца мечту о золоте неосуществленной.
Но он вовсе не был настолько болен мечтой и опьянен гашишем своей фантазии, чтобы не видеть и не понимать реальностей внешнего мира, без чего произведения его лишились бы того едкого сарказма, который проникает их. Реальности внешнего мира он видел и понимал так же широко и глубоко, как реальности мира внутреннего, и всегда умел найти для них наименования подобающей глубины и силы. «Грядущая Ева»53 и «Трибюла Бономэ», и «Машина славы» свидетельствуют об этом. Он зачертил и выявил лик Хама европейской мысли в масках, законченных и непреходящих. Увы! Внешний мир не только существовал для него, но был ему понятен в самых глубинных и непреходящих устоях своих, потому что гениальность его мечты зиждилась на страшной и беспощадной силе разложения и анализа.
«Почтение перед тем, что думают все, – говорил он, – перед тем „здравым смыслом“, который меняет свои мнения каждое столетие, который ненавидит понятие духа вплоть до самого его имени. Прославим же в „просвещенных людях“ этот здравый смысл, который проходит, оскорбляя дух, и, тем не менее, следуя теми путями, которые дух намечает для него. К счастью, дух не обращает внимания на оскорбления здравого смысла больше, чем пастух на рев стада, которое он гонит к тихому месту смерти или ночного отдыха».
Среди полужурнальной, полулитературной богемы Парижа, даже среди поэтов, семивековой аристократ Вилье, связанный каждой частицей своей гениальной души с героическим прошлым Франции, казался неуклюж и смешон, как бодлэровский Альбатрос,34 упавший на палубу корабля, над которым издеваются грубые матросы: «Один дымит ему в нос своею трубкой, другой передразнивает его походку» – его гигантские крылья мешали ему ходить.
«Воистину я ношу имя, которое всё делает трудным», – восклицал он иногда и прибавлял таинственно: – «На нем проклятие, потому что один из моих предков осмелился добиваться любви Иоанны Д'Арк».
Жизнь Вилье должна быть написана так, чтобы каждая страница делилась на два столбца с заголовками: на одном – «Реальности духа», на другом – «Реальности здравого смысла», и они шли бы, не прерываясь и не сливаясь до последней минуты его существования. Вот какой вид представляли бы некоторые страницы этой биографии.
Реальности духа. С эпиграфом из Маллармэ:
«Вилье жил в Париже в гордой, несуществующей развалине, со взглядом, устремленным на закат геральдического солнца».
Как мы уже знаем, Вилье был потомком славного основателя Мальтийского ордена (историческая точность его генеалогии была, между прочим, официально засвидетельствована на суде по делу о драме «Перринэ Леклерк», в которой Вилье усмотрел оскорбление своего рода) и, как таковой, он имел права на титул почетного Гросмейстера ордена и на знаки отличия, к сему причитавшиеся. Он не задумался в юности написать королеве Виктории письмо, требуя возврата острова Мальты, а после выставить свою кандидатуру на греческий престол, как потомок последнего из независимых государей Греции. Известно, что он имел по этому вопросу аудиенцию у Наполеона III, но что говорилось между ними, он удержал в тайне.
«А что бы вы сделали, Вилье, – спросил его однажды Маллармэ, – если бы вы были, действительно, избраны королем эллинов?»
– О, я бы устроил торжественный въезд: цветы… фанфары… В великолепном царском облачении я вхожу во дворец… и затем выхожу к народу на балкон – один, совсем нагой. Я показался бы так на мгновение и затем скрылся в своем дворце. Больше они бы не видели меня никогда. Я бы правил невидимый.
На другой стороне страницы:
«Реальности здравого смысла»:
«В то время, когда открылась кандидатура на эллинский престол, – рассказывает кузен поэта Понтавис де Гессей, – и Наполеон III медлил высказать свое мнение, в одной из газет появилась такая заметка: „Из достоверного источника мы узнали о новой кандидатуре на престол Греции. Кандидат на этот раз французский аристократ, хорошо известный всему Парижу: граф Матиас-Филипп-Август Вилье де Лиль-Адан, последний потомок царственного рода, к которому принадлежал героический защитник Родоса. На последнем частном приеме на вопрос одного из приближенных об этой кандидатуре его величество изволил загадочно улыбнуться. Все наши пожелания этому новому кандидату“».
Эта мистификация была месть одного его приятеля-врага (Катюлля Мандэса), оскорбленного когда-то его сарказмами. Для публики в этом известии не было ничего невероятного. Невероятность начиналась лишь для тех, кто знали короля и короля-отца. На семью Вилье эта заметка произвела впечатление потрясающее. Они уже видели их Матиаса совершающим свой въезд в Афины, облаченным в черный бархат, на белой лошади, окруженным великолепными паликарами: сам же Матиас отнесся к этому весьма серьезно, но несколько сомневался в конечном пункте.
«Ваше величество! – серьезно сказал старый маркиз, величественно застегивая свой черный, побелевший на швах сюртук: – вам не хватает денег: отец вашего величества сумеет их достать. До свиданья. Я ухожу в поиски за Ротшильдом». Он ушел и исчез на восемь дней. Вилье написал просьбу об аудиенции. Через несколько дней великолепный императорский курьер передал ошеломленному консьержу пакет с императорским гербом с приглашением на аудиенцию. Поэт в первый раз в жизни нашел портного, который открыл ему кредит. В то время он писал «Изиду», и ум его был переполнен дворцовыми интригами XVI века. Он думал лишь о западнях и о потаенных дверях, Тюильери представлялся ему оборудованным в этом роде. Что было в Тюильери – никто не мог узнать никогда. Он виделся с маркизом Бассано, тогда великим дворцовым шамбеланом. Вилье представил себе, что он играет роль в одной из мрачных дворцовых интриг XVI века. Он отказывался говорить, с оскорбительными предосторожностями ставил ноги, холодно отвечал на любезные слова своего собеседника, кинул ему несколько выразительных взглядов и улыбок, в которых тот ничего не понял. Наконец, вежливо, но энергично заявил, что согласен говорить лишь с самим императором лично. «Тогда вам придется приехать в другой раз, граф, – сказал Бассано: – потому что его величество занят и уполномочил меня принять вас». Вилье рассказывал, что его провели через целый ряд аппартаментов, между двух слуг, мускулистых и мрачных. «Я с самого начала заметил, что Бассано был клевретом сына короля датского и что целью его было избавиться от опасного и неудобного соперника. Но моя холодность, манеры, мое достоинство и умеренность моих слов, без сомнения, произвели впечатление на наемных убийц. И меня отпустили с миром».55
Но Понтавис де Гессей, как друг и родственник, может быть еще заподозрен в отступлениях от «здравого смысла» и в смягчении фактов. Поэтому вот свидетельство непогрешимого «здравого смысла» Фернанда Кальметта,56 редактора «Фигаро», который не только ценил талант Вилье, но даже покровительствовал ему и печатал иногда его рассказы в фельетонах «Фигаро». Кажется, будто это сам бессмертный представитель «здравого смысла» Трибюла Бономэ повествует о своем создателе[20]20
F. Calmettes. Leconte de Lisle et ses amis.
[Закрыть].
На одном из собраний у Арсена Гуссей Вилье прогуливался, опирая край своего шапоклака, украшенного его изумительными гербами, на левый отворот фрака, чтобы обратить внимание на широкую черную муаровую розетку в петлице – розетку почетных командоров Мальтийского ордена. Барракан, этот превосходнейший Барракан, о котором я еще буду много говорить, встречает Вилье и спрашивает насмешливо и игриво: «Браво! Откуда достают такие хорошенькие штучки?».
– Это я даю их, – ответил Вилье, который в память своего предка сам пожаловал себя в великие магистры Мальтийского ордена. И пусть не считают эти претензии Вилье мимолетной забавой. Это была у него какая-то мономания, непреодолимое стремление приписывать себе разные титулы и присваивать, вполне невинно впрочем, знаки отличия.
На свадьбе Катюлля Мандэса с Жюдит Готье он был шафером вместе с Леконтом де Лилем. По исключительной случайности, которые иногда повторялись у него в жизни, у него в это время были деньги, и когда он заехал за мэтром, который уже ждал его одетый, он остановил его на площадке лестницы и, распахнув пальто, показал на своей груди крест командора и все папские ордена. Он выбрал самые крупные образцы, которые вывешиваются только в витринах, чтобы ослеплять глаза прохожих.
Леконт де Лиль не мог удержаться от громкого взрыва хохота: «Но у вас вид окошка орденского магазина, мой дорогой друг. Знаете, снимите-ка это, а то мне придется оставить вас в какой-нибудь витрине». И он сделал вид, что не хочет ехать. Это был уже не первый опыт Вилье. Уже не раз, остановив посреди бульваров знакомого, он расстегивал свое пальто и кидал самодовольным тоном свой призыв к удивлению: «Смотри!». Но приятель, взглянув на эти бутафорские драгоценности, пожимал плечами и шел своей дорогой. Но ни презрение, ни насмешки не могли исправить Вилье. Наконец, устав от фиктивных знаков отличия, Вилье захотел обладать хотя бы одним настоящим. Академические пальмы раздавались в то время башмачникам (я выражаюсь не фигурально). Вилье подумал, что достаточно попросить их, чтобы получить. Его друзья напрасно пытались отговорить его от этого шага, который казался им недостойным такого писателя, как он.
Он покрыл своими титулами четыре страницы бумаги большого формата, где были перечислены все произведения, им написанные, и все задуманные, последние столь многочисленные, что двух человеческих жизней не хватило бы на их осуществление. Но бюро Министерства народного просвещения «не знало даже самого имени Вилье, о чем свидетельствует пометка на его прошении: неизвестен». Это очень обескуражило бедного Вилье.
IX
Перевернем еще несколько страниц этой двойной биографии Вилье. На левой стороне, в столбце «реальностей духа» мы прочтем такой эпизод:
Когда появилась несправедливая, но талантливая книга Дрюмона: «La France – juive»[21]21
«Франция – еврейка» (фр.).
[Закрыть], послужившая основанием французскому антисемитизму, редакция одной большой еврейской газеты, знавшая о бедственном положении Вилье де Лиль-Адана, направила к нему одного из членов редакции с предложением написать ответ Дрюмону. Журналист нашел Вилье в комнате грязного отеля, где он писал, лежа на полу. Вилье выслушал все предложения и пояснения молча, и когда журналист заключил свою речь словами: «Что же касается цены, то вы можете назначить какую вам угодно», он ответил: «Цена уже установлена: тридцать серебреников».
На правой стороне:
Реальности «здравого смысла». Рассказывает тот же Кальметт:
Он выдернул себе свои скверные зубы и вставил искусственные для того, чтобы иметь возможность устроить выгодную женитьбу с приданым. Он скомбинировал около тридцати возможных женитьб, основанных на значении его имени. На словах он был заранее готов на всякие уступки. На самом же деле он не мог себя принудить ни к одной. Так же, как он, объявляя, что готов на какие угодно жертвы, чтобы достать три франка, не мог доставить к суббоге статьи, за которые он получал триста франков, точно так же при мысли о возможных детях он отвергал всех невест. Большинство в это время были еврейки. Он никогда не мог допустить мысли, что ему может быть предложен брак с одной из них. Он вскочил, как ужаленный, когда ему предложили одну. Ярость его была лучше обоснована, когда ему предложили очень красивую девушку, которая была любовницей одного принца царской крови при второй Империи и, еще молодая, обладала рентой в сто тридцать тысяч. Идея, что потомок самых гордых опор церкви и престола может явиться продолжателем своего рода с придворной парвеню, заставила его удрать к антиподам. Но мысль, что он может смешать свою кровь с еврейкой, приводила его в еще больший ужас. Очень довольный своим успехом у одной модной в то время гетеры с довольно чистым еврейским типом, скрывая тщеславное удовлетворение этой победой под видом глубокого чувства, он сказал одному из своих друзей, отрывисто, по обыкновению: «Вулканическая страсть… Великолепная женщина…» Его друг представился, что он одурачен и действительно верит серьезному чувству.
– Ах! Ах! Такая красивая. И ты ее любишь так же, как она тебя?
– Почти что… очень.
– Несмотря на то, что она еврейка?
– О, мимолетные связи…
– Но если она окажется беременной от тебя?
Вилье не предвидел этой возможности. Он выпучил глаза. Больше он уже не видал свое прекрасное дитя Израиля.
Вилье не мог бы принять даже женщины, которая не любила бы литературы.
Один агент по брачным делам предложил ему невесту из очень богатой промышленной семьи. Очень любезный с женщинами, он понравился юной девушке, которой он принес одну из своих книг, «Isis». Она сказала ему: «Человеку вашего происхождения вовсе не нужно писать». Он откланялся и больше не появлялся.
Из уст одного поэта, лично знавшего Вилье де Лиль-Адана, мне пришлось слышать рассказ о том, как он ездил в Англию вместе с агентом по брачным делам. Это было в период глубочайшей нищеты Вилье. Брачный агент экипировал его на свой счет, но, когда брак в конце концов не состоялся, имел жестокость отнять у него сшитое на его счет платье и отправил с билетом III класса в Париж.
X
Последнюю пощечину жизни Вилье получил за несколько дней до смерти, когда он лежал уже в госпитале St. Jean de Dieu, с окнами в тот самый сад, на который глядел умирающий Барбэ д'Оревильи из своей комнаты на улице Русселе. Гюисманс и Маллармэ в силу каких-то практических и моральных соображений сочли необходимым уговорить его обвенчаться с одной женщиной, от которой у него был сын. Вот что рассказывает сам Гюисманс об этом в одном письме:
«…Сюда относится до слез надрывающий эпизод с его женитьбой. Из-за многих причин, которых он не высказывал, Вилье колебался, уклонялся и не отвечал, когда, после долгих ораторских вступлений, мы говорили ему о его маленьком сыне и уговаривали, для того чтобы узаконить его, обвенчаться с его матерью, с которой он уже давно жил вместе. Убежденный тем доводом, что после его смерти министр народного просвещения может дать пенсию ребенку, который будет носить его имя, Вилье, наконец, сказал „да“, но, когда надо было назначить день и собрать бумаги, он медлил и замыкался в такую безучастность, что мы должны были молчать. Мне пришла мысль обратиться к Reverend Pere Sylvestre[22]22
Преподобному отцу Сильвестру (фр.)
[Закрыть], тому самому, который присутствовал при смерти Барбэ д'Оревильи.








