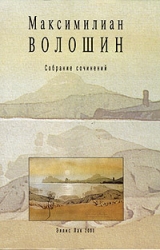
Текст книги "Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков"
Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Психология лжи[94]94
В этой главе я даю изложение того, что было сказано и произошло на диспуте «Бубнового Валета» 12 февраля 1913 года и во что все превратилось в восприятии печати и публики.
[Закрыть]
В Берлинском Университете, в Институте Экспериментальной Психологии был сделан следующий опыт над студентами: во время лекции в аудиторию ворвался арлекин, а вслед за ним негр с револьвером в руке. Они добежали до середины амфитеатра. Здесь негр настиг арлекина, но тот свалил его с ног, после краткой борьбы вырвал у него револьвер, вскочил и убежал в противоположную дверь, а негр вслед за ним. Вся сцена длилась не больше двадцати секунд. Она была заранее подготовлена и разучена двумя актерами; все их движения срепетированы и записаны; костюмы и гримы нарочно выбраны самые характерные и бросающиеся в глаза и. предварительно сфотографированы. Револьвер не был заряжен.
Спустя две недели всем студентам, присутствовавшим при этом опыте, было предложено описать, что произошло. Получилась коллекция самых противоречивых показаний. Никто не мог определить точно, в каком костюме был негр, в каком арлекин, и большинство утверждало, что арлекин гнался за негром, а негр стрелял в арлекина. Многие слышали выстрел своими ушами. При этом надо принять в соображение, что свидетели, хотя и не были подготовлены к данному эксперименту, однако находились в курсе подобных психологических опытов.
То, что произошло на моей лекции 12февраля в «Политехническом Музее» между мной и Репиным и то, какие формы это приобрело сперва в газетных отчетах, потом в газетных статьях и, наконец, в коллективных и индивидуальных протестах в виде писем в редакцию и адресов, весьма напоминает опыт, произведенный в Берлинском Университете.
Случай этот настолько характерен для психологии возникновения и развития лжи, что мне кажется интересным изложить фактически всё то, что было и во что всё превратилось.
Лекция моя «О художественной ценности пострадавшей картины Репина» составляла тему для диспута «Бубнового Валета». «Бубновый Валет» взял на себя все хозяйственные хлопоты по устройству лекции, но этим его роль и ограничилась. Никто из членов общества «Бубновый Валет» в диспуте участия не принимал.
Председательствовал присяжный поверенный Александр Богданович Якулов. Официальными оппонентами моими были литераторы: Георгий Иванович Чулков, Алексей Константинович Топорков и художник Давыд Давыдович Бурлюк, который членом общества «Бубновый Валет» не состоит.
Перед началом лекции представитель полиции объявил председателю, что участие в прениях разрешается только лицам, заранее помеченным в программе. Таким образом, никакое выступление членов Общества «Бубновый Валет» на данном диспуте не было возможно.
После лекции, по ходатайству председателя, представитель полиции дал, в виде исключения, право голоса самому Репину и его ученику г. Щербиновскому.
Таким образом на диспуте говорили: И. Е. Репин, г. Щербиновский, Георгий Чулков, А. К. Топорков, Д. Д. Бурдюк и я. Ни одного «Бубнового Валета».
Перед лекцией я имел следующий разговор с И. Е. Репиным. Узнав, что он в аудитории, я направился на верх амфитеатра, где мне его указали. Никогда не видав его в лицо, я спросил: «Не вы ли Илья Ефимович Репин?»
Получив утвердительный ответ, я представился и сказал:
«Очень извиняюсь, что вам, вопреки моему распоряжению, не было послано почетного приглашения» (это было фактически так).
На что Репин ответил мне: «Если бы я его получил, я бы не пошел. Мне не хочется, чтобы о моем присутствии здесь было известно». Затем я поблагодарил его за то, что он пришел лично выслушать мою лекцию, прибавив: «Мне гораздо приятнее высказать мои обвинения против вашей картины вам в глаза, чем вы стали бы потом узнавать их из газетных передач. Предупреждаю вас, что нападения мои будут корректны, но жестоки». На это Репин ответил мне: «Я нападений не боюсь. Я привык». Затем мы пожали друг другу руки, и я спустился вниз, чтобы начать лекцию.
Лекция моя была выслушана спокойно, без перерывов. Только в одном месте, когда я говорил о том, что произведениям натуралистического искусства, изображающим Ужасное, – место в паноптикуме, кто-то из кружка Репина крикнул: «Как глупо!» Когда на экране появился портрет Репина – ему была устроена публикой овация. Когда я закончил свою речь, раздались аплодисменты, перемешанные со свистками. Было ясно, что одна часть публики сочувствует Репину, другая – идеям, высказанным мною.
С этого момента я перестаю быть активным действующим лицом диспута и становлюсь только слушателем и зрителем происходящего. Следовательно, из области объективной правды перехожу в область субъективных свидетельских показаний.
Когда во время антракта выяснилось, что вся публика уже осведомлена, что И. Е. Репин находится в зале и что пристав разрешает слово самому Репину и его ученикам, то член «Бубнового Валета» художник Мильман подошел к Репину и предложил ему отвечать мне. Когда Репин поднялся на верху амфитеатра, чтобы говорить, вся публика повскакивала со своих мест, а председатель А. Б. Якулов предложил ему спуститься вниз на кафедру, чтобы лучше быть услышанным. Замешательство и крики «сойдите на кафедру», «пусть говорит с места» длились несколько минут. Речь И. Е. Репина сохранилась в моей памяти в таких отрывках:
«Я не жалею, что приехал сюда… Я не потерял времени… Автор – человек образованный, интересный лектор… У него прекрасный орган… много знаний… Но… тенденциозность, которой нельзя вынести… Удивляюсь, как образованный человек может повторять всякий слышанный вздор. Что мысль картины у меня зародилась на представлении Риголетто – чушь! И что картина моя – оперная, тоже чушь… Я объяснял, как я ее писал… А обмороки и истерики перед моей картиной – тенденциозный вздор. Никогда не видал… Моя картина написана двадцать восемь лет назад, и за этот долгий срок я не перестаю получать тысячи восторженных писем о ней, и охи, и ахи, и так далее… Мне часто приходилось бывать за границей, и все художники, с которыми я знакомился, выражали мне свой восторг… Значит, теперь и Шекспира надо запретить?.. Про меня опять скажут, что я самохвальством занимаюсь…»
Говоря это, Репин как бы всё больше и больше терял самообладание. Сколько помню, затем он говорил об идее своей картины, о том, что главное в ней не внешний ужас, а любовь отца к сыну и ужас Иоанна, что вместе с сыном он убил свой род и, может быть, погубил царство. «И здесь говорят, что эту картину надо продать за границу… Этого кощунства они не сделают… Русские люди хотят довершить дело Балашова… Балашов дурак… такого дурака легко подкупить…»
На этом кончилась речь Репина. С появлением на кафедре его ученика г. Щербиновского бурная атмосфера начала еще более сгущаться.
Он говорил о том, что не может молчать, когда его гениальный учитель плачет, когда он ранен. «Мне пятьдесят пять лет, а я младший из учеников Репина, я мальчишка и щенок…» Затем он сравнивал Репина с Веласкесом. Говорил, что рисунок есть понятие, никакими словами не определимое, что «искусство – это такая фруктина…» и т. д. Восстанавливать содержание его речи я не берусь.
Выступивший вслед за ним Д. Д. Бурлюк говорил очень сбивчиво. Выход Репина, покинувшего аудиторию при овациях со стороны публики, перебил его речь. Он спутался и заявил, что чувствует себя нехорошо и будет продолжать речь после.
Вслед за Бурлюком говорили Георгий Чулков и А. К. Топорков, оба официальных оппонента, принявшие участие в диспуте по моей просьбе. Их слова я привожу в собственном их изложении.
Речь Г. И. Чулкова:
«Не без некоторого смущения, господа, выступаю я сегодня на этой кафедре. Дело в том, что я предполагал высказать мои мнения о теории кубизма и о значении новейшей школы живописи; я думал, что несчастный случай с картиной И. Е. Репина послужит лишь поводом для выяснения наших эстетических разногласий. Этого, к сожалению, не случилось. Весь интерес сегодняшнего диспута был сосредоточен на психологическом конфликте, который возник в нашем обществе с неожиданной остротой, и я чувствую неуместность теоретического выступления при подобных обстоятельствах. Я думаю, впрочем, что конфликт этот имеет и принципиальное значение. Несмотря на то, что современная эстетика решает вопрос о форме и содержании в том смысле, что эти два начала отождествляются в живом искусстве, я склонен думать, что именно эта тема и служит предметом спора. В самом деле, сторонники новейшей школы живописи, приняв эту эстетическую теорему за аксиому, интерпретируют ее как безусловное подчинение содержания форме. И, напротив, сторонники репинского искусства высказываются за примат содержания. Я думаю, что эстетические категории формы и содержания можно принять лишь условно. Вне художественной формы нет искусства, но не всякая форма, даже удачно найденная, значительна в отношении своего содержания. А между тем эволюция новой французской живописи, от которой в столь явной зависимости находятся молодые русские художники, определялась почти исключительно принципами формальными, развитием метода и техники. Этим определялся пленэризм, импрессионизм, пуантилизм, дивизионизм и, наконец, кубизм. Правда, отдельные высокие художники, как, например, Гогэн или Ван-Гог, выходили за пределы внешних предуказаний метода, но не случайно, вероятно, один бежал из Парижа на таитянские острова, а другой погиб, сошел с ума, как наш гениальный Врубель1. Я не поклонник репинского искусства, но я не могу не ценить искреннего стремления этого художника к содержательному искусству, хотя должен признаться, содержание его картин мне не представляется значительным. И, с другой стороны, я не могу не видеть несовершенств его рисунка и порою неудачных живописных замыслов. Остроумный критический анализ картины Репина, сделанный М. А. Волошиным, во многих отношениях справедлив. Но надо быть справедливым до конца. Репина нельзя рассматривать в плане современности. В наши дни приходится смотреть на его творчество лишь ретроспективно, исторически. Забудем ли мы его значение для истории нашей русской культуры? Смешно сравнивать его с Веласкесом, но крупный и страстный талант его очевиден. Еще раз считаю своим долгом выразить сожаление и удивление по поводу того, что представители „Бубнового Валета“, среди которых есть талантливые художники, в третий раз устраивая публичные диспуты, не могут почему-то не только обосновать свою эстетическую программу, но даже формулировать точно свои тезисы. А между тем в этом направлении нечто сделано на Западе. Я могу указать хотя бы на книжку „Du cubisme“, авторы которой, Albert Gleizes и Jean Metzinger2, сумели оправдать в известной мере свою эстетику. Почему молчат „Бубновые Валеты“? Они презирают теорию? Тогда не надо устраивать теоретические диспуты. Впрочем, Пушкин сказал однажды: „Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата“3. То же, вероятно, можно сказать и о живописи».
Возражения А. К. Топоркова:
«Критика М. А. Волошина основана на различии и противоположении понятий натурализма и реализма. Первый есть изображение внешнего, случайного, несущественного, второй – изображение внутреннего, существенного, необходимого. Насколько такой метод может быть правилен в абстракции, настолько же он мне кажется недостаточным при конкретном рассмотрении художественного произведения, ибо всякое истинное художественное произведение есть некая Целость, обнимающая множество соподчиненных моментов, различаемых отвлекающим рассудком, но единых в едином эстетическом созерцании. Подобно тому как в пере павлина, одном и том же, глаз усматривает бесконечное многообразие оттенков, переходящих один в другой, так же и созерцание художественного памятника есть усмотрение бесконечности заложенных в нем ценностей. С этой точки зрения натурализм и реализм не только не противоположности, но необходимо требуют и взаимно переходят друг в друга. В самом внешнем мы усматриваем внутреннее, которое в этом внешнем проявлении реализуется, сквозь облик мы зрим самую вещь, как она есть в себе. Натуральное, в полной свой выявленное™, содержит реальное, символическое и даже мистическое. Лучшие страницы Льва Толстого могут служить тому достаточным примером.
Точно так же и в разбираемой картине, может быть, прежде всего бросается в глаза ее беспощадный натурализм. Картина есть изображение несчастного случая, результата внезапной вспышки гнева. Но за несчастным случаем, за ужасом голого факта, вскрывается трагедия человеческого бытия вообще. В жестах, позах, в сцепленности изображенных лиц обнаруживается любовь несчастного отца, незлобивое прощение жертвы. Здесь трагедия всех людей, их роковой разъединенности в злобе и вражде и соединения в любви.
Мне кажется поэтому, что референт слишком аналитически подошел к картине и что ее живое единство, ее душа осталась чуждой критику».
После окончания речи Топоркова снова говорил Д. Бурлюк. Привожу его слова в собственном его изложении, сделанном по моей просьбе:
«Краткое изложение моей речи на диспуте „Б. В.“ 12-го февраля.
М. Г.! Картина, как и человек, имеет свое рождение, жизнь и смерть. Часто это протекает спокойно, без катастроф, но иногда жизнь пресекается каким-либо несчастным случаем. Это маленькое рассуждение может служить утешением в катастрофе, постигшей картину Репина. Вывод: на порезанную картину надо смотреть как на несчастный случай. Балашов сумасшедший (Репин ушел в этом месте моей речи) – а всякие подозрения „декадентов“, главарей нового искусства, – „мания преследования“. Господин Волошин рассмотрел, как литератор, картину Репина с точки зрения ценности художественной – как психологический документ, главным образом, с точки зрения ее реальной убедительности; я же хочу высказаться о ней как живописец, причем поделюсь с Вами замечаниями о картине „Иван IV“ профессора Анатолия Ландцерта4 (1885). Здесь мною опускаются, конечно, эти цитаты: из „авторитета“ не только для нас, но и для „самого“ Репина.
Эти анатомические „безграмотности“, лишающие картину, конечно, навсегда ореола „шедевра“ и „классического произведения“, наводят нас на мысль-вопрос: почему Репин, талант, человек больших способностей, не смог написать картины, стоящей вровень с классиками – Леонардо, Рафаэль и др.
Ответ ясен: те были продуктом своего времени, они были новаторами – выразителями эпохи, их искусство не было подражанием, копией – их искусство не было мертвым, выродившимся академизмом.
Репин же, идя всю жизнь на помочах академии („Дочь Иаира“5), никогда не отдавался свободно своей склонности. Всю жизнь он смотрел на природу сквозь мутные очки чужих знаний. Его искусство – „копия“, а таковая всегда ниже „оригинала“, т. е. ниже „классических“ образцов (его, репинского, академического искусства).
Переходя к заключению, можно указать на счастливых художников, избегающих „анатомических“ ошибок, на художников, чье искусство стоит не ниже искусств „великих эпох“. Это – новаторы Франции и России: Брак, Пикассо, Фоконье, Машков, Кончаловский, В. Бурлюк („Бубновый Валет“) и многие другие.
Можно пожелать безопасный путь, дабы не попасть в положение Репина, не заниматься старым искусством, а отдаться „свободному“ творчеству искания, не копаться в пыли и знаниях прошлых веков, а смотреть на природу, забыв об искусстве предшественников, любить только ее и одну ее чтить.
Помнить, что „я“, „мое личное переживание“ – это единственно важное и ценное (как стимул, как цель).
Заключил сравнением – неясности нежной грядущей весны и той торжественностью обещаний, коя заключена в „молодом“ искусстве.
Давид Давидович Бурлюк».
В заключение диспута я, обращаясь к публике, сказал: «Прежде всего я хочу поблагодарить И. Е. Репина, хотя теперь и заочно, так как он уже покинул аудиторию, за то, что он сделал мне честь, лично явившись на мою лекцию. К сожалению, отвечая мне, он совсем не коснулся вопросов моей лекции по существу: он не ответил ни на устанавливаемое мною различие реального и натуралистического искусства, ни на поставленный мною вопрос о роли ужасного в искусстве. В последнем же вопросе, нарочно подчеркиваю и упираю на это, заключается весь смысл моей лекции и моих нападений на картину Репина».
Затем я в кратких словах отвечал Топоркову на его критику моего деления реального и натурального и Чулкову на вопрос о значении кубизма, не касаясь больше ни Репина, ни его картины.
Так прошел фактически диспут «Бубнового Валета».
На следующий день начинается процесс преображения действительности в хроникерских отчетах. Свидетели начинают путать, кто за кем гнался: арлекин за негром или негр за арлекином. В начале уклонения от правды только в освещении моих слов.
«„Бубновый Валет“ устроил вчера в Большой аудитории Политехнического музея диспут, посвященный пострадавшей недавно от руки Балашова картине Репина. Аудитория была переполнена. Беседа, в которой принял участие и сам И. Е. Репин, прошла при повышенном настроении аудитории, при сменявших друг друга аплодисментах, шиканьях, взрывах смеха.
Доклад о картине Репина прочел М. Волошин. С большой самоуверенностью г. Волошин произвел полный „разнос“ знаменитой картины, нашел, что в ней дана неестественная, театрально-оперная компоновка фигур, что выкатившиеся глаза Грозного могут встретиться только у женщины, страдающей базедовой болезнью, лицо же убитого сына напоминает грим театрального тенора, что льющаяся кровь походит на клюквенный сок и т. д. Тем не менее, – довольно неожиданно после всех этих реплик, – докладчик признал, что картина производит потрясающее впечатление. Но, по его мнению, это – не искусство; впечатление от картины – только вредное; творчество Репина, по мнению докладчика, не реалистично, а натуралистично. Истинный реализм, это – символизм, импрессионизм и т. д., вплоть до кубистов; то же, что обычно именуется реализмом, следует назвать натурализмом, которому место не в искусстве, а в театре ужасов и анатомическом музее.
В конце доклада после картины Репина на экране был показан портрет художника. И публика разразилась громовыми аплодисментами в честь художника. Докладчик, видимо, был смущен таким результатом своего „разноса“ репинской картины, но оправился и, повысив голос, заявил в заключение, что картину следовало бы убрать из национальной галереи и передать куда-нибудь в паноптикум.
В ответ послышались протесты и шиканье, смешивавшиеся с аплодисментами художников „Бубнового Валета“».
(Русские Ведомости).6
Другая газета пишет более определенно:
«В Большой аудитории музея собрались „бубновые валеты“:
Развенчивать Репина.
Гостящий сейчас в Москве И. Е. пожелал присутствовать при „надругании“ над ним.
Вошел в аудиторию в сопровождении реставратора Д. Ф. Богословского, художников И. К. Крайтора и Комаровского. Скромно занял место на одной из верхних скамей амфитеатра. Добродушно улыбаясь, слушал доклад…
Трудную задачу „разъяснить“ Репина взял на себя Максимилиан Волошин.
Докладчик вначале же отмежевался от „валетов“.
Но общий „враг“ нашелся.
Картина Репина „Иоанн Грозный“.
– В то время, – утверждает М. Волошин, – как новая живопись, начиная с импрессионизма, реалистична, творчество Репина остается натуралистическим. А натурализм при изображении ужасного только повторяет несчастные случаи, копируя их.
– Не Репин – жертва Балашова, – восклицает докладчик, – а Балашов – жертва репинской картины.
И с пафосом заканчивает:
– За 30 лет картина Репина принесла много вреда. И надо докончить дело, начатое Балашовым, не в смысле физического уничтожения картины, конечно. Ей не место в национальной картинной галерее! Третьяковская галерея поступила бы благоразумно, если бы пожертвовала ее в большой паноптикум!.. В отдельную комнату с надписью: „Вход только для взрослых!..“»
(Раннее Утро). 7
Но это показания очевидцев, лично присутствовавших на диспуте.
На второй день начинается следующая стадия. Выражают свое мнение те, что на лекции не присутствовали, а прочли отчеты об ней. Действительность получает вторичное преображение:
«…Третьего дня, во вторник, в Москве произошло явление, по реальным последствиям бесконечно меньшее, чем исполосование репинской картины, но по своему внутреннему содержанию гораздо более отвратительное.
Третьего дня в аудитории Политехнического музея состоялась радостная пляска диких по случаю нападения на картину, надругательства над ее автором…
То, что произошло третьего дня, было безмерно постыднее, гаже, оскорбительнее, чем неосмысленный поступок безумного Балашова.
Честный и прямой Отелло говорит о том, что не нужно бояться слов: если гнусно самое явление, то и рассказывать его нужно „словами гнуснейшими“8. И я чувствую, что того, что совершили третьего дня господа Волошин и компания, никоим образом деликатными словами не передашь.
Да и не довольно ли деликатничать? Деликатность – вещь прекрасная, но она может перейти в равнодушие; деликатность одних создает разнузданность других. Потом, деликатничать можно за свой собственный счет, но не за счет другого: обиду, нанесенную лично мне, я могу, я должен простить, но обида, нанесенная, например, старику-отцу, но самодовольные издевательства над ним… как простить это?
И если можно простить и тут, то издевательство над духовными ценностями не прощается вовсе: всё простится, кроме хулы на Духа Святого.
Меня вовсе не интересует, признает ли г. Волошин Репина художником, который в течение более сорока лет стоял во главе русского искусства, создав в нем эру, или ему угодно считать его за бездарного маляра, – мнение г. Волошина меня мало интересует просто потому, что я не знаю, какие у г. Волошина права на то, чтобы провозглашать в области живописи свои приговоры.
И никто этого не знает, и все знают, что он такой же дилетант в живописи, как и множество других.
Но шум произвести было необходимо, и вот устраивается диспут.
Не угодно ли пожаловать сюда всем, желающим лягнуть стареющего льва. Приходите, не стесняйтесь! Г. Бурлюк? И г. Бурлюк пожалуйте. Конечно, мне в своей речи придется от вас отмежеваться, ибо, прежде всего, вы глубоко невежественны и не так чтобы очень умны, но вы нам чрезвычайно подходите, потому что никто с такою полнотой самодовольного невежества, как вы, не будет ругать и Репина, и всех, кто не предается вместе с вами вашему красочному блуду. Когда люди объединяются во имя такого почтенного дельца, им не приходится быть разборчивыми в выборе союзников. Милости просим.
И пришли.
Поймите, не в том же дело, что у г. Волошина на Репина свой взгляд, а в том, что г. Волошин нашел как раз своевременным обрушиться на художника именно в тот момент, когда после долгой, всецело отданной творчеству деятельности художника ему нанесена такая же рана в сердце, какая нанесена его Грозному.
Представьте, что у человека искалечили сына. Придите к нему и начните ему доказывать, что так этому сыну и надобно, что ничего другого он и не заслуживал.
Вы этого не сделаете, потому что понимаете, что вам всякий имеет право ответить:
– Убирайтесь вон! Вы или до последней степени глупы, или совершенно лишены чувства такта.
Господа Волошин и компания собрали публику, много публики, – сколько среди нас бегающих на всякий скандал!
Пришел и Репин.
В честь его, конечно, могли бы быть устроены собрания для выражения сочувствия, но этого мы сделать не сумели, и вместо этого Репин пришел слушать, как люди будут издеваться над его картиной, над его талантом, требовать передачи картины в балаган, кричать по адресу ранившего картину Балашова:
– Добей ее!
Семидесятилетний старик, давший стране только то, что дал ей Репин, только что переживший тяжкую душевную муку, вероятно, всё-таки не предвидел такого разгула разнузданности.
Разве можно было предвидеть?
У вас случилось тяжкое горе. Вы знаете, что люди обыкновенно на горе отвечают выражением сочувствия. Разве вы можете предвидеть, что они явятся и начнут с звериным сладострастием колотить вас по незажившей ране?
– Так тебе! Так тебе! Мало, получай больше!
Неужели это не позор для всего нашего времени?
Но там была публика. Неужели она считает себя оправданной тем, что аплодировала не только Волошину, но Репину? Неужели она вправе была допустить глумление над художником и его произведением, которые только что подвергались огромной опасности?
Да, и Репин подвергался огромной опасности. Или вы думаете, что художник не может умереть от того, что вонзают нож в его создание?
Как могла допустить это публика.
Ее оправдание – в растерянности, той самоуверенности, с которой гг. Волошины и Бурлюки захватывают себе право глумления.
Но я верю в то, что она, публика, тяжко страдала.
Был в этом отвратительном вечере момент, которого не решились отметить референты, но отметить необходимо. Собственно говоря, это был момент, вызванный недоразумением, но недоразумение это в высшей степени знаменательно.
Когда Репин не выдержал и встал, чтобы ответить, послышались голоса:
– Идите на эстраду! идите туда!
Растерявшемуся художнику показалась чудовищная вещь: ему показалось, что его гонят, и он сказал:
– Если вы не хотите меня слушать, – не надо. И из его глаз покатились слезы.
Слушайте, разве можно перенести это?! Пускай художник ошибся, но вы понимаете, какова должна быть атмосфера, в которой возможна такая ошибка. Этих репинских слез, господа Волошины, вам не простит никто и никогда.
Репин говорил, Репин отвечал. Взволнованно, спутанно, неловко… Он не был подготовлен, он был слишком глубоко обижен, он был честен и искренен: не сумел надеть на себя маски презрения, не сумел притвориться равнодушным, не хотел притворяться.
От этого было еще более мучительно.
Как вы смеете плакать?! Какое право имеете вы доставлять торжество этой ликующей, праздно болтающей плесени? Вы должны помнить, как величайший завет:
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.9
– Родной, любимый, как смеете вы принимать это близко к сердцу!
Но одно дело – создавать заветы, а другое дело – оставаться им верным, когда происходит нечто безобразно-неожиданное, когда вас распинают.
„Ты – царь. Живи один“.
Но ты и ребенок, художник. Ребенка в художнике всегда гораздо больше, чем царя; обидеть художника так же легко, как ребенка, но замученные дети и замученные художники – позор не только для мучителей, но и для всего времени их.
Когда происходит ужас мучительства, необходимо протестовать. Когда это делают, прикрываясь высшими соображениями, тогда это постыдней во сто крат.
Если мы ответили Репину взрывом сочувствия по поводу поступка не ведавшего, что творит, больного Балашова, то теперь, когда художнику нанесена новая, неизмеримо более тяжкая и сознательная обида, – теперь я зову откликнуться на нее всех, кто понимает, чем мы обязаны перед талантом вообще и перед Репиным в частности.
Я шлю художнику свое горячее благодарное, взволнованное сочувствие и знаю, что ко мне присоединится великое множество людей.
Необходимо, чтобы их голоса были услышаны».
(«Русское Слово»: Сергей Яблоновский). 10
Теперь становится совсем трудно определить, кто за кем гнался: арлекин за негром или негр за арлекином. Что выстрел был – это уже вне сомнения. Его все слышали своими ушами. На третий день те, что не были на лекции, не читали отчетов, а читали только статьи, написанные на основании отчетов, дают уже такие свидетельские показания:
«В лапы дикарей попал белолицый человек…
Они поджаривают ему огнем пятки, гримасничают, строят страшные рожи и показывают язык.
Приблизительно подобное зрелище представлял из себя „диспут“ бубновых валетов, на котором они измывались над гордостью культурной России – И. Е. Репиным.
Его детище – всемирно известную картину изрезал ножом безумец.
70-летний художник бросил свою семью, решился на утомительное путешествие, приехал в Москву, чтобы залечить раны, нанесенные картине.
Казалось бы, что в Москве его должны были встретить с чувством глубокой благодарности… Но что же?
Его грубо, цинично оскорбляют: – Вашу картину надо подарить в паноптикум… В преступлении Балашова обвинили… Репина же»… («Театр»).11
Волна общественного негодования всё растет. Статьи пишутся в состоянии какого-то исступления, в судорогах и с пеной у рта:
«Так ему, Репину, Илье Ефимовичу, и надо! Он получил на диспуте „Бубнового Валета“ урок, который заслужил.
В самом деле. Не можете же вы требовать, чтобы скотный двор, куда вы попали, благоухал каким-нибудь тонким Амбрэ-Рояль?!
На скотном дворе свои ароматы.
И Репин, отправляясь на диспут „Бубнового Валета“, должен был знать, чего он вправе ожидать от господ „кубистов“.
Существуют разные породы сумасшедших. Просто сумасшедшие, сумасшедшие в квадрате и „славные вожди русского кубизма“, Бурлюки и им подобные. Это – сумасшедшие в кубе.
От них-то великому Репину и пришлось услышать, что изумительным произведениям его кисти место не в национальных музеях искусства и картинных галереях, а в паноптикуме.
Притом не на виду, а где-нибудь в задней комнатке, у входа в которую красуются надписи:
„Только для взрослых“. „По пятницам – для дам“.
Оказывается, не психопат Балашов испортил знаменитого репинского „Иоанна“ из Третьяковской галереи, а сам Репин, своей уродливой мазней, погубил и этого Балашова и многих других.
И если на этом бредовом диспуте попутно не досталось и главному виновнику, покойному коллекционеру Третьякову, то лишь потому, что мертвые срама не имут.
Но доживи П. М. Третьяков до наших дней, и Волошины с Бурдюками показали бы ему, где раки зимуют.
Репин, Брюллов… Веласкес, Леонардо да Винчи, Тициан, Рембрандт, наконец, сам Рафаэль… – Кто это? Что это?
„Погань“, „нечисть“, которую Бурлюки давно сбросили с „парохода современности“.
„Пароход современности“ – это не мое выражение, а всё тех же „волошиноватых“ или „бурлюлюкающих“, как хотите.
В своем сумасшедшем в кубе альманахе – „В защиту свободного искусства“, для оригинальности озаглавленном:
„Пощечина общественному вкусу!“ –
Бурлюки, не стесняясь, заявляют:
„…Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов.
А потому бросьте с парохода современности Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч.“12
Под этим небрежным, почти презрительным „и проч. и проч.“ разумейте: Гоголя, Тургенева, Гончарова, Островского, Грибоедова…
…Ну, словом, всякую прочую, тому подобную „рвань“ и „заваль“.
И ведь выдержала бумага, на которой печаталась эта бурдючная ересь, а сами Бурлюки, – удивительно и непостижимо! – не поперхнулись, – черт знает что такое!
К „пощечине“ здравому смыслу, виноват, – „общественному вкусу“, я еще вернусь, – юродивая книга юродивых людей стоит этого, – сейчас же скажу несколько слов всё о том же диспуте „Бубнового Валета“, на котором опозорил себя Репин.








