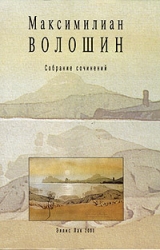
Текст книги "Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков"
Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
В «La loi de l'homme» он уже отходит от «развода», а трактует закон вообще как закон, созданный мужчиной и направленный к порабощению женщины.37
Таким образом, закон Накэ, лишая театр той темы, на которой были построены пьесы Дюма-сына, открыл целый рудник новых положений. Он придал, между прочим, новое значение тому драматическому персонажу, который издавна играл большую роль во французском театре – особенно в романтической мелодраме: ребенку. Теперь ребенок получает смысл нового драматического узла. Его присутствие уничтожает все благодетельные последствия закона о разводе: прежнюю трагическую безвыходность внешних уз переносит в область родительского чувства и этим дает новое богатство драматических завязей. Еще Ожье в «Madame Cervelet»38 выдвинул ребенка как драматический узел. В «Les tenailles» он еще не имеет первенствующего значения, но в «La loi de l'homme» весь интерес драмы уже сосредоточен на ребенке. В «Dedale»39Эрвье жизнь родителей подчиняется этой рождающейся жизни.
Так узел семейной драмы постепенно переносится с «закона» на более жизненную, более органическую почву.
Ребенок служит узлом и в «Berceau»40 Бриё, и в «Le torrent»41 Мориса Доннэ, и в «Deserteuse» Бриё, и в «Bercail» Бернстейна, и в «Maman Colibri» Батайля, и в «Le coeur et la loi»42 бр. Маргерит. Последняя пьеса уже прямо выступает против существующего закона о разводе и требует его пересмотра и отмены параграфа о согласии обоих супругов.43
«Какую дорогу прошли мы с тех романтических драм, в которых появлялись свирепые мужья, убийцы своих жен и их любовников, проходившие по сцене с криками о мщении!»44 – восклицает Жюль Берто.
Вот приблизительная и краткая схема тех изменений, которым подвергалась та единая и неизменная пьеса об адюльтере, которая с первого взгляда наполняет весь французский театр. Мы коснулись только чувствительных кончиков нервов, от которых трепет идет по всей необъятной и темной толще современного французского репертуара.
Все эти «pieces a these»,45 построенные с мастерской логикой католической проповеди и адвокатской речи, превращенной в диалог действующих лиц, сами по себе не могли бы иметь художественного значения, если бы они не были связаны с законченным и совершенным организмом французской сцены, с творческим исканием французского актера и с насущными потребностями зрительной залы.
Театр действующий, театр жизненный требует от драматурга основной темы его эпохи: логики действия, логики жизненных положений, логики страсти, логики характеров, логики событий – логики, логики, одной драматической логики. А сцена создает на этой основе весь трепет жизни. Драматург дает только общие типы людей (т. е. опять-таки чистую логику индивидуальностей), актер же творит им лицо и всю иррациональную сложность жизненности.
Поэтому наравне с эволюцией театральных тем идут Целые династии актеров, которые являются живыми воплощениями поколения своей эпохи. В типы они вливают свой характер. Они сливаются со своими ролями настолько, что художественный смысл пьес теряется, когда они уходят со сцены. Французский театр – явление крайне сложное и основанное на встрече и на равновесии стремлений актера, поэта и зрителя.
Пьесы, отмеченные наиболее полным и глубоким успехом, сами по себе могут не иметь литературного значения; самые великие актеры погибают вне своего репертуара, вне своего автора. И наконец, и то и другое имеет свой смысл лишь пред парижской публикой точной исторической эпохи.
Три действительных единства, на которых так крепко стоит французский театр, это: драматург, актер и публика. Если устранить хоть одно из них, то утрачивается смысл. Эта исключительность – признак высокого совершенства и законченности искусства.
Проскальзывавшее и у Фагэ и у Поля Гзеля сравнение театральной пьесы с ловко сшитым платьем глубоко верно в своей сущности. Пьеса во все времена была во Франции костюмом для того или иного актера. Костюмы эти, конечно, покупаются в магазинах готового платья, но у крупных актеров они всегда сшиты на заказ у первоклассных драматических портных. При той тесной спаянности актера, автора и публики, которая существует во французском театре, в этом нет ничего оскорбительного, ничего неестественного для искусства. Вначале бывает так, что актер открывает самого себя в уже существующей драме, как Бокаж открыл себя в «Ашопу», а Режан в «Amoureuse»,46 но затем, раз он уже утвержден как средоточие всех нервных сил своего поколения, то естественно, новые драмы кроятся и шьются по его фигуре. Таким образом достигается то тесное, то абсолютное слияние актера и драматического произведения, при котором театр перестает быть отражением жизни, а становится ее прообразом. Созданное на сцене переходит в жизнь. Тип, утвержденный на подмостках, множится на бульваре и на улице. Театр в Париже всегда был продавцом масок. В этом – его насущное, его жизненное значение.
Мысль о том, что искусство влияет на жизнь больше, чем жизнь на искусство, казалась Оскару Уайльду новым и дерзким парадоксом.47 Между тем как во Франции эта же мысль казалась естественной гораздо раньше. Вот что писал Сент-Бёв за сорок лет до Оскара Уайльда:
«Мы живем в такую эпоху, когда общество несравненно больше подражает театру, чем театр обществу. Что можно было наблюдать в тех скандальных и карикатурных сценах, которые последовали за февральской революцией? Повторение на улицах того, что уже было сыграно в театре. Площадь серьезно пародировала сцену. „Вот проходит моя история революции“, – говорил один историк, когда под его окном дефилировала одна из революционных пародий. Другой мог бы сказать с таким же правом: „Вот это совершается моя драма“. Одна черта поражала меня среди всех в этих удивительных событиях, значение которых я нисколько этим не хочу уменьшать, это сквозивший во всем характер подражательности и при том литературной подражательности. Чувствовалось, что фраза предшествовала. Обычно, казалось бы, литература и театр пользовались большими историческими событиями для того, чтобы их восславлять и выражать; здесь же живая история начала подражать литературе. Одним словом, ясно, что много вещей не совершено только потому, что парижский народ видел в воскресенье на бульваре такую-то драму или слышал, как читалась вслух в мастерских такая-то история».48
Каждая из эпох французского театра выдвигала на сцену героя или героиню любви, которые становились прототипами целых поколений. Тип Дон-Жуана, тип «покорителя сердец», тип неотразимого для женщин героя, менялся с каждым поколением. Он отражал идеал «обаятельности» своего времени и создавал его. Вместе с ним, постоянно соответствуя ему, менялся и тип «Grande amoureuse».49 Это было постоянное творчество вечно живых, идущих вровень со своим временем масок, обмены жизни и искусства, равномерно усиливавших друг друга.
Ниже его был обычный тип «первого любовника», оперный трафарет, который никогда не менялся. Выше – больший трагический герой, менявший свой лик, но медленно, так как он отражал не реальные идеалы чувственной жизни, а отвлеченные идеалы пафоса. Его ступени: Тальма, Фредерик Леметр, Мунэ-Сюлли, а с другой стороны – m-lle George, Рашель, Сара Бернар.
И тот и другой тип выходили из граней аналитического – жизненного творчества. Между тем как «L'Homrne a femmes» и «La grande amoureuse» всегда отвечали трепету данной минуты, насущной потребности жеста данного мгновения.
Для театра романтического такими актерами были Бокаж и Мария Дорваль.
Бокаж «La beau tenebreux»[72]72
«Таинственный красавец» (фр.).
[Закрыть], с бледным, худым, костистым лицом, с густыми бровями, молнийными глазами и длинными черными волосами был живым воплощением байронического типа романтизма, настоящим трагическим любовником.50 Он создал «Апйопу», или скорее в «Antony» в первый раз создал самого себя. А затем уже все новые пьесы Дюма-отца строились по его типу, и весь романтический театр кроился на его фигуру. Другие современники его, как Фирмэн, создатель «Hernani», могли быть только слабыми подобиями его.
Идеал же романтической героини нашел свое полное воплощение в Марии Дорваль. Эти романтические актеры отдавали сцене не искусство, а самих себя целиком. Мария Дорваль, говорят, всем нутром каждый раз переживала все коллизии романтических драм и плакала такими неподдельными слезами, что Фредерик Леметр, играя вместе с нею, сам не мог удержаться от действительных слез.51 Для романтической драмы такая игра была необходима: сама по себе она была настолько условна и нечеловечна в своих страстях, что надо было не искусство, а живого человека целиком, чтобы восполнить ее пустоты, чтобы заставить действительно жить и трепетать ее формы. В том поколении оказались такие актеры, и это свидетельство того, что романтический театр всё же соответствовал жизненным реальностям. Но он буквально убил своих воплотителей и сам умер вместе с ними к 1848 году.
На смену приходит грациозный и изящный театр Мюссе. Воплощение его героям дают Брендо и Брессан, которые становятся образцами элегантности для общества своего времени. «Никакой другой актер, – говорит Легуве, – не умел кидаться на колени перед дамой с большею страстью. Брессан в „Par droit de conquete“, делая свое признание m-me Мадлэн Броган, сопровождал его коленопреклонением, полным огня и грации. Когда Febvre, несколько лет спустя, взял эту роль, он мне сказал, что не может подражать Брессану, что он не сумеет это сделать, что он будет чувствовать себя в этот момент смешным. И он был прав. Вкусы изменились. Театр Мюссе был слишком утончен, чтобы иметь глубокое и жизненное значение. Актер Делонэ устанавливает связь между театром Мюссе и театром Пальерона, Скриба и Ожье. В нем падение элегантности, но уже приближение к новому реализму, к моралистическому и более грубому театру Дюма-сына».52
Жизненность театра Дюма-сына укрепилась на целом ряде крупных женских темпераментов. С ним неразрывно связаны имена Круазет, Дош и Десклэ.
M-me Дош сделала для «Dame aux camelias» то же, что Бокаж в свое время для «Antony». Интересно проследить на этой знаменитой пьесе взаимодействие жизни и сцены. Моральная тема, которая легла в основу драматической завязи «Dame aux camelias», та же, что в истории Манон Леско и кавалера де-Грие.53 Этим она тесно связуется с основными моральными вопросами французской литературы.
Непосредственным же впечатлением, вызвавшим сперва роман, потом пьесу того же имени, была для Дюма фигура, судьба, а главным образом наружность Мари Дюплесси, известной куртизанки второй империи.
«Раз увидавши, – рассказывает Поль де Сен-Виктор, – невозможно было забыть это лицо, овальное и белое, как совершенная жемчужина, эту бледную свежесть, этот рот детский и благочестивый, эти ресницы тонкие и легкие, как штрихи тени. Большие темные глаза без невинности одни протестовали против чистоты этого девичьего лица и еще, быть может, трепетная подвижность ее ноздрей – открытых, как бы вдыхающих запах. Тонко оттененная этими загадочными контрастами, эта фигура, ангельская и чувственная, привлекала своею тайной».54
Мари Дюплесси умерла от чахотки медленно и красиво на глазах всего Парижа. На аукционе после смерти вещи ее были раскуплены за бешеные деньги, как сувениры. Соединение этого лика падшего серафима с темой «Манон Леско» создало драму Дюма. Но нужно было, чтобы явилась m-me Дош, до той минуты хорошая, но средняя артистка, чтобы создать из Маргариты Готье тот идеал женственности, который надолго определил пути любви во французском обществе. Новая красота, созданная m-me Дош, была истинным откровением для людей той эпохи. «Никогда Ари Шеффер, – писал Теофиль Готье, – не клал на кружевную подушку головку более идеально бледную и просвечивающую душой. Эта надрывающая грация, это горестное очарование приводят в восторг и делают больно. По высоте это равно агонии Клариссы Гарлоу и Адриены Лекуврер, если не превосходит их».55
Сам Дюма писал: «Я мог бы сделать только одно замечание m-me Дош. Именно то, что она играет эту роль таким образом, точно она сама написала ее. Такая артистка уже не исполнительница…».56 Таким образом, одною ролью m-me Дош на несколько десятилетий наметила характер женской очаровательности. В ту эпоху, когда декламация и внешняя поза страсти играли в театре еще очень важную роль, она явилась предтечей той интимной и простой игры, которую мы оценили только в Элеоноре Дузе.
Дюма оставил такой портрет другой воплотительницы своего театра – Десклэ.
«Это было удивительное сочетание хитрости, наивности и какой-то прожженности. Вначале у нее не было никакого таланта. Она играла в „Demi-monde“ плоско, вяло и бесцветно, Бог знает кого, Бог знает что. Потом она уехала за границу и исчезла. Я вновь нашел ее в Брюсселе. Я был потрясен. Я заставил ее ангажировать. Она играет „Diane de Lys“, „Princesse George“, „Visite de noce“ – и вот она на первых ролях, на своем месте. Конечно, она в восторге? Совершенно нет. Что было ужасно в Десклэ – это то, что у нее не было никакой любви к своему искусству. Это было мертвое существо, и ее нужно было вызывать с того света. Ее вытаскивали из ее могилы и вели на сцену. Если она оживала, то это было каким-то жутким исступлением, она была гальванизированным трупом. Если не оживала, то не давала ничего – абсолютно ничего. Она была или прекрасной, или ничем. Вы помните ее? Зеленоватая, оливковая, бескровная, совершенно не чувствительная к холоду – привычка могилы. Она выходила со сцены вся потная, подымалась в уборную и посреди зимы раскрывала окно, раздевалась и оставалась полуголая в ледяном сквозняке. Ей говорили: Вы сошли с ума. Вы убиваете себя! – Убить меня? А! Я уже давно убила себя! И она была права. Она не была живой. Это была какая-то этруска. Она умерла четыре тысячи лет тому назад».57 Есть тайное соответствие между Мари Дорваль, начавшей романтический театр, и Десклэ, заканчивающей его. И в то же время в Десклэ уже есть нечто, предвещающее новый декадентский демонизм.
Софи Круазет, аристократка, на несколько лет отдавшая себя сцене, воплотила третью сторону театра Дюма. Она всегда играла только самое себя. В ней парижане впервые научились ценить не актрису, а женщину.
Семидесятые годы были тяжелой и неоформленной эпохой для французского искусства во всех областях. Лишь к началу восьмидесятых годов изгладились следы погрома второй империи, и начались новые движения в искусстве. Актером, создавшим переход от театра Дюма-Ожье к театру Эрвье, был Дю-Баржи.
«Дю-Баржи создал на сцене, – говорит Ларруме, – тип того влюбленного, который скептическую иронию и скупой эгоизм восемнадцатого века переносит в конец XIX века. В тот день, когда у него в руках оказалась роль, написанная Эрвье, он должен был испытать острую радость артиста, который нашел, наконец, то, что может исполнить великолепно. У влюбленных, которых он изображает, холодный ум и невозмутимая ясность сердца. Для них любовь – поединок, в который не следует вносить много страсти, ни отдаваться ему до конца. До них говорилось столько фраз, что они, желая избежать смешного, предпочитают говорить четко и резко. Внешне они элегантны и сдержаны. Холодная жестокость в чувственности, утонченность в любви, режущая ирония в страсти, страшная ясность ума в те минуты, которые, казалось, должны были бы быть минутами самозабвения. Этот тип возник из сухой и режущей логики Дюма-сына. Это шаг приближения к мировому типу Дон-Жуана».58 Торжество Дю-Баржи, подобное созданию Маргариты Готье madame Дош и Антони Бокажем, – это «Маркиз де Приола»59 Лаведана, ретушированный автором специально для фигуры Дю-Баржи.
Сдержанный, страстный и аристократический тип «Grande amoureuse», женский тип, соответствующий типу Дю-Баржи, был создан m-me Bartet.
Уже совсем на пороге настоящего дня французского театра стоит громадная фигура Режан. Она первая дала французскому театру не героиню, а женщину целиком, настоящую, нервную, изменчивую современную парижанку.
Влияние ее на современную французскую сцену неизмеримо. Откровением ее было создание «Атоигеше» Порто-Риша.
«До „Amoureuse“ Режан была не больше чем пикантной жанровой актрисой. В „Amoureuse“ она создала настоящий характер парижанки бульваров, даже предместий. До нее этот тип появлялся на французской сцене лишь в легких набросках. Режан завоевала ему место. В глубине этого нового персонажа лежит тонкость и остроумие. Внешне – дерзость, легкая элегантность, вкус к любовной интриге, иногда способность к страсти. Язык – благируюшая ирония со всем богатством парижских словечек и арго. Она очень женщина. В словах волнующих она скрывает едкую иронию, умеет говорить с насмешкой самые потрясающие вещи, улыбаться, обливаясь слезами, давать оттенки меланхолии самым ясным переливам своего смеха. Это вся гамма любовных желаний, вся сверкающая и трагическая звучность великих страстей на не прекращающейся теме вольного легкомыслия»60 (A. Seche). Теперь французский театр создал уже новые маски. Серьезный тип парижанки с оттенком надрыва горечи встает в воплощении Март Брандес. Еще более трагически и беспокойно звучит у Сюзан Депре. Она даже может передавать героинь Ибсена, что было бы раньше совершенно невозможно для французской актрисы. Всё в ней серьезно и глубоко и не освещено улыбкой. M-me Le Bargy воплотила в себе волевых и умных героинь Бернстейна, Berthe Bady – нервную мечтательность и безвольную инстинктивность героинь Батайля.61 А рядом с ними в области более легкомысленного театра, но, быть может, еще ближе к текущему мигу жизни создали новые маски Полэр и Ева Лавальер. Школьница Клодина,62 вся вибрирующая благородными порывами, внешне извращенная, умная и едкая, и новый, чисто уличный тип сантиментальной простушки – эти маски насущная потребность теперешней парижанки.
Мужская маска современного любовника создана Люсьеном Гитри, Тарридом, намечена Граном и Брюлэ. Наибольшую значительность придал ей Гитри.
«С первого взгляда он почти антипатичен. Он толст, тяжел, порою вульгарен, у него должны быть тяжелые мысли. Жесты его резки. Кажется, что мысль затаилась в нем, чтобы не проявиться никогда. Между тем, наблюдая его вблизи, нельзя не почувствовать странного ощущения силы и упрямства, исходящего от всего его существа. Женщины угадывают его грубость, его возможность помыкать ими и в то же время чувствуют его слишком хорошо воспитанным, чтобы дойти до этого; это позволяет им трепетать в его присутствии, сознавая свою безопасность. Они чувствуют, что раз он возьмет их, то они отдадутся ему совсем и навсегда. В трагической борьбе сердечной жизни он завоевал себе большую власть рассудочности, и в том его главная сила. Он приобрел простоту манер и откровенность речи, которые и производят впечатление на самых отъявленных лгуний и останавливают ложь в их горле»63 (A. Seche).
* * *
Вот длинный путь, пройденный французским театром за полвека от театра Гюго до театра Эрвье, от Бокажа до Люсьена Гитри, от Мари Дорваль до Режан. Эти крайние точки отстоят бесконечно далеко друг от друга, и превращение это кажется совершившимся с необыкновенной быстротой. Между тем, как мы видели, путь этот был совершен последовательно, ступень за ступенью, ни одно звено цепи не было пропущено.
От крайних идеалистических концепций страсти, ни разу не отступая от текущих настроений и сменяющихся мод своей эпохи, французский театр дошел до вполне точного наблюдения и органического слияния с жизнью общества.
Каковы бы ни были тенденции драмы и какие бы тезисы ни защищались на трибуне театральных подмостков, эта синтетическая работа театра, поддерживаемая актером наравне с автором и публикой наравне с актером, шла неуклонно своим чередом, который был путь настоящего всенародного, национального искусства.
И в сущности весь французский театр оставался тою же самой единой пьесой, в которой время от времени делались разные незначительные изменения, как жаловался Теофиль Готье.
II.Драматурги и толпа
В первой части я пытался нарисовать общую картину французского театра за последние три четверти века, наметить пути драмы от романтизма до наших дней и нащупать те нервы, которые делают французский театр искусством, настолько связанным с жизнью, что все важные вопросы морали и обычного права почти неизбежно проходят через алхимическую реторту театрального действа.
Намечая эволюцию французского театра, я считался только с осуществлениями, а не с возможностями и не с долженствованиями.
Французский театр с этой точки зрения имеет вид дешевого базара общедоступных идеалов. В этом сравнении нет ничего унизительного, если подходить к театру не с требованиями вечного искусства, а рассматривая его как характеристику морально-эстетических потребностей общества.
Что может дать более полное представление о городе, как не выставки универсальных базаров и не сюжеты иллюстрированных carte-postal?[73]73
Открыток (фр.).
[Закрыть] Вещь и над ней цена – это точный символ желания вместе с цифрой, определяющей интенсивность его. Цена, сведенная к ее психологической основе, является показателем вкуса публики. Про новую пьесу в Париже спрашивают: «Са fera-t-il de l'argent?»[74]74
Это принесет деньги? (фр.)
[Закрыть] – вопрос, представляющий глубокий смысл, который можно перевести словами: «Осуществлено ли театральное действо?».
Ставя задачей дать характеристику театра осуществленного, мы принимаем критерием те пьесы, которые «делают деньги». Оценивая, таким образом, французский театр с точки зрения зрителя, мы опускали две другие возможности взгляда на театр: с точки зрения автора и с точки зрения актера.
Попробуем же взглянуть на французский театр с точки зрения драматурга.
При этом все намеченные раньше перспективные линии должны измениться и понятия передвинуться, за исключением той точки, куда направлены все силы, из которых слагается театр, то есть момента слияния автора, актера и зрителя.
При уравновешенности всех частей театрального организма, которой отличается французский театр, при громадном спросе новых драматических сценариев, осуществляемых и быстро истощаемых пятьюдесятью театрами Парижа, пред драматургами стоит цель: какими бы то ни было средствами покорить себе это таинственное, всемогущее, капризное и неожиданное чудовище – публику.
Для этого нужно найти ответ на два вопроса (на которые по самому их существу ответа быть не может): кто эта публика? Чем можно удовлетворить ее вкусы?
Полвека тому назад, во времена успехов Дюма-сына, судьба драматического произведения решалась на премьерах референдумом «всего Парижа».
«Tout Paris – это, в сущности, двести… ну, положим, чтобы никого не обидеть, триста человек», – утверждал Дюма.
«С этими тремястами, которые в течение всей зимы из одного театра переходят в другой, но бывают только на первых представлениях, мы, драматурги, и должны считаться. Они составляют то, что называется мнением или скорее вкусом Парижа и, следовательно, всей Франции.
Эта группа безапелляционных судей составлена из самых разнообразных элементов, совершенно несогласованных ни в смысле общего духа, ни, тем менее, в смысле нравов и общественного положения. Это литераторы, светские люди, артисты, иностранцы, биржевики, чиновники, знатные дамы, приказчики магазинов, добродетельные женщины и женщины легкомысленные. Все эти господа знают друг друга в лицо, иногда по имени; ни разу не вступали друг с другом в разговор и заранее уверены, что встретятся на премьере.
Каким образом эти столь различные люди, которые приглашаются купно только в театры, чтобы вместе формулировать свое мнение по общему вопросу, каким образом находят они возможность столковаться, и столковаться так хорошо? Вот что необъяснимо даже для парижанина. Как сновидение, как мигрень, как ипохондрия, как холера, это относится к неразгаданным силам природы. Я констатирую факт, причин которого совершенно не понимаю.
Эта способность к оценке, и притом оценке всегда справедливой, вовсе не зависит от высокой степени воспитания и образования; между этими решителями судеб есть такие, которые никогда не прочли ни одной книги, даже ни одной театральной пьесы, которые не знают, по всей вероятности, кто автор того или иного драматического шедевра из предшествующих эпох. И тем не менее их решение непогрешимо. Это дело естественного вкуса и приобретенной опытности. Они взвешивают комедию или драму точно так же, как служитель при ванном заведении определяет температуру воды, попросту опуская в нее руку, или как банковый артельщик отсчитывает тысячу франков золотом, перекинув несколько раз монеты из одной руки в другую.
Специалисты театра, собратья по драматическому ремеслу, вне всяких вопросов ревности или симпатии, самые добросовестные и точные театральные критики могут ошибаться и часто ошибаются относительно будущей карьеры новой пьесы. Эти триста не ошибаются никогда.
Пьеса может иметь шумный успех на первом представлении. Но если один из трехсот вам скажет: „Это не успех. Вы увидите, на сороковом дурные симптомы скажутся“, то они действительно скажутся. Но не думайте, что эти триста будут ясно выражать свое мнение во время представления и что они себя скомпрометируют строгостью, нетерпеньем или излишней четкостью своих впечатлений.
Они не аплодируют, они не свищут, они не зевают, за кого вы их принимаете? Они не уходят до конца пьесы, они не смеются сверх меры, они не будут плакать, и если вы их не изучили, то я ручаюсь, что вы никогда не узнаете их мнения ни по каким внешним признакам.
Один взгляд, которым обменялись с приятелем, или даже, – вот что удивительно в этом масонском языке Парижа, – легкое движение века, вопрошающее одного из двухсот девятидесяти девяти, лично незнакомого, и пьеса оценена. Все эти посвященные, магнетически связанные друг с другом впечатлением, становятся во время этого вечера друзьями и поверенными друг для друга.
Автор в сетях этих безжалостных птицеловов. Он может выбиваться сколько его душе угодно – он пойман. Впрочем, он прекрасно знает эту пристрастную публику, и вся зала может разразиться „браво“, но если „священный батальон“ безмолвствует, он чувствует, что чего-то не хватает его успеху, и знает, что чего-то не хватает и его пьесе. И в то время как все его поздравляют, он вспоминает о полуулыбке, о суженном зрачке, о лорнетке, приподнятой особенным жестом, о носе, потертом особенным образом, потому что он ничего не упустил – несчастный!
Но если бы автору предложили исключить этих трехсот с первого представления, он бы не согласился. Пьеса, которая не засвидетельствована ими, – не пьеса и никогда пьесой не будет».64
Для того чтобы иметь мужество выступать снова и снова в качестве подсудимого со своими произведениями, драматург неизменно должен для себя установить догмат непогрешимости публики. У Дюма-сына, который любил теоретизировать о театральной публике, было установлено их два: относительно морального референдума, выносимого большой публикой по вопросам драматических коллизий, и относительно провиденья успеха или неуспеха со стороны «трехсот», составляющих «весь Париж».
Последнему явлению он придавал получудесный характер и называл его «шестым чувством», «чувством парижанина».
Вот типы этих прорицаний:
«Ну, как сегодняшняя пьеса? – Пффф… – „Плохо?“ – В ней есть один акт… одна сцена… – „Будет делать сборы?“».
Посвященный отвечает «да» или «нет», и это приговор. Бывают варианты: «Сегодняшняя пьеса?» – Очень замечательна. – «Будет делать сборы?» – Нет. – «Почему?» – Не знаю. – «Плохо играют?» – Сыграно превосходно. – «Ну…» – Эта не будет делать сборов – вот всё, что я могу вам сказать.
Он не может определить причин, но он их угадывает. Это говорит шестое чувство – чувство парижанина.
Другой вариант: «Ну? Сегодняшняя пьеса?» – Идиотство… – «Значит, провал?» – Потрясающий успех. – «Идти не стоит?» – Напротив, пойдите, это необходимо увидать. – «Почему?» – Этого я не знаю. Но увидать это необходимо.
Это писалось Александром Дюма в последние годы второй империи, когда он посвящал иностранцев, приехавших на всемирную выставку 1868 года, в тайны светского Парижа. Но в то время Париж был более «Парижем», чем теперь. «Драматурги наших дней» не верят в догмат «трехсот непогрешимых», которые, как «garcon de bain»[75]75
Банщик (фр.).
[Закрыть], опускают руку в теплую воду и безошибочно определяют градус успеха, т. е. цифру сбора. В представлении Дюма это было как бы собрание представителей всех классов общества, несменяемых и никогда не ошибающихся, наивных и мудрых, невежественных и тонких, – словом, «слепцы, полубоги, провидцы».
Теперь публика первых представлений изменилась, и драматурги больше интересуются вопросом, «что такое большая публика», обращаясь преимущественно к ней.
«Что же такое с точки зрения натуралиста этот чудовищный и таинственный зверь, которого зовут „большой публикой“? – спрашивает Тристан Бернар в своей книге „Авторы, актеры и зрители“. – Многие воображают, что знают ее. Сколько раз приходилось мне слышать от старых театралов авторитетные слова: „Вы не знаете публики“. Некоторые из этих господ воображают, что они знают публику потому, что они родились в среде вульгарной и из нее не выходили. И так как они сами совершенно невежественны, то говорят охотно: публика этого не поймет.
Но случается иногда, что старый театральный завсегдатай честно заявляет, что больше не знает публики. Этим он хочет сказать, что чересчур искушен и потерял свою первобытную наивность. Тогда он насилует нас уже не собственным мнением, а мнением кого-нибудь из своих близких: старухи матери, маленькой свояченицы или бывшей кормилицы своих детей: она в этом ничего не понимает, но она очень публика.
Данная особа однажды дала прорицание, которое событиями подтвердилось. С той минуты она служит ясновидящей. Ее приводят на репетицию, и когда занавес падает, выслушивают ее оракул. К несчастью, эта ясновидящая развращена с того самого дня, когда с нею посоветовались в первый раз. Она уже подготовляет свои откровения, облекает их в литературную форму, а не вещает их больше от чистого сердца. Какой дивный, но и опасный анекдот, эта знаменитая история о Мольере, читающем свои пьесы служанке Лафорэ! В течение двух столетий много авторов, не будучи Мольерами, читали свои пьесы служанкам, которые, может, и стоили Лафорэ. Служанка Лафорэ стала неумолимым критиком. Теперь она стала педантом своего невежества».65
Этот взгляд почти обратен тому, что высказывал Александр Дюма. Но вывод один и тот же: понимание публики – это цель всех драматических усилий, оно середина, уровень, и необходимость, и триумф.
«Я объявляю здесь перед всей Европой, что я никогда не видал публики несправедливой, злой или глупой. Это слова, которые произносятся по ее адресу теми, кто не пользуется ее симпатией. Там, куда публика идет, всегда что-нибудь есть или в замысле произведения, или в его исполнении, что заслуживает этого внимания. Там же, куда она не хочет идти, вы всегда найдете вполне уважительные этому причины».








