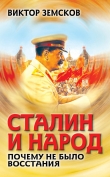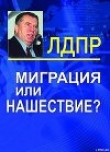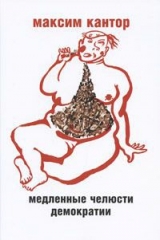
Текст книги "Медленные челюсти демократии"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Эту фразу Бердяева читаешь сегодня как наивный, детский упрек демократии. Не то страшно, что обществом правят хамы, – хуже другое: постоянная селекция среднеарифметических хамов в правители приводит народ к отупению и вырождению.
9. Демократия мироуправляющая и демократия миростроительная
Мироуправляющая демократия по определению легитимна – она не угнетает, но наказывает; не обирает, но распределяет; и тот, кто обойден ее милостями, не вправе сетовать – все по закону. Когда под власть демократической номенклатуры попадают новые, еще дикие народы, им дают понять, что отныне эти народы находятся в ведении закона. Не произвола, не хаоса, но конституции! Раньше вы били друг другу морду и пьянствовали вне закона, теперь можете делать то же самое – но внутри правовой системы, в гражданском обществе. Этот гротескный пример лишь по видимости смешон – в жизни большинства граждан огромных империй мало что может перемениться от того, какого рода демократия установлена. Индию многие сегодня называют демократической страной, но число голодных не уменьшилось; также трудно вообразить, что демократические правила, внедренные в Китае, изменят жизнь далеких провинций. Аборигенов Австралии принимали в демократию не с тем, чтобы облагодетельствовать, но с тем, чтобы упорядочить. Им вручили легальные, законные основания участвовать в соревновании – но смогут ли они принять участие в этом соревновании, никому не известно. Скорее всего – не смогут никогда. И разумеется, все будет сделано для того, чтобы такое соревнование стало фиктивным. Недавно премьер-министр Австралии принес аборигенам извинения – но что реально это может изменить в их жизни? Ровным счетом ничего, и все это знают. Принять во внимание всех жителей Китая, всех (далеко не удобных в коммуникациях) латиноамериканцев, всех славян – просто нереально. Более того, если все граждане Китая, все голодающие Индии, все аборигены Австралии, все латиноамериканцы и славяне разом получат столько же прав (не прав на возможность пользоваться правами, но реальных прав), сколько их имеет белый европеец – система демократической империи придет в негодность. Кто-то должен империю кормить, и соответственно, должен работать, а кто-то должен отдавать приказы и не участвовать в процессе труда. Распределение обязанностей так или иначе происходит по тем же принципам, что и в кастовом обществе, однако демократическому рабочему дают понять, что в некоем идеальном смысле он правами наделен. Эта легальная (но нереальная) возможность избавиться от скотского состояния, и есть тот порядок, который дает демократия. Все будет согласно закону, и дикие племена станут демократическими, то есть будут подчиняться воле цезаря. Ничего иного в виду не имеется.
Обида иных российских жителей на то, что демократия оказалась не совсем тем, что им сулили, – неосновательна. Демократия – это прежде всего закон, упорядочивающий неравенство, и как раз это, законное состояние неравенства, в их убогую страну и внедряли. Не поняли? Ваша вина – и ничья больше.
Когда мощная демократическая держава заявляет, что удаленный от нее клочок земли с бедным населением представляет угрозу для демократии – это лишь по видимости кажется нелепостью; на самом деле все логично. Демократическая держава не лукавит, когда говорит, что не может этого терпеть – и не в нефти дело, дело в принципе. Вообразите, что ваш сосед шумит, бьет стекла, кидает из окон окурки – портит пейзаж, настроение и уклад вашей жизни. Его следует призвать к порядку. Он не причинил вам буквального зла, у него нет возможности это сделать, поскольку вы богаче и сильнее. Но он причиняет вам зло в иной форме – он являет пример иной жизни, в которой ваш порядок не учитывается. Если бы это был ваш наемный рабочий, вы бы понизили ему зарплату, уволили, лишили премии. Но он – чужой. Как с ним быть? Для милиции он практически неуязвим – кричит и бьет стекла на своей территории. Что остается? Только прибить. В сущности, вы поступаете с ним по родоплеменным, не особенно цивилизованным правилам, вы его бьете или даже убиваете. Но акт варварского насилия осуществлен во имя порядка цивилизации, и вы даже призываете соседей оценить деликатность вашего положения.
Вы поступаете по закону – по закону мироуправляющего порядка. «Но вы же сами эти законы издаете, – может возмутиться обиженный, – у меня, у того, кого вы бьете, законы совсем другие. Моя жена не жалуется, а вот вы пришли – и бьете!» Здесь уместно напомнить обиженному, что его законы – варварские, и если он хочет жить в новом мире, ему надо войти в большое цивилизованное общество с новыми, хорошими законами. Другого рецепта выживания для соседа нет.
Мироуправляющая демократия опирается на закон, сама этот закон регулирует и производит и с опаской относится к любой диверсии в правовое поле. Мы называем такое состояние общества – правовым государством. И то, что правовое общество выживает за счет внешнего бесправия, есть необходимый элемент его работы. В конце концов, право и закон действуют ограниченно: в космосе закон притяжения не работает, а в Ираке не работает право. Но его там и не было – в понимании демократии. Хотите мироуправляющей демократии – извольте, но придется потерпеть. Миростроительная демократия – вне закона, она лишь собирается устроить вещи заново, она отменяет закон прежний и пока еще не ввела своего. Она оперирует такими эфемерными понятиями, как «справедливость», и за это над ней смеются, и не зря. Во имя справедливости эта миростроительная демократия идет на такие жертвы и преступления, что люди вспоминают унизительные законы мироуправляющей демократии с любовью.
Проблема деспотизма легального и деспотизма незаконного обсуждалась в эпоху Просвещения, когда оправдывался просвещенный авторитаризм, восхвалялся Китай с бюрократией ученых, находились аргументы для защиты методов Екатерины и Петра.
Вообще говоря, крепостному, жизнь которого зависит от деспота, мало дела до того, секут его на легальном основании или по произволу. Рабом он останется навсегда, никаких предпосылок для изменения его участи нет и не будет, но методы порки могут быть различны. Крепостного убеждают, что это существенная разница: получая удары по закону, он не может роптать, но если его секут по прихоти барина, имеет основания жаловаться. Бунт все равно невозможен, однако лучше обезопасить барина и договориться с крепостным, пусть мужика порют по закону. Крепостной отлично знает, что по желанию власти любой произвол может в одночасье стать легальным – и кнут от этого не сделается мягче. Однако его убеждают, что кнут сделается мягче.
Вот кому правовой статус человека с кнутом далеко не безразличен, так это либералу. Облегчить участь раба либерал не может – в сущности, и не хочет – но свое самосознание пытается устроить лучшим образом. Речь идет о его душевном комфорте – либерал стоит за строгое соблюдение законов, он против произвола и желает, чтобы мужика секли в соответствии с конституцией.
Именно поэтому либерал и выбирает Империю, так ему спокойнее. Империя мерещится благостная, это такая большая теплая мама, которая принимает под опеку все народы и все проблемы. Это уютная область прав, в которой отсутствуют вопросы национальной розни, угнетения сильным слабого и т. д. На деле, конечно же, все эти вопросы присутствуют в полном объеме – они в империи просто объявлены яко небывшими.
Современная прогрессивная империя привлекательна еще и тем, что наглядно отменила суверенную диктатуру. Империя признает только диктатуру комиссарского типа. Комиссарская диктатура, то есть учиненная на основании мандата, является как бы безличной, законодательной, комиссар за нее ответственности не несет. Это идеальная модель для наместников и анонимной власти.
Демократическая империя всегда постулирует, что ее диктат – это диктат комиссарского типа, то есть такой, за который несет ответственность весь народ, сама система, выбранные депутаты, а не отдельный человек. Я ваш наемный служащий, – говорит президент номенклатуре с выражением Ивана Грозного, удаляющегося в Александровскую слободу, – вы просите меня начать войну в Чечне или Ираке – извольте, сделаю. Но делаю это не своею волей, но токмо волею пославшей меня номенклатуры. Это верно, но не вполне.
С властью в демократической империи устроено примерно так же хитро, как с налогами. Миллионер открывает оффшорную компанию, эта компания имеет легальный бизнес в другой стране и назначает президентом того самого бизнесмена, который учредил оффшорную компанию. Этот бизнесмен является наемным работником сам у себя, себе платит налоги и неуязвим для правосудия. Так же происходит и с властью в демократической империи: президент распоряжается жизнью мелкого человека, но не по своей охоте, а как делегированный на эту должность номенклатурой, в то время как номенклатура выбрана народом, а президент является отцом нации и руководит выборами в номенклатуру. То есть фактически власть сама выбирает себя и подотчетна только себе.
Идеальное состояние – это такое родство маленького человека с Империей, когда Империи выгодно, чтобы человек качал нефть, а маленький человек благодарен Империи за то, что у него есть возможность эту нефть качать. Поскольку все происходит по закону – роптать нет причин.
Диктатура комиссарского типа существовала в Советской России, во времена Кромвеля (он был наделен неограниченной властью протектора, но это сделал Долгий парламент), в античных государствах, она же существует и сейчас. Ответственность не несет никто – лишь природа вещей. Когда говорится, что альтернативы президенту нет, это чистая правда – пройдите весь круг выборов заново, и вы выберете того же самого человека, поскольку выбирает система, отрегулированная номенклатурой.
Интереснее всего в данном случае судьба либеральной мысли. Когда пьяный самодур расстрелял законно избранный парламент из пушек в 1993 году, он был поддержан именно либералами – его произвол олицетворял мироуправляющий порядок, который был принят столь поспешно, что миростроительная демократия народных депутатов не успела оценить серьезность события. Либерал четко развел в своем сознании эти вещи. Народ, требующий прав, бритые молодые люди с палками и плакатами, – это российский хаос, а не подлинная демократия. А вот танки, стреляющие в парламент, – это демократический порядок, пусть горькое, но лекарство от хаоса.
Еще более тонкий случай – война в Чечне. Здесь либералу пришлось потрудиться. С одной стороны, с точки зрения демократического порядка Империи – мятежников надо давить. С другой, с точки зрения большой Империи, мировой западной цивилизации, куда хорошо бы вписаться, – бандитов давить не рекомендуется: они борцы за свободу. Большой империи в данном случае невыгодно лишать жизни борцов за свободу. Шаткость условий задачи привела к разброду во мнениях среди интеллигенции.
Решение пришло постепенно: теперь принято считать, что условием вхождения в Большую Империю Мировой Цивилизации будет создание Империи Российской, преодолевающей хаос своего населения. Мнится, что российская империя будет хранительницей прав – на деле она будет хранительницей порядка распределения, как это и было всегда. Право быть учтенным при раздаче отнюдь не означает равной доли – прямо наоборот. Каскадная система распределения привилегий, каскадная система морали есть не что иное, как принцип наместничества, но либералами принцип наместничества принимается сегодня за условие свободы. И выбор Империи рассматривается как идейный выбор России.
На самом деле империю в России выбирают всегда как условие выживания. Чтобы государство могло торговать, и товар принимали на международном рынке, чтобы номенклатура могла жить за счет народа, чтобы центр был обеспечен протяженностью окраин, должна функционировать империя, которую боятся. Что-то требуется делать с огромным населением – ставить его у помпы, переселять в Сибирь (как делал Столыпин), использовать как пушечное мясо. Самая неприятная проблема для власти – это народ. Хуже всего это население не учесть: тогда количество нетрудоустроенных образует критическую массу, из этой массы будет вырабатываться «миростроительная» демократия. Эта масса рано или поздно заявит о своих требованиях – требованиях революционных, не нужных порядку.
Всем памятен упрек российской пролетарской революции в отсутствии пролетариата – только ленивый не обсмеял Ленина (см. «Развитие капитализма в России»), записавшего в пролетариат беднейшее крестьянство, не обладавшее необходимым сознанием рабочего. По мысли Сергея Шкунаева, критическое количество нетрудоустроенных крестьян (а условия сельского хозяйства и не позволяли их трудоустроить: фактически не было ни земли, ни возможности работать) являлось, по сути, той материей, из которой ничто, кроме пролетариата, и произойти не могло. Вырос, конечно же, другой пролетариат, нежели в западных странах, некондиционный, – но уж какой есть. Порядок царской империи был разрушен именно этим демографическим балластом – перенаселением, с которым тогдашний порядок не знал что делать, экстенсивное развитие демографию не обслуживало.
Сегодняшняя капиталистическая Империя ошибки старается не повторить – и каскадная система прав здесь поможет, всегда можно подарить неучтенную массу населения на работы в Туркменистан – чуть менее демократическую страну, но уже вглядывающуюся в сияющие перспективы.
Либерал – преданный союзник Империи: от народного хаоса он тоже ждет беды. Российский либерал с тревогой вглядывается в окраины Родины; а есть ведь еще окраины мира – афганцы, колумбийцы, да мало ли тревожных мест. Все ли охвачены работой на производстве кокаина? Как бы не сорвался в бездну хаоса мировой порядок.
10. Демократия и рабство
Демократия задумана как строй, гарантирующий права рядового гражданина, интересы маленького человека. Так прописано в конституциях, и так трактует понятие «демократии» любой избиратель. Независимость от масштабных планов тарана и принято именовать гражданской свободой. Вопрос в том, гарантирует ли рядовой маленький человек права другого рядового человека, вполне ли он следует кантовскому императиву. Именно для соблюдения внутренних гарантий учреждаются законы, законы ставятся над гражданским обществом. Разумеется, эти законы действуют только внутри данного гражданского общества, применять их по отношению к иным обществам (допустим, деспотическим) неразумно. Хотя в деспотических обществах тоже существует рядовой маленький человек, но по отношению к нему демократия просто не в состоянии применить свои благородные принципы. В этом несовпадении общественных развитий много привлекательного.
Например, как родовую черту демократии можно обозначить обязательное присутствие в демократическом обществе определенного процента бесправных людей. Эти люди ходят по тем же улицам, дышат тем же воздухом, они, как их свободные соседи, наделены чувствами и душой, но их жизнь протекает иначе. Их можно даже не считать полноценными членами свободного общества – однако их услугами общество пользуется. Их наличие дает возможность остальным гражданам в полной мере вкушать прелести свобод.
Так, в древней Греции демократия пользовалась услугами рабов. Свободнорожденные шли на форум, а рожденные в рабстве на форум не приглашались. Умеренный аболиционизм Афин и состояние илотов в Спарте не различаются принципиально. Иначе говоря, гражданские свободы распространялись не на все общество, а на лучшую его часть. Вероятно, следует говорить, что демократический полис жил сам по себе, а рабы – сами по себе, эти понятия смешивать не пристало. Однако рабы и свободные жили в буквальном смысле бок о бок, в стенах одного города, и рассматривать их существование изолированно – затруднительно. Сорок тысяч афинских рабов против двадцати тысяч свободных граждан – цифра более чем убедительная, если говорить о развитии свободной личности в демократическом государстве. Английская демократия, принятая во многих странах как образец для подражания, существовала в условиях жесточайшей колониальной политики, и как так получилось, что империя колонизаторов рассматривалась как гарант свобод для граждан, – это отдельный вопрос. Философ Бэкон, человек весьма свободолюбивый, недрогнувшим пером выписывал рецепт составления снадобья, для которого надо было взять плесень и гной из мертвого тела – рекомендовалось искать трупы в Ирландии, благо они там на каждом шагу. Иными словами, условием демократических свобод одних – практически всегда было бесчеловечное угнетение других.
Сходным образом права, коими была наделена в социалистической демократии партийная номенклатура, не распространялись на рядовых колхозников, пенсионеров, рабочих. Формально считалось, что колхозники обладают сходными правами с классом чиновников, на деле они являлись крепостными, приписанными к своей земле, практически лишенными возможности изменить судьбу. Прописка, паспортная система, закон об обязательном труде делал невозможным для подавляющего большинства населения предпринять что-либо, что не входило в планы начальства. Фактически большая часть населения была внутренней колонией – и колонизация была необходима для демократического правления.
Точно так же в странах буржуазной демократии проживает огромное количество людей, являющихся по тем или иным причинам – неполноценными гражданами. В капиталистическом обществе регулирующим механизмом выступает не закон об обязательном труде, но напротив – наличие безработицы. Однако в социальном отношении оба эти фактора играют одну и ту же роль, а именно: удерживают лишенное прав население в состоянии, удобном свободным гражданам того же общества. Наемные рабочие-эмигранты, лишенные вида на жительство, исполняющие грязную работу, а также обитатели стран третьего мира, что работают в своей стране на предприятиях, принадлежащих развитым странам и под надзором наместника производят продукцию, необходимую демократическому обществу, – но гражданами этого общества не являются. Наличие огромных масс этих людей (как внутри демократических стран, так и вовне) делает возможным безоблачное существование развитого демократического общества.
Конечно, можно утверждать, что целью развития цивилизации является такое состояние, когда демократия утвердится буквально везде, граждане повсеместно уравняются в правах, и разницы между развитым капиталистическим государством и африканской страной вовсе не станет. Можно говорить о том, что наступят такие времена, когда демократический строй не будет нуждаться в рабах для поддержания жизни свободных. Собственно, мы все время слышим такие разговоры (сходным образом коммунистические бонзы обещали некий коммунизм будущего – без номенклатуры, казармы и подавления прав). Но поскольку так никогда еще не было, утверждение по поводу светлого будущего демократии относится к разряду непроверенных гипотез. Гражданское правовое общество жизнеспособно в присутствии неправового общества, которое используется как ресурс.
11. Принуждение к равенству
Собственно говоря, демократия Нового времени сделала следующее.
Привилегии прежней аристократии были устранены для того, чтобы начать новое соревнование и создать новый класс властных и сильных. Возможности былой аристократии к восемнадцатому веку себя исчерпали – открытие новых рынков сбыта давало новые возможности. Начали с чистого листа, отбросив былые привилегии, руководствуясь принципом естественного отбора. Насколько это соревнование было честным, судить затруднительно: сегодня мы имеем дело уже с его результатами, которые оспорить невозможно. Если кто-то пожелает оспорить итоги соревнования сегодня – это будет столь же затруднительно, как оспорить выдвижение семейства Романовых, глядя на проблему из восемнадцатого века. Отбор уже произведен, и демократия определила своих лидеров. Точно так же, как невозможно было в восемнадцатом веке понять, за что, за какие достоинства представитель фамилии Монморанси или Романов обладает большими правами, чем рядовой Браун или Сидоров, так и сейчас невозможно понять, почему у одних представителей демократического общества возможностей и денег больше, чем у других. Иные недовольные граждане обращают этот вопрос к правительству – и им дают ответ: богатые старались лучше, чем ты. Некогда непонимание имущественного неравенства привело к революциям и пересмотру общественного уклада – сегодняшнее непонимание легко устраняется демократической риторикой.
Да, возможности у членов демократического общества разные. Но права – равны! Прежде крепостной не имел прав – но ты, член демократического общества, ты-то права имеешь! В принципе тебе следует гордиться новой аристократией, поскольку она воплощает твои собственные возможности. Возникли новые аристократы, столь же могущественные, как ушедшие в прошлое герцоги и владетельные феодалы. «Бостонская аристократия» и оружейные бароны, генералы индустрии и владельцы нефтяных скважин – они являются столь же недоступным для простых смертных высшим сословием, каким некогда являлись представители знатных родов.
С одной лишь существенной разницей. И разница эта имеет как экономическое, так и нравственное значение для общества. Формально новые аристократы равны с прочими избирателями в правах. Это, конечно же, лишь формально. На деле права владельца алюминиевой корпорации разительно отличаются от прав бабки из микрорайона Жулебино. Права и возможности президента «Бритиш Петролеум» на деле значительно превышают права жителя района Брикстон. Однако бабке из микрорайона Жулебино и жителю Брикстона сегодня говорят: все в твоих руках! Если ты, бабка, будешь лучше и больше работать, проявишь активность и рыночную сметку, то вполне возможно, ты станешь богатой, знаменитой и свободной. Идеал «из чистильщика сапог – в миллионеры» остается двигателем социальной инженерии. И действительно, такие примеры случались: мы наблюдаем уроженцев черных кварталов, ставших госсекретарями, и клерков, добившихся богатства. По сути, эта возможность открыта для сегодняшнего обывателя так же точно, как возможность для средневекового крестьянина – стать оруженосцем, из оруженосцев шагнуть в рыцарское сословие, а потом получить наследственный фьоф. Такие примеры история тоже знает, и выражение «из чистильщика сапог – в миллионеры» вполне соответствует бытовавшему прежде «из грязи – в князи». Принцип тот же и работает столь же избирательно.
Важно здесь другое. Формальное равенство в правах уравняло современную аристократию в ответственности с подневольными гражданами. За бомбардировку Ирака и войну в Чечне несут ответственность не представители богатых родов, но все население.
Правители объявляют войны от имени всего народа, но сами в этих войнах участия не принимают. Финансовый кризис бьет больнее всего не по банкирам, а по мелким вкладчикам, хотя именно банкир решал, как оперировать деньгами. И что самое главное: правящий класс не чувствует себя обязанным снять с плеч населения бремя – он не обязан народу вообще никак правящий класс и есть народ!
Это и есть самое главное достижение демократии: право сделалось субститутом денег, не отменив, впрочем, финансовой системы. Эти системы существуют параллельно – что крайне удобно для социальной риторики. Прежде, в феодальном обществе, народ взывал к властителям: дайте нам равные права, а при наличии прав у нас появится достаток. При демократии сами правители обращаются к народу с напоминанием об общем равенстве. Мы такие же, как и вы, говорят власть имущие своим подданным, у нас с вами одинаковые права, и стало быть, нечего вам пенять на свои доходы.
Этот феномен – провозглашение равенства сверху – можно определить как «принудительное равенство», и последствия такого принудительного равенства очевидны. Надо признать, что принцип равенства отнюдь не всегда сулит благо. Например, ребенок не равен взрослому по возможностям и силе и вправе ожидать от него защиты. Старик не равен молодому, необразованный не равен образованному, и так далее. Принудительное равенство, примененное внутри семьи, поставило бы стариков и детей в крайне неудобное положение, но облегчило бы жизнь взрослых. В обществе происходит то же самое.
Если династический аристократ прошлого мог испытывать некоторую моральную озабоченность за судьбы подданных и снабжать их подачками с барского плеча – то новый демократический аристократ от такой обузы свободен. Он равный среди равных, просто имеет во много раз больше – так это потому, что он лучше. И правящее сословие правит на основании объективного превосходства над себе подобными – отчего же властители должны испытывать стыд перед народом? Пусть граждане лучше и больше работают – вот единственный рецепт их счастья, а властители им ничего не должны. Не это ли имел в виду Алексис де Токвиль, когда говорил, что кодекс чести в условиях равенства – исчезает. В чести испытывает потребность аристократ, для демократии честь – чужда. История человечества переписана демократическими мыслителями с точки зрения практической пользы, а честь как иррациональная субстанция – оказалась изъятой.
Практический взгляд на вещи помогает удачно вести мировую политику: когда лидеры прогрессивного человечества устремляют взоры на отсталые континенты, они задают голодающим вопрос: отчего же вы не учредите у себя демократию? Ведь все, буквально все в ваших собственных руках! Не опускайте рук! Работайте!
Правда, обитатели трущоб могут работать только при одном условии – если они работают на высшее сословие, делая его еще богаче. Если удачливый выскочка из неимущих добьется высокого положения, то добьется он его только потому, что будет удачно исполнять волю и соблюдать правила власть имущих, то есть тех, кто одарит его рыцарским званием (как во времена прежней аристократии) или званием генерального менеджера, как теперь. Разница меж былыми веками и временем победившей демократии лишь в одном: современный правящий класс получил моральное право на угнетение, поскольку объявил себя частью народа.
Тот факт, что потомок герцогов Мальборо сэр Уинстон Черчилль является оплотом демократии, вообще говоря, должен был бы насторожить историков общества.
Любителей высказываний Черчилля о демократии надо посылать в поместье Блекхейм, где сэр Уинстон родился и вырос. Само поместье превышает московский Кремль размерами раз в пять, а что касается рек, озер, лесов и угодий, то поместье площадью не уступает Садовому кольцу, только гораздо красивее и покойнее. Всем этим владели герцоги Мальборо, коих наивная молва числит в рядах столпов демократии. Всем этим они владели, за это боролись, и ни пяди земли не намерены были отдать – причем не только Сталину или Гитлеру (тоталитарным сатрапам), но и обычному британскому обывателю. Не только бабке из Жулебина, но и жителю Брикстона ни вершка из этих территорий не досталось и не достанется никогда.
И тот простой факт, что для сохранения привилегий Черчиллю следовало воспользоваться демократической доктриной, – говорит лишь об одном: доктрина эта работает, это эффективный механизм управления и подчинения. Династический аристократ и богатый феодал должен пользоваться механизмом демократического управления для того, чтобы сохранить прежние привилегии в новом обществе.
Сэр Уинстон, безусловный герой двадцатого века, стоял среди руин Ковентри и беседовал с гражданами демократического общества – равный с равными – но потом садился в «Роллс-ройс» и ехал в поместье, а граждане шли в подвал. И это понятно: у лидера должны быть привилегии, на всех поместий не напасешься, надо быть с народом душой, а телом – можно быть в другом месте. Так было всегда, но прежде привилегии выдавались на основе неравенства, а теперь – на основе равенства.
И граждане кричали Черчиллю (он описывает это в мемуарах): «Отомстите им (немцам. – М. К.)! Разбомбите их дома тоже! Заставьте их пережить то же самое!» И Черчилль обещал – и сделал. По бесчеловечной жестокости английские бомбардировки превосходят немецкие многократно: убивали гражданское население тысячами и равняли с землей города. Можно даже предположить, что не народ мстил народу, но капиталист сводил счеты с капиталистом-конкурентом, иначе как понять такую жестокость? Можно сказать даже еще точнее: мироуправляющая демократия – в лице менеджмента – пресекла все попытки саботажа производства, сделала их отныне невозможными.
Когда домохозяйки взывали к Черчиллю – отомсти! – они, разумеется, не вспоминали о годах, когда доллар стоил четыре миллиарда немецких марок, а Британия с холодным расчетом вводила 26-процентную пошлину на немецкие товары. И не вспомнили о репарациях, поставивших соседок – немецких домохозяек – на грань голода. И не думали о золотом запасе Германии, изъятом у Германии в то время, когда стране было нечего есть. И не думали о том, что дома в Ковентри были разрушены только после того, как пришли в упадок немецкие дома, немецкая жизнь. И случилось это не по воле стихии, а по расчету мужей тех британских домохозяек, которые кричали Черчиллю: отомсти!
Черчилль сдержал слово – правда, еще до начала Второй мировой он практически довел немецкие города до разрухи, так что можно сказать, что он сдержал свое слово неоднократно.
Вероятно, это особенность морали демократа-императора. Впрочем, возможна ли мораль в демократическом обществе? Нужна ли она?