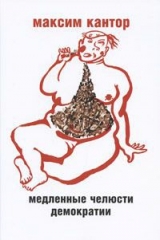
Текст книги "Медленные челюсти демократии"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
В России нет правых и левых – это выдумка. И знаете ли, мне все чаще кажется, что выдумали ее Вы, милый друг. В России нет правых и левых, потому что в ней существуют только нижние и верхние. Все прочие построения, все иные декорации призваны лишь спрятать, задрапировать единственную и по– настоящему работающую конструкцию. Зачем же нужны эти миражи, спросите Вы меня, не согласившись, что сами являетесь их автором. Нужны они по простой причине: сообщить российской истории векторность, которая отсутствует. Вам хочется начертать свободолюбивой рукой путь развития данной местности, пометить дорогу указательными стрелками. Бесполезно. Путь из варяг в греки – лишь обозначение замкнутой кривой. Она описывает закрытую территорию, огороженный пустырь. Здесь бессмысленно смотреть вдаль и загадывать будущее, здесь существует только обратная перспектива.
Мой друг, историк, как-то сказал мне: самым европейским поступком России было бы признание себя азиатской страной. Почему бы и нет? Из этого утверждения не воспоследует, разумеется, превращения в Азию, Россия останется Россией. Но сколь благороден этот шаг был бы по отношению к Европе, и сколь необходим по отношению к химере Евразии.
Чего же Вам следует ждать от нас, и что мы сами должны ждать от самих себя? Я полагаю, милый друг, что онтологическая бесперспективность нашей истории является предпосылкой для образования некоей житейской, бытовой позиции; ее я выражу ниже. Скажу еще раз: я не вкладываю в эти слова мистического, не говорю об особом пути, его нет. Я говорю лишь о житейской манере поведения, не больше. Но впрочем, и не меньше. Я говорю о кодексе, который в наших условиях пустыря необходим.
Да, разумеется, этот кодекс поведения связан с понятием «достоинство». Однако с годами я разлюбил это слою. Мы употребляем слова «человеческое достоинство» тогда, когда хотим подчеркнуть, что заслужили жить не хуже прочих. Я предпочту истасканное слою «долг»; оно отдает военной терминологией, пусть. Россия – страна военная, с этим ничего не сделать. Жизнь, протекающая вдали от действительной службы, мало чем отличается от военной. Где тебе выпало сражаться, там и сражайся, на каком фланге выпало стоять, там и держи оборону. Хорош будет солдат, который начнет метаться с места на место в претензии найти такое, что вполне бы отвечало его амбициям. Подберите ему такой редут, чтобы не хуже чем у соседей и чтобы отвечал его природным достоинствам. Место русского человека такое, а не иное, и, как и место европейца, оно достаточно точно определено, имеет свои особенности. И место России там, где предназначено ей стоять, от этого лучше не только России, но и всему миру: от того, как дерется на своем редуте солдат, лучше не только ему, но и всему фронту. Россия есть пограничная территория, и эта бесхозная земля пролегает не только меж европейцами и татарами, но и между одной историей и другой. Например, социалистическая Россия – есть пограничное пространство между капиталистическим миром и коммунистической утопией. И то, что Россия сделалась полем боя этих миров, является не более чем ее привычным долгом. Некогда Чаадаев говорил, что мы существуем лишь как урок иным народам, – чтобы не повторять тех же ошибок, не наступать на то же дерьмо. Я не согласен с этим. Я думаю, что Октябрьская революция – это не урок всему миру: мол, глядите, как не надо делать, нет, напротив – это исполнение Россией своего пограничного долга, выполнение своего предназначения. Этим гордиться следует, а не обсмеивать. В общей битве, где нам выпало участвовать по праву рождения, мы стоим на своем месте, в этих рядах, в этих войсках, и грешно было бы дезертировать. И если спросить: что же это за война? какой долг следует исполнять? с каким же врагом мы находимся в бою? – я отвечу: с небытием, со смертью. Исполнение человеческого долга связано именно – и единственно – с этими понятиями. Где исполнять его – безразлично, но лучше на отведенном судьбой месте.
История России существует не для того, чтобы показать преимущество истории Запада. История России существует не для того, чтобы преподать урок народам. Она существует всего-навсего затем и потому, что есть судьбы, любови, и жизни людей, которые не входят в Западную цивилизацию – но оттого они не менее люди.
Письмо третье
Любимая,
каждой строчкой, которую пишу, я хочу обнимать тебя, каждой буквой, которую вывожу, я хочу прижаться к тебе. У меня нет другой жизни, кроме твоей жизни, других глаз и рук, кроме твоих глаз и рук, и другого слова, кроме твоего имени. Я уже прожил большую часть жизни, и прожил скверно, и теперь хочу оправдать оставшуюся часть.
Меня учили, что надо любить искусство, свободу и правду, и они ответят взаимностью. Мне также говорили, что надобно хоть немного, но любить Родину, с незавязанными глазами и не стоя на коленях, а если не получится – тоже не страшно: Россия подождет, пребудет вечной невестой. Но это неверно, – отношения с Родиной состоялись, и вполне. С годами соткался комплекс из досады, привязанности и долга, невозможности расстаться и долгой скуки. И деться некуда, и совесть мучит, и тошно с ней. И жизнь прожита, и не изменишь ничего, и наливаешь стакан – скоротать время до заката. Тягостное чувство долга и безлюбовья напитало воздух над полями нашей Родины. Это и есть причина творческих мук
Именно так я объясняю письма гусарского полковника: он тосковал по католицизму, оттого лишь, что тосковал по любви. А любви не знал. Это довольно простая разгадка писем отставного военного, и что может быть пошлее, чем гусарская тоска по любви? Он тосковал по католицизму, воплощавшему религиозное чувство – в Прекрасную Даму; он тосковал по католицизму как тоскуют по душевному здоровью: от невозможности слить в один образ окружающие тебя и мелькающие картины. Он томился в отсутствии того сильного чувства, которое слило бы воедино и мир, и небо, и плоть, и страсть. И душевная тоска побуждала его кричать в письмах: «Разве может быть больше, чем одна цивилизация?» Он превосходно знал, что китайская и греческая цивилизации несхожи, ему хотелось выкрикнуть другое: бывает ли больше одной любви? Что есть человеческая цельность, как не единение страсти и добра? Коль скоро эйдос проецируется в сознание человека, разве страсть и вера могут рознится в его душе? И. разве христианский принцип неслиянной нераздельности не говорит о том же? Он тосковал по той любви, что была ведома флорентийцу, он тосковал по католицизму, который устроил бы для него такую любовь. И тогда – он знал – произойдет чудо: образ Дамы, Богоматери и Веры соединятся в одно – но чудо не наступало, и он не обретал крепости, и он кричал в отчаянии, он, гусарский полковник, объявленный сумасшедшим, действительно сходил с ума. По-видимому, главное, про что, собственно, и написаны философические письма, это определение любви через историю; нет, буквально такой фразы в них нет, но и сказанного достаточно, чтоб понять: Любовь есть критерий Истории. И там, где нет Любви, нет и Истории. Но никто не сможет вложить любовь в грудь другого, и католическая дидактика не спасет. И от отчаяния, обретенного им на «обезлюбленной земле» (как назвал ее совсем другой человек, узнавший любовь чересчур близко), гусар проклял эту землю и сказал, что у этой местности нет истории. А истории не было только у него. Потому что история возникает тогда, когда появляется любовь.
Отчизна наша не истории лишена, но большего, чем история. Россия не знает любовных историй, где найти соединение сердец, достойное памяти? Толстой с Софьей Андреевной, Блок с Менделеевой, Пушкин с Гончаровой, Есенин с девками? Разве было что-нибудь на русском языке про любовь написано? Ах, нет же, конечно было, только в России и понимали про настоящую, до крика, до смерти любовь, такую, как у Маяковского. Только вместо имени Лиля надо поставить имя Революция, потому что это ее он любил как любят женщину, соединив в великой традиции земное с небесным. И его предсмертное «любовная лодка разбилась о быт» – это к ней, к Революции. А раз не сложилось, – вышел, хлопнул дверью, застрелился, – и это единственная описанная любовная трагедия, которую знает наша земля. Неужели не мог он рассмотреть в Революции ее толстозадого плебейства с самого начала? Тот же вопрос с успехом задали по поводу Дульсинеи, и едва бакалавр Самсон Карраско открыл глаза Алонсо Кихано, – как рыцарский роман кончился, и с ним жизнь. Так и здесь, – как только у Маяковского появляется любовь, так появляется и история. Нет любви – и истории нет у нашей неказистой тетки – Родины. Больше ее никто так не любил, хотя многие славили, а еще больше народа презирало. За что любить ее – толстую, неказистую бабу? Но думаешь, глядя на нее, убогую: люби мы крепче, она станет краше. Но нет, не становится.
Эта почва менее прочих пригодна для любви, но выбирать не приходится. Я напишу о любви, которая останется навсегда, когда уже сотрется след этих дней, когда песок заметет мой город и улицы, по которым меня несло к тебе. Я напишу так, что через рыхлую Россию и кривую Москву навсегда пройдет твой летящий шаг, твоя прямая походка. Все сразу – и российская мразь, и европейское лицемерие, и счастье, и его невозможность, и то, что переносить вранье нет сил, и то, что правда здесь не нужна, – все это стало нашей историей, твоей и моей любовью. И другой нет. У меня нет иных убеждений, кроме любви – и если приходится говорить о политике или искусстве, то я говорю о тебе, и хочу, чтобы слова были ясны, как твое лицо, чтобы чувства были отчетливы, как твой профиль, чтобы путь был прям, как твоя осанка.
Первую половину жизни я промаялся в поисках Истории, мне казалось, что родные пустыри и степи плющат мою жизнь и раскатывают будущее в тонкий блин, что это внеисторическое пространство – Россия – не может поспеть и ходом мирового духа, растекается грязной лужей. Я все искал, где же тот край, та точка схода, в которой сосредоточена История сегодня? Где надо быть сейчас, куда смотреть? Я пялился в горизонт и не находил такого места, и все мнилось, а вдруг оно за углом? И это пустое томление и пустая маята прекратились, едва я понял, что История – она там, где ты, и другой не бывает. И, поняв это, я собрал силы для единственной работы.
Нет, не борьба с тираном, мне мало этого. Не борьба с Россией и не защита России, мне мало этого. Не за светлое будущее, не за прогресс следует бороться. Не на благо демократии, или отчизны, или Запада, – мне мало этого. Не за цивилизацию против варварства – мне мало этого. За тебя – против любого порядка вещей. Против того, как устроено то, что они называют Историей – мне ли не знать, какая она на самом деле, она моя – и ничья более.
Сегодня, здесь, в этой снулой и нечистой стране с плоскими пейзажами, здесь История. И если сегодня ты смотришь своими твердыми глазами на этот пустырь, значит История сегодня на пустыре. Если сегодня я держу твою руку, значит это время – и есть История. Принято умиляться гегелевскому отождествлению мирового духа с Наполеоном верхом на лошади, но мне не кажется это сопоставление удачным – ни для офицера, ни для духа. Мне больше нравится представлять, что мировой дух (дух истории если угодно) воплощен в женщине. Вольно персонифицировать историю в толстого офицера, но гармоничнее представлять ее в виде красавицы; пусть кто угодно воображает шествие мирового духа как хруст сапог, а для меня это твоя летящая походка.
Я всегда вспоминаю одно и то же: я помню, как окликнул женщину, уходящую от меня, и она обернулась. Она уходила прочь, обиженная, и на ходу, не замедляя шага, повернулась ко мне. Была ночь, но она проходила под фонарем, и полоса света прошла по ее лицу. Она шла так быстро, что свет точно хлестнул ее. Она всегда ходила очень быстро, и когда я однажды спросил ее, почему так, ответила, что от медленной ходьбы устает. Она всегда шла с прямой спиной и откинув голову. Когда она повернулась ко мне, я увидел напряженную шею и твердо очерченное лицо, но следующий шаг уже вынес ее из полосы света. Она была сделана так цельно, что любое движение ее совершалось сразу всем ее телом, словно каждая черта в ней участвовала в ходьбе. Я никогда не видел женщины красивее. Это была ты. Я всегда боюсь, что больше не увижу этого лица, что ты выйдешь из света фонаря и уже не повернешь ко мне голову.
Я всегда думал про себя, что я неверующий, и немного этим гордился. Много времени я провел в обществе людей, исповедовавших историю как религию, и эта подмена меня интеллектуально устраивала. Мне нравились люди, бросающие вызов мироустройству, понимающие его иначе, чем Бог. История как религия и познание как вера. Интересно, что никто из этих людей не мог похвалиться историей своей жизни – всегда это было расхлябанное и не слишком симпатичное существование. Не хочу сказать, что, будь они верующими, их посещали бы озарения. Но вся жизнь их, отданная разуму и познанию, была неразумной и малопоучительной. И никто из них, из тех, что ставили знание выше веры, а интеллект выше любви, никогда не вызвал у меня жалости. Сегодня мне представляется, что ткань знания о мире плетется для того, чтобы все разнородное, не утратив особенностей, соединилось в одном образе. Религиозный человек назовет такой образ животворящим. Уточню лишь, что имею в виду не эйдос, но то сильное образующее чувство, которое мы называем любовью. Видимо, это чувство непосредственно связано с понятием гармонии, и позже я скажу подробнее о гармонии – качестве, присущем любви и истории. Я так долго пишу лишь для того, чтобы выговорить одну вещь: Иакову потребовалось бороться с незнакомцем и порвать сухожилие на ноге, только потом он понял зачем, собственно, была эта встреча; я не буду первым тугодумом, кто вглядывался в черты встреченного и не мог понять, кого встретил. Если кто-то считает, что Бог – это история, я говорю: тогда луч света хлестнул по лучу истории; эта история шла так быстро по московскому пустырю, и бурый шарф был обмотан вокруг ее шеи. Иакову не удалось отделаться поврежденной ногой; и он, и его народ должны были знать, что это только начало. Я хорошо понимаю, что пропал.
Я сравниваю историю и любовь и по степени разрушений, которые они приносят с собой. Жизнь без любви покойна и уравновешена (я не сказал здесь: гармонична, поскольку не отождествляю равновесие и гармонию), но привнеси в нее любовь, и сразу все придет в смятение. Недаром греки считали любовь беспорядком, своего рода болезнью. Почему от стриженых волос и накрашенных ресниц моя жизнь сделалась невыносимой, почему история, стоит ей наполнить звоном и скрежетом жизнь, превращает ее в ад? Она пришла ко мне, и на скрипящем диванчике началась история; началась с ее мокрых ботинок, которые она развязала, нагнувшись, и с ее бумажного свитера кирпичного цвета, который она сняла через голову. Она лежала рядом со мной в темноте, и я знал, что начинается нечто, отчего никому не будет хорошо, начинается разлад и раздор, и уйти от этого невозможно, потому что это – счастье, это и есть гармония.
Да, я утверждаю, что гармония принадлежит любви и истории, а значит в этом понятии нет ни благодати, ни покоя. Неужели правда так? О, если бы можно было напитать жизнь смыслом, миновав историю и любовь, если бы гармония не была отчего-то нужна – как бы счастлив я был, в отсутствие этого болезненного счастья. И как бы хотел я быть просто, незатейливо счастливым, Боже мой, отчего ты не предлагаешь этого? Отчего, когда думаю про любовь и историю, я вспоминаю черный холодный чай на подоконнике и сломанный тополь под окном – но ведь ни в том, ни в другом нет ни благости, ни красоты. Отчего, стоит мне услышать слово «счастье», я вижу кирпичный свитер с растянутым воротом? Отчего так перетянуло мне душу? Почему хорошие и достойные люди, окружающие меня, не приносят покоя и облегчения, почему? Неужели их нет – простых, понятных, легких? Развяжите, кричу я, освободите меня! И тут же в страхе: Не надо! Не отпускай! Не уходи!
Мне она виделась солдатом, пришедшим, чтобы раздеться и лежать подо мной с раздвинутыми ногами. Она лежала голая, но вся собранная и отрешенная, как солдат, и от этого я чувствовал себя солдатом тоже. И мы с ней были там, где по-настоящему опасно, это совершенная правда, потому что там, где любовь, там, где история, – там по-настоящему опасно. И когда я входил в ее худое тело, это и впрямь напоминало удар – нет, не Овидиевские любовные битвы я имею в виду, не Боккаччевские сражения под пологом, но нечто вовсе не поэтическое: удар, проникающий в плоть, ранящий человека. И она лежала подо мной, широко раздвинув ноги и так же широко раскрыв глаза, и в них не было никакой поэзии – только терпение и юля, как у солдата.
Мы лежали под красным одеялом, и она сказала: хочешь, пойду прочь? Да, она уже и тогда думала про это, она знала заранее. Больше того: она не появилась еще у меня, а все было уже решено. Она представила так, словно может уйти или остаться по моей воле – и моей гордости и самомнения как раз хватило на то, чтобы поверить. По моей воле, как же! Будто бы любовь или историю подчиняют волей. Волю они лишь пробуждают в участниках событий, но попробуй эти события подчинить. Любовникам и полководцам только кажется, будто они лепят события волей, им лишь мнится, будто их истовость – залог движения. Чепуха. Не истовостью делается история, но беззаветностью. Тогда у меня ни на языке, ни в мыслях не было подобных определений. Я смотрел на нее, на тот сгусток темноты, который был ею в этой темной комнате, выходящей окном на пустырь. Все, что говорил я тогда и потом, – несущественно; по испорченности, я вкладывал много смысла, но вложил лишь растерянность. Имел в виду я, как выяснилось позже, простое: раз попав в историю, из нее можно уйти, только оставив в ней жизнь.
Проснувшись, я, как это часто бывает со мной из-за переездов и гостиниц, не мог сразу понять, где нахожусь. Утро было серое, я лежал и смотрел на серый прямоугольник окна, и мне казалось, что такого окна я еще не видел, хотя это было мое окно. Я не помнил, в чьем я доме, в каком городе, в какой стране. В комнате еще было темно, и я не узнавал комнаты. Так я лежал, привыкая к незнакомому месту, потом встал и отдернул штору. На дворе было то время года, какое в России теперь бывает всегда, когда не лето, – слякоть и грязь. Видно было тополя с вороньими гнездами, помойку, в которой рылись две тетки, сломанную карусель, транспарант «Хочешь жить как в Европе? Голосуй за правых!» Помойки, тополя и тетки имеются во всех странах, но вот такой лозунг возможен лишь в России. Какой идиотский лозунг, думал я. Что он значит? Какая к черту Европа? Почему – если за правых, то как в Европе? А если за левых, что, – Азия получится? Климат что ли правые поменяют? Рассадят платаны вдоль Охотного ряда? Устриц в Москве-реке разведут? Я смотрел на транспарант и представлял себе лидера правых сил, – вертлявого коротышку с ранней плешью и сластолюбивым, слюнявым ртом. Выход у нас только один, говорил политик, двигаться на Запад, стать цивилизованной страной. Альтернатива этому – лагеря и Сибирь. Надо идти к прогрессу любой ценой. Не поймут сейчас, потом сами скажут спасибо. Я смотрел на транспарант и думал, что люди в России находятся в такой же безысходной истории, как любящие, и так же обречены. Их обманет и слюнявый коротышка тоже, и кто угодно другой. Они пропали. То, что мне выпало тебя любить именно здесь, в этой обреченной плоской местности, на этом трижды проклятом пустыре, придумано специально. Так нарочно было устроено, чтобы я понял, что такое любовь.
Повторюсь: многие полагают историю чередой событий, то есть объектов, то есть, иными словами – набором тел (например, любовная история наглядно демонстрирует тела), – между тем история бестелесна, она забирает наше тело, чтобы растворить в себе. История – это такая едкая среда, уничтожающая природу. Хотя однажды ты сказала мне, что любовь – это золотой покров, и это тоже правда, так и есть, тут нет противоречия. Любовь, она как «Иоанн Креститель» кисти Леонардо. Весь мерцающий, словно под золотым покровом, подняв палец, он, искуситель, заманивает человека в историю – и эта история не обещает быть хорошей, но тем не менее является единственной.
Поверь мне, в том, что я пишу сейчас, нет оттенка осуждения. Не хорошей является история, да, совсем не хорошей, но единственной! Не привлекательной является любовь, но бесконечно сияющей! У истории, как и у любви, есть одно исключительное свойство – она всегда чиста. И это при том, что обеих всегда стараются замарать. Это, пожалуй, самое важное свойство как истории, так и любви. И как раз в чистоту любви, как и в чистоту истории люди, особенно просвещенные, склонны не верить.
Мы исходим из того, что искренность непременно связана с чем-то дурным, что глубоко запрятанными бывают лишь постыдные чувства. Выставить их напоказ и значит явить смелость и искренность. Легче поверить в искренность Генри Миллера, чем в искренность Толстого: воображение отказывается признать наличие неханжеского целомудрия. И люди, знающие жизнь, правы в своих сомнениях – они исходят из опыта. Этот житейский, исторический если угодно, опыт – он сильнее самой истории, – по той же причине, по какой бакалавр Самсон Карраско сильнее Дон Кихота, по той же причине, по которой любовный опыт сильнее любви. Есть много причин, по которым я стыжусь называться художником сегодня, одна из них в том, что современное искусство – это торжество мещанской морали и упадок рыцарской.
Но если бы я стыдился только этого. Всю жизнь я хотел быть свободным и прогрессивным, всю жизнь повторял слово «вперед» – и теперь я стыжусь своей жизни: если идти все время вперед, то как защитить тех, кто нуждается в защите и остается сзади.
Я хотел быть таким же надежным, как кружка горячего крепкого чая. А я не умел: только говорил, что хочу, но не мог. У меня не было другой цели, но не было смелости стоять на одном месте, назвать это место своим. Прости меня за эти пустые годы, а сам себе я никогда не прошу. Я сумею стать достойным тебя. Нет, я не хочу спрятаться, я готов пропасть. Пошли мне сил, Боже мой, отстоять это пространство, пошли мне сил отстоять эту историю – другого места для моей любви нет, и другой истории не будет.








