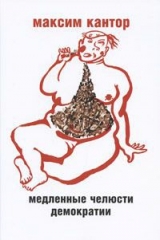
Текст книги "Медленные челюсти демократии"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
6. Война гражданская и война народная
На истории мировой войны следует задержаться: странности современной демократии происходят из странностей этой войны. Это была действительно какая-то неправильная война.
Первую фазу ее (а именно действия во Франции) назвали «странной войной» – и верно, тогда случилось много необъяснимого с военной точки зрения: армии избегали столкновений, Гитлер дал возможность английским войскам уйти нетронутыми через Дюнкерк, хотя легко мог их уничтожить и положить конец войне в принципе. Термин «странная» следовало бы распространить на всю эту войну.
Иначе, чем безумием, нельзя объяснить факт, что Германия в одиночку решилась воевать со всем миром. В том, что мир Германию разбил – удивительного нет, удивительно – как можно было одному напасть по всем направлениям сразу? Впрочем, немецких фашистов и считают сумасшедшими, не так ли? И в этом пункте также содержится странность: «историческая вина», вмененная немецкому народу, не может быть полноценным юридическим термином, если речь идет о безумии. Если народ сумасшедший, на нем нет исторической вины, но если вина есть, то народ, безусловно, не сумасшедший. Но может ли народ сойти с ума, особенно если это крайне рациональный народ?
По выражению Вальтера Ратенау, министра реконструкции тех лет, Германия напоминала нормального человека, насильно помещенного в сумасшедший дом, в результате чего этот человек понемногу усвоил повадки своих сокамерников. Германия должна была сойти с ума, и она благополучно с ума сошла.
Прежде чем появились мистики из гиперборейского общества Туле, расовые теории, оккультисты и геополитики, и для того чтобы они появились, – в стране были созданы условия жизни, далекие от нормальных. Были введены репарации, превышающие во много раз годовой доход – и введены они были сроком на тридцать семь лет, добавьте сюда денежные купюры с указанным сроком годности (как на консервах) – это чем не безумие?
Рассказывают так: сначала случилась мировая война; виновных наказали, в их стране случился кризис, они озлобились; в результате к власти пришла банда националистов, они одурачили народ, захватили полмира, сожгли евреев, зло стало очевидно всем. Добрые люди мира, сплотившись, встали на защиту гуманности, победили зло. Если бы это было правдой, в результате войны жизнь на планете радикально поменялась бы.
Когда происходит война из-за некоего объекта – результатом является обладание данным объектом. Скажем, результатом войны за Лотарингию становится обладание Лотарингией. В результате войны за престолонаследие на трон восходит король. Логично предположить, что когда происходит битва за гуманизм, то в результате победоносной войны искомый гуманизм обретают.
Но этого не произошло. Как убивали людей так и продолжают убивать – причем после Второй мировой войны убили не меньше, чем во время ее, но больше. Это необходимо знать. Дальнейшие убийства осуществлялись теми же самыми политиками и военными, которые совсем недавно избавили мир от так называемой коричневой чумы. Не прошло и десяти лет, и те же самые люди применили оружие против другой коричневой чумы – на сей раз словом «коричневый» описывается цвет кожи. Многие из офицеров, участвовавших в Мировой войне, не успели даже зачехлить оружие, как потребовалось снова его пускать в дело. Соратники Сталина, Черчилля, де Голля и Рузвельта прошли хорошую школу в сороковых – и в пятидесятых действовали превосходно. Это противно разуму, в это не хочется верить: ну не могут же люди, которые только что – вчера! – боролись за демократию, не могут же они! Отлично могут, и как раз во имя демократии. Но ведь только что они покончили именно с адептами расовой теории – так что же теперь?
Но кто и когда говорил, что расовые теории или жестокость как таковая были чужды победителям в битве за гуманизм? До тех пор пока гуманистический новояз не вошел в современную политику, – никто из европейских колонизаторов вообще не поминал о том, что такое хорошо и что такое плохо по отношению к туземцам. Я приведу лишь одну – но выразительную – деталь. В берлинской тюрьме Моабит нацисты пытали Эрнста Тельмана, его били кнутом из кожи гиппопотама. Когда впервые слышишь про этот кнут, то мерещится что-то экзотическое и даже забавное. На самом деле это изощренная штуковина, изобретение весьма злых людей. Кожа гиппопотама толстая и жесткая, вырезанные из нее ремни, засыхая, скручиваются в спирали, а края их становятся острыми. Получается длинная, скрученная в спираль бритва. Когда человека бьют таким кнутом, то сдирают с него кожу заживо, кожа слезает клочьями. Этот инструмент изобрели прогрессивные английские колонисты – и широко применяли его при вразумлении туземцев; никто не выдерживал больше двадцати ударов, умирали в мучениях. Тельман оказался крепче – выжил; его перевели из Моабита в Бухенвальд, где и расстреляли.
Едва с Третьим рейхом было покончено, как победители принялись за другие дела – работы в мире оставалось с избытком. То был процесс деколонизации, переоформления отношений с подмандатными территориями, передел старого мира, – этим намеревались заняться фашисты, но ведь и демократам переделывать старый мир надо тоже. И, как выражалась леди Макбет, кто бы мог подумать, что в старике столько крови.
Алжирская война пятьдесят четвертого – шестьдесят второго, Суэцкий конфликт пятьдесят шестого года, Гана в пятьдесят седьмом. Британские Индия и Пакистан, а также Бирма и Цейлон, французский Индокитай в пятидесятых. Прибавьте португальские Родезию, Анголу, Кению, голландскую Индонезию. Многим людям (не европейцам, разумеется) слово «Калимантан», говорит больше, чем нам Майданек. Прибавьте сюда бельгийское Конго, где кровавая война шла много лет подряд, вплоть до шестьдесят седьмого года. Алмазные шахты, золото, медь, цинк, руда – дело того стоило. Отрезанные европейцами руки, уши и носы – Катанга, вот еще одно название, которое следует помнить наряду с Майданеком, народу там погибло не меньше, чем в лагере смерти. Мадагаскар сорок восьмого года, Камерун шестидесятого, Малайзия шестьдесят третьего. Все перечисленные войны были именно демократическими – во всяком случае, одна из воюющих сторон, несомненно, была цивилизованной и демократической.
Помимо указанных, были и внутренние туземные войны – спровоцированные процессом деколонизации. Западные демократы принимали в них посильное участие, поддерживая одну сторону или обе сразу. Йемен и Марокко, Бокасса в Центральной Африке. Мобуту в Заире, Амин в Уганде. Лаос семьдесят пятого года. Филиппины шестьдесят восьмого.
Мы еще не добрались до Востока: арабы и евреи, Палестинский вопрос, война Ирака и Ирана, тамильские войны в Бирме, история республики Бангладеш. Мы еще не отметили американскую кампанию во Вьетнаме, резню в Корее, Иракскую и Югославскую кампании, Афганистан – советскую и американскую агрессии. Надо ли прибавлять сюда резню в Руанде и Сомали, Чили и Аргентину, Молдавию и Карабах, Узбекистан и Чечню – или уже достаточно? Вероятно, к общему счету надо приплюсовать движения сепаратистов – курдов, басков, ирландцев, колумбийских партизан, и так далее.
Иногда эти бесконечные локальные войны именуют Третьей мировой войной – и без всяких на то оснований: во всяком случае, эта двадцатилетняя резня по окраинам мира не дала нам новых Хемингуэев, Ремарков и Сартров. Если и были туземцы-гуманисты, то их голос до просвещенного мира не дошел. А что же и превращает локальную резню в мировую войну, как не великий урок гуманизма, извлеченный из кровопролития. То были мелкие демократические конфликты, в основе их лежало понимание свободы и гражданских прав. Во всяком случае, велись все эти войны с демократическим пафосом и во имя демократии. Посчитайте жертвы, начав для простоты с Руанды, где число убитых перевалило за миллион – и сравните с итогами мировых войн.
Простое любопытство вынуждает спросить: почему демократы сначала боролись с бесчеловечностью и немедленно после победы сами принялись убивать людей? Это столь же интересно, как и то, почему читатели Шиллера в тридцать девятом взяли в руки автомат. Это, собственно говоря, один и тот же вопрос. И может быть, гуманизм не победил во Второй мировой войне потому, что боролись вовсе не за гуманизм.
Чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо разъяснить самую кардинальную странность Второй мировой войны.
Это была война, в которой все было наоборот. Все определения были перепутаны изначально. Это была война, в которой нападали те, кому надо бы обороняться, а оборону держали нападающие. Это была война, в которой стратегия была страшнее тактики, а тактика была очень страшной. Эта война не нуждалась в мирном решении и откладывала мир до тех пор, пока все вокруг не стало полем боя.
Это была на столетие вперед спланированная война, хоть план ее и удивлял многих современников. Джон Мейнард Кейнс (тот самый, автор экономики Нового курса), анализируя итоги Версальского мира, написал так: «В истории найдется немного эпизодов, которые так мало заслуживали бы снисхождения потомства, как то, что произошло теперь: мы начали войну как будто бы в защиту священных международных обязательств, а кончилась она тем, что победоносные борцы за этот идеал нарушили одно из самых священных обязательств такого рода». Впрочем, Кейнсу посчастливилось дожить до сорок шестого и увидеть, что дело устроилось наконец ко всеобщему благополучию.
Эта война, внедрив в современную историю понятия «гуманизма» и «злодейства», «цивилизации» и «варварства» (разве кто-нибудь думал во время Столетней европейской войны в этих терминах?), на деле все эти понятия перепутала. Кажется: все предельно ясно в этой драме, а финал пьесы скомкан. Это оттого, что с самого начала все в этой войне перепуталось, словно артисты нарочно брали чужие роли.
Романтикам выпало играть роль мясников, прагматикам и спекулянтам – роль бескорыстных мечтателей, рабам и крепостным – роль свободных людей. Студенты немецких университетов душили в газовых печах детей, британские банкиры из Сити представлялись филантропами, американские империалисты сыграли роль борцов за свободу народов, крепостные крестьяне Поволжья салютовали штандартами поверженного врага. Каждый из участников драмы представился кем-то иным, не самим собой. Когда это английский колонизатор сражался за свободу чужого народа? Разве можно вообразить себе, что Черчилль, в молодости подавлявший независимость буров, вдруг решил биться за независимость кого бы то ни было в принципе? Когда американский империалист делился с революционером?
Странность исчезнет, стоит понять, что слова «колонизатор», «империалист», «революционер» имеют совершенно иное значение в демократическом обществе; они теряют свой первоначальный смысл, существуют в иной логике. Взятые из словаря восемнадцатого века, эти слова в реальности двадцатого не описывают ничего внятного. В новой логике английский колониалист и финансовый воротила выступают гарантами слабого и нищего рабочего, они защищают его от посягательств другого колониалиста. Если они завтра данного рабочего съедят без соли, то это не опровергнет их благодеяний. В данной логике понятие «демократ» не означает революционера – демократ, это тот, кто за строгий порядок. И народ, мечущийся между невнятными определениями своих вожатых, в толк не возьмет: кто же, собственно, собирается повысить ему зарплату? Демократы? Капиталисты? Националисты? Никто не собирается – народ имеет к демократии отношение служебное.
Эти перевернутые роли есть следствие перевода войны империалистической – в войну гражданскую, а затем войны гражданской – в управляемую народную войну.
Гражданская война – это то состояние мира, которого добивался Ленин и которое Сталин, Черчилль и Гитлер совместными усилиями уничтожили. Исходя из этого, я не могу принять (несмотря на обаяние формулировки) концепцию Эрнста Нольте о длительной европейской гражданской войне. Вернее сказать, гражданская война как фаза мутации общества, несомненно, присутствовала, затем войну перевели в иное качество, более перспективное. Перевести войну империалистическую в войну гражданскую – это было революционное требование десятых годов. Надо было сделать так, чтобы два воюющих меж собой крестьянина увидели, что враг на самом деле общий – не участвующий в схватке буржуй. Это сознание привело к остановке монархической войны, к делению нации на враждебные классы, к братоубийственной резне в России, созданию враждебных правительствам интернационалов трудящихся и т. д. Но чтобы мировая империя уцелела, да еще к тому же выстроилась на новых условиях, следовало произвести два следующих шага. Войну гражданскую надо было перевести в войну народную, а войну народную – в войну новой империи. Так только можно было добиться нового передела мира, появления новых классов, нового – более мощного – финансирования власти, новых поборов с провинций. Гражданские войны – история Рима описывает их подробно – и вели к Империи. Так случилось и в наше время, но переход к основной задаче занял несколько стадий. Новым, ключевым для новой истории процессом, стала война народная.
Термин «народная война» использовался не только в России, он описывал состояние дел в любой стране того времени: сражались не только армии, но народы. Скажем, в 1812 году, по выражению Толстого, Россия применила против регулярной армии Наполеона ненормальное по тем временам оружие – «дубину народной войны», потому и победила. Но во Второй мировой «дубиной» пользовались все – немецкие мальчишки обороняли Зееловские высоты, народное ополчение защищало Москву, Черчилль призвал защищать каждый дом, Кодряну готовил школьников в партизаны. Мысль о дуэли армий отсутствовала в принципе. Соответственно и поражение терпела не одна лишь армия.
То было радикальное изменение в сознании воюющих сторон – прежде дрались за границы, а теперь за мировой порядок, при котором тот или иной народ, нация, этнос получает преимущества развития – а другой народ унижен. Соответственно и народ сражался за свое выживание в качестве этноса, мобилизуя все свои силы. Поразительно, каким образом немецкая промышленность не только не снизила, но напротив, увеличивала выпуск военной продукции вплоть до лета 1944 года, пик производства самолетов приходится на июнь 1944-го, и это несмотря на жестокие бомбардировки. На Нюренбергском процессе министр вооружений Шпеер показал, что в экономическом отношении война была проиграна Германией уже к маю 1944-го, и тем не менее если разрушались здания заводов, люди продолжали работать под открытым небом, станки останавливались лишь тогда, когда танки противника въезжали в заводские ворота. Сохранились свидетельства о том, что горняки в шахтах продолжали работать, когда бои уже велись на отвалах – и никакой гитлеровской пропагандой, никакими идеями национал-социализма этот смертный энтузиазм объяснить невозможно. Войной (то есть продолжением политики) это буквально назвать нельзя, то был скорее естественный отбор, и нация дралась за свое биологическое существование. Скажем, в испанской гражданской войне сражались не за границы, но за идеи: за коммунизм, за республику, за католичество, за монархию, против фашизма – но в любом случае не за этнос, это было бы невозможно, при том, что народ был поделен пополам. В этой войне проиграла идея республики, проиграла идея анархо-синдикализма, класс пролетариата – и если в ходе войны и проиграл народ, то лишь потому, что его использовали в экспериментальных целях. Совсем иначе развивались события в войне народной, войне демократической.
Народная война оставила социальные идеи (в том числе и демократическую риторику) в стороне. Солдаты умирали за Родину и за Сталина или Гитлера (и далеко не в первую очередь за идеалы национал-социализма или программу ВКПб). К тому времени как прозвучали слова «Вставай, страна огромная!», было понятно, что отныне на бой зовут всех подряд – и белых, и красных, и середняков, и бедняков, и интеллигентов, и чиновников, и партийцев, и беспартийных. То же самое произошло в Германии, когда внедрили понятие Volk (народ).
Когда гражданскую – классовую – войну (bellum civile) заменяют на войну народную (bellum populare) происходит то, что весь народ переводится в ранг армии. Такого термина у римлян не было, они говорили лишь о «внешних войнах», которые вели регулярные армии (приведенный латинский термин в русскую публицистику ввел Загоскин, описывая войну 1812 года), но, вероятно, и в Риме знали такую общую беду, когда требуется участие всех граждан: если Карфаген должен быть разрушен, то встает весь народ.
Конечно, и в гражданской войне тоже участвует население, но в гражданской войне все же существует различие между солдатом и крестьянином: тот полководец, который жжет деревни, квалифицируется если не как бандит, то как солдат, превысивший полномочия. Даже сталкиваясь с партизанским движением, диверсиями и саботажем (Наполеон в Испании и России, англичане в Оранжевой республике, и т. д., вплоть до белых генералов во время гражданской войны) армия применяла жестокость дозированно, не резала баб и детей. Те генералы, которые шли на экстраординарную жестокость, действовали так отнюдь не по приказу командования. При переводе войны в статус народной – принцип менялся полностью. Отныне воевали не армии. Не германская армия сражалась с Советской армией, но немецкий народ с русским народом, английский народ – с германским. А народ по отношению к другому народу способен проявить любую жестокость. Практика Sonderkommanden, когда сжигается вся деревня со стариками и младенцами (сегодня это называется словом «зачистка» и применяется по приказу командования в Чечне, Ираке, Вьетнаме и т. д.), различие между населением и армией практически нивелирует.
Взамен классовых врагов или солдат противника стали наказывать просто евреев, просто славян. Так действовали в дохристианскую эпоху (афиняне проявляли исключительную жестокость в Пелопоннесской войне, отрубали всем мужчинам правые руки, продавали всех женщин в рабство, за что их осуждали, говоря, что так можно поступать лишь с варварами), такое практиковали европейцы в колониях, но внутри европейской цивилизации это было новшеством. Отныне наказание народа (скажем, недавние бомбардировки Сербии) получили легитимное, демократическое оправдание. Данная страна – совсем не армия, не правительство, но страна – нарушила мировой порядок, и народ этой страны следует проучить. Разумеется, в таких случаях говорится, что виноват режим данной страны – но если этот режим демократический, какой из этого следует вывод? Что это не вполне та демократия, какая требуется, – и демос надо вразумить.
Война народная ведется не против класса угнетателей, не против чужой армии, но против народа, данный народ наказывается (или истребляется) просто на основании того, что он не слишком удобен в употреблении, не годен для нового порядка мира. Приговор «историческая вина» немецкого народа – из того же словаря. Классовая, то есть гражданская, война возникла как наследие монархий, как следствие революционного изменения общества, следствие претензий, вмененных бедными богатым. Но следующую фазу – войну народную, войну против народа придумала уже демократия; народная война – это демократическая война.
В такой народной войне понятия «капиталист», «демократ», «республиканец» и прочие, имевшие определенный смысл в войне гражданской, – уже теряют всякий смысл. Чехарда определений, перекочевавших в мировую демократическую войну из войны гражданской, внесла изрядную путаницу. Однако постепенно с определениями разобрались – сегодня они никого уже с толку не собьют. Нанося сегодня карательные удары по промышленным объектам Ирака, Ливии, Югославии, Сомали, Грозного, – те, кто отдают приказы, оперируют аргументами, введенными в пользование во время возникновения демократической войны.
Логика хладнокровного истребления мирного населения была сформулирована именно тогда. О зверствах нацистов говорено предостаточно, сегодня имеет смысл сказать о том, что такова логика народной войны в принципе. Ничего более чудовищного, чем рациональное убийство нацистами еврейских детей – не существует. Ежедневное убийство детей, стариков и женщин, убийство, которое выполняли как тяжелую работу взрослые, неглупые люди – этого нельзя ни забыть, ни простить.
Но это ведь было не сумасшествие, но последовательная акция – это была стратегия. А всякая стратегия поддается пониманию.
Возьмем сравнительно простой пример – бомбардировку англичанами Гамбурга. Бомбардировки мирного населения – это очень и очень похоже на лагерь смерти, однако они находят полное оправдание. Да, погибали рабочие, а не солдаты, но – будем называть вещи своими именами – эти рабочие производили то, что могло обернуться во вред войскам противника. Да, союзники бомбили не только левый берег Эльбы, но и правый, тот берег, где промышленных объектов не было. (Для справки: из общего количества 955 044 тонны бомб, сброшенных англичанами на Германию, только 143 585 тонн было сброшено на промышленные объекты, а на города – рекордная цифра – 430 747 тонн.) Да, убили сотни тысяч жителей, люди сгорели заживо, город обратился в пепел, как некогда Помпея. Однако – и так рассуждают компетентные историки – будем последовательны: так называемое мирное население Гамбурга работало на верфях, производящих подлодки. Отчего солдат, обслуживающий полевое орудие, может считаться мишенью на войне, а рабочий, обслуживающий верфь, где собирают лодку, которая выйдет в море и станет оружием, – не считается оправданной мишенью для стрельбы? И если жена данного рабочего обеспечивает мужа супом и котлетами, – то можно ли считать ее вовсе не повинной в боевых действиях армии, чье оружие производит рабочий? Почему (воспроизвожу рассуждение профессионала) можно обвинять пилотов, сбрасывающих бомбы, но с рабочих, которые производят оружие нападения – обвинение снято? Уж если пилоты виноваты, то и рабочие виноваты, а следовательно, бомбардировка Гамбурга – оправданное и нормальное решение военного вопроса.
Эта логика ведет рассуждение далеко. Как можно снять вину с женщин, которые потенциально могут произвести на свет мужчин, способных стать врагами нападающей стороны? И как можно миловать младенцев, которые со временем имеют шансы превратиться в солдат? И разве можно оставить в живых стариков, которые могут помнить такое, что станет основанием для формирования оппозиционного сознания?
В пределе рассуждения – это логика геноцида. Стирая границу между мирным населением и войной (а в Гамбурге эта граница была стерта буквально, вместе с людьми), не замечая того, оправдывают Холокост. Как можно щадить приказчика, если убиваешь банкира – ведь из приказчика вырастет банкир? Как можно щадить народ, если убиваешь его солдат – ведь из мирного населения рекрутируются новые солдаты? Как можно щадить ребенка, если убиваешь его отца? Как можно оставить в живых некоторых евреев, если убиваешь других? Все равно народятся новые евреи – и они снова станут банкирами. В сущности, нацистские палачи не испытывали ненависти к еврейским младенцам – они просто разумно понимали, что младенцы вырастут и тоже будут евреями, не исключено, что станут ростовщиками, такими же, как и те, что губят германскую экономику. Если пилот бомбардировщика в той же мере является солдатом, что и жена портового рабочего, то и еврейский младенец в той же мере агрессивен, как Рокфеллер, требующий репараций. Эта логика, примененная единожды, делает в дальнейшем любое обвинение в жестокости – бессмысленным. Однако именно эту логику применяли – что же удивительного в том, что победители в войне за гуманизм оказались не особенно гуманными?
Бомбардировки Нагасаки, Хиросимы, Кельна, Франкфурта, Гамбурга были оправданы, хотя по степени бесчеловечности они ничем не отличаются от практики лагерей смерти. Эти злодейства были совершены как акт возмездия или просто как хладнокровное убийство – в любом случае, их совершили уравновешенные люди, которых история в безумии не заподозрила. Общество, решившее бросить атомную бомбу на мирный город, никто безумным не считает. Так выглядит демократическая война – только и всего.
Рассуждая об убийствах, приходится смотреть на цифры – в конце концов, не этим ли заняты либеральные политики, когда сопоставляют дебет жертв освободителей с кредитом жизней освобождаемых? Демократическая война, увы, делает такую арифметику неизбежной, ведь мы говорим, что в результате убийства некоторых многим будет лучше. И цифры, сообщенные нам официальной идеологией, почти всегда фальшивы: злодеяния тоталитарных держав подаются в превосходной степени сравнительно с ущербом, учиненным демократическими врачами.
Думаю, будет справедливо числить среди лагерей смерти – наряду с Майданеком, Бухенвальдом, Колымой – также и Хиросиму с Нагасаки. Немецкая демократия устроила лагеря смерти одного типа, русская демократия – лагеря смерти другого типа, а Хиросима и Нагасаки – американские лагеря смерти. В этом заключении нет ничего поразительного – оно просто точное.
Демократическая война есть достижение двадцатого века, явление, обеспечившее рекордное количество жертв. Ни феодальная война, ни империалистическая война, ни колониальная – такой богатой жатвой похвастать не могут. Собственно говоря, война демократическая вернула человечество к племенной войне, к тотальному истреблению враждебного племени. Новая бесчеловечность отличается от племенной тем, что в основе ее лежит обдуманный принцип равенства, принцип свободы и права – примененный избирательно, то есть по отношению к одному обществу. Нацисты, убивавшие евреев, исповедовали определенные принципы, оперировали словами «право» и «благо», но применяли их к своему народу – не к чужому. То была тотальная война демократического общества против народа, объявленного неспособным усвоить принципы демократии.
Граница между армией и мирным населением стерлась в войнах двадцатого века не случайно, и не злой волей немецких нацистов. Отсутствие различия между гражданскими и военными свидетельствует об одном: о принципе демократии, примененном в бою. Такая бесчеловечная война, какая велась в двадцатом веке, стала возможна меж демократическими странами – и как следствие применения демократических принципов. Народ был объявлен хозяином своей судьбы, и народ убедили, как должно своей судьбой распорядиться: отдать жизнь. Смерти повинен каждый, на том же основании, на каком он наделен правом голоса; использовав человека однажды для прихода к власти, логично продолжать его использовать.
На войне, не отличающей прачку от летчика, люди гибнут за свое равенство в правах: прачка ведь уравнена в правах с летчиком? Миллионы гибли не за Черчилля, Рузвельта, Сталина, Гитлера, не за колонии, рынки сбыта, прибавочный продукт, алмазные шахты, – но за свободу народа в целом. А в чем эта свобода выражается – никто и ответить бы не смог. Вероятно в том, чтобы отдать жизнь за колонии и рынки сбыта. Когда американская демократия истребляет иракское население, и количество жертв стократно превышает количество жертв свергнутой тирании – в этом нет противоречия. Режим Ирака был уничтожен как диктаторский – а диктатору не под силу убить столько людей, сколько убивает демократия. Нелогично сравнивать количество жертв демократии с количеством жертв тирании – да, демократия убивает больше народу, но неправы тираны, тирания есть препятствие прогрессу.
Когда английская и американская демократии стали уничтожать германскую демократию, которая истребляла русскую демократию, – счет пошел на десятки миллионов убитых. Но результатом демократической резни стала победа одной из демократий – то есть торжество наиболее прогрессивного способа управления уцелевшими жителями планеты. В дальнейшем, уже победив, «мироуправляющая» демократия стала налаживать порядок во всем своем хозяйстве сразу. Демократия ведет имперские войны, упорядочивает мир. Столкнувшись с косностью иных провинций, победившие демократы прибегли к суровым карательным мерам – и счет убитых тоже пошел на миллионы. Именно это, то есть тотальный диктат демократии, и принято считать общественным благом.
Человек сделан по образу и подобию Божьему, так неужели убийство себе подобных (то есть подобных Богу, как и ты сам) можно оправдать цивилизаторской целью, объяснить иначе, чем жаждой власти и денег? И на кой ляд сдалась демократия, если у нее руки в крови? Суждение следует высказывать крайне осторожно, чтобы вместе с пафосом защиты людей от демократической тирании – не оправдать былого тоталитаризма. Действительно, при Сталине воровали меньше, при Гитлере строили великолепные дороги, Муссолини наладил расписание поездов в Италии – да и народу они убили не многим больше, чем демократы. Но, пожалуй, этого недостаточно, чтобы забыть газовые камеры и лагеря. То, что сегодня от обличения воров-депутатов легко переходят к оправданию Сталина и Гитлера, такая же невыносимая глупость, как и то, что воров-депутатов объявили представителями разума и добра. Тоталитаризм, разумеется, никак и ничем не лучше демократии – но много хуже и страшнее. Миростроительная демократия гораздо живее и откровеннее в риторике, чем демократия мироуправляющая. Сталин и Гитлер были гораздо откровеннее сегодняшних демократов – и уже этим они страшнее. Черчилль мог бы сказать о Гитлере теми же словами, какими Дизраэли говорил о Бисмарке: «Бойтесь этого человека, он говорит то, что думает». Великолепна рыцарственная риторика Черчилля – хотя бы благодаря ей одной он останется символом свободы, и никто не станет вспоминать, что он первый санкционировал применение отравляющих газов в Первой мировой или выдал казаков на растерзание Сталину, не будут поминать ему антисемитских политических статей, написанных задолго до Розенберга (о, разумеется, Черчилль никогда не договаривался до жестоких рецептов, он лишь трезво оценивал возможности народов) и жестокой колониальной политики.
Невозможно отрицать, что победа над фашизмом принесла народам свободу. Это – безусловно – была необходимая миру победа над абсолютным злом. Так же трудно отрицать и то, что сегодняшняя свобода содержит в себе элементы тоталитаризма. Противопоставлять тоталитаризм и демократию нелепо, поскольку они явления одной природы.
Позволю себе предположить, что тоталитаризм возникает именно из демократии просто потому, что взяться ему больше неоткуда. Тоталитаризм есть финальная фаза демократии, такое состояние общества, когда оно от правозащитной риторики переходит в состояние рабства незаметно, практически добровольно. Следует различать тиранию, так сказать, первичную, явившуюся органичным продуктом эволюции, то есть безмерную власть фараона, Ивана Грозного, Чингисхана – и власть, сделавшуюся тотальной, так сказать, путем вторичной переработки эволюционного процесса. И Сталин, и Муссолини, и Гитлер, и Пиночет, и Франко, и полковник Бакаса, и папа Дювалье, – есть прямое порождение демократии, они демократы по своему происхождению. Именно эту власть, тотальную, конституционно укрепленную, жертвующую каждым во имя всех, а всеми во имя власти империи – и называют тоталитаризмом. Такая власть – продукт вторичной переработки общества, Чингисхан к ней отношения не имеет. Скажем, Саддам Хусейн был тиран – но его режим не является тоталитарным, это первичное образование, деспотия, присущая данной культуре. А генерал Пиночет, вероятно, тираном не был – напротив, был либеральным сеньором – но установил тоталитарный режим. Соответственно, борьба тоталитаризма с демократией во многом напоминает борьбу бабочки с куколкой, и приводит эта борьба к образованию новой бабочки.








