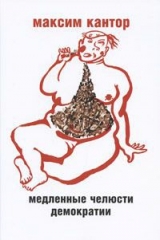
Текст книги "Медленные челюсти демократии"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Письмо второе
Милый друг,
выбирая, как обратиться к Вам, я остановился на этом эпитете. Именно так, как покинутая любовница к безупречному красавцу, и должен обращаться русский к европейцу. Было время, и совсем недавнее, когда я всматривался в Ваши черты, столь похожие на мои, но отмеченные печатью избранности, ясности пути и предназначения, всматривался с благоговейной преданностью и надеялся стать достойным нашего знакомства. Мое происхождение меня пугало, своей дикой родни я стеснялся, моя жизнь мне самому представлялась нелепицей, и как же хотелось той цельности и ясности, что присущи Вам. Еще немного, казалось мне, и мы впрямь станем равны, я тоже буду включен в это великое братство цивилизованных, я тоже смогу нести великое Бремя Белых, дайте мне лишь соскрести со щек боевую раскраску, смахнуть степную пыль. Еще вчера мне не пришло бы в голову писать это письмо. Только присяга на верность – и она была произнесена. Милый друг, я до головокружения влюблен в Ваш европейский мир. И никакого иного счастья не мыслил я, как только прикоснуться к Европе, увидеть ее соборы, выпить ее вина, вдохнуть ее воздуха – воздуха культуры, цивилизации и свободы. Я – или мы, если говорить чуть более отвлеченно – так и представлял себе устройство мира: совсем рядом с дикими бесправными степями, где страшное прошлое определяет страшное будущее, есть возделанная и обжитая культурой страна. Это воплощенная культура; там не шлют без суда в лагеря, а судят судом присяжных; там не заставляют вставлять в диссертации цитаты из Маркса, не жмутся в хрущобах, не пьют плохой портвейн спозаранку. Улицы там чисты, и прохожие друг другу улыбаются. Когда мы встречали случайных командированных, тех, что сумели пять дней прожить за кордоном, мы ловили каждую подробность рассказа, мы поражались: отчего они, неразумные, вернулись? Ведь ясно же написал Мандельштам в статье о Чаадаеве: первые посланные учиться на Запад не вернулись, потому что нет обратного пути от бытия к небытию. Вот так – и не меньше! Мнилось: попади я в Париж, упаду на святую землю, вцеплюсь в нее руками, так, что не оторвут, не увезут обратно, в постылое небытие, на пустырь с мокрым бельем и воронами, на трамвайные пути, ведущие к Дому культуры железнодорожников, на перекресток, поросший лопухом и заблеванный алкоголиками. Но я знал, не про меня все это – цивилизация, культура, самовыражение. Я сидел в блочной хрущобе, слушал, как за стеной рыгает сосед, гремит радиопередача, клокочет вода в сортире, и читал «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэя, читал в который раз и думал: никогда не увижу этот волшебный мир, я рожден умереть здесь, зажатый в квартирный угол. Кто из нас задумывался тогда о том, что помимо Запада существует Восток? Мир спрямился и вытянулся в одном направлении – от небытия к бытию, от бесправия к конституции, от пустыря к собору, от варварства к цивилизации. И когда Вы протянули руку, точно Саваоф на Сикстинском плафоне, оживляющий Адама, тогда весь мир наполнился смыслом. Россия будто пробудилась ото сна, – сна, в котором ей снилась Европа. И сделалось понятно, отчего в своем развитии мы отброшены так далеко в крепостное прошлое. Это революция и большевики, это Сталин и Ленин – наследники Чингисхана, это проклятый Джучиев улус, это бездарный коллективный рай, равенство сокамерников, да, вот что это такое, вот где причина. Ведь в 13 году, говорили мы друг другу и Вам, Россия уже была почти Европой. Поглядите на особняки вдоль Остоженки – чем не Вена, чем не Париж. И ведь был же Петр, был Пушкин-европеец, все-таки надежда есть. И мы бродили кругами возле изгаженных обломков модерна, точно возле развалин Помпеи – вот где культура, сожженная лавой варварства. И мы снова открывали Чаадаева и Оруэлла, чтобы упиться презрением и страхом. Но и без Оруэлла мы понимали, как жить. Лишь бы не подвести Вас, милый друг, лишь бы Вам не пришлось краснеть за нас. Спасибо, что дали этот, очередной, шанс, мы уж попробуем не выпустить Вашу руку, уцепимся покрепче. И так мы сильно Вас огорчали последнее время, довольно натворили мерзостей. И так мы уже явили миру неинтеллигентную свою рожу, раскосую, азиатскую, – постараемся хоть теперь все не испортить. Мы так и привыкли делить свою историю – на периоды ученичества у Запада и на возвраты к славянским корням, на пятерки и на двойки соответственно. Так мы привыкли воспринимать свою жизнь – как возможность изменить свою природу, возможность скорее всего несбыточную. Так мы привыкли делить общество – на сторонников европейского пути и ревнителей самобытности, на прогрессистов и националистов, либералов и государственников. Невозможно занять промежуточную позицию, говорили мы, ведь надобно отчетливо решить, куда идти – налево (то есть по географическим понятиям – на Запад) или направо (то есть на Восток). Либо суд присяжных, либо ГУЛАГ. Либо рыночная экономика, либо голод в Поволжье. Говорю это со знанием дела, милый друг, поскольку сам разделял эти взгляды большую часть жизни.
День, когда я смог сидеть в кругу парижских интеллектуалов, берлинских прогрессивных художников, лондонских гуманитариев, гарвардских профессоров и франкфуртских банкиров, день, которого я ждал всю жизнь, наступил слишком поздно – я уже успел стать русским. Я тянулся к избранным народам, старался как мог, но яд России проник слишком глубоко в организм. Я глядел на берлинских мыслящих парней, непременно одетых в поношенное черное; на лондонских гуманитариев с косяком марихуаны в одной руке и чаем с молоком в другой; на французских интеллектуалов, расставляющих по углам своих жилищ композиции из небрежно сложенных книг и морских раковин; я входил в их клубы и кафе, я слышал их призывы «to share ideas», и как же хотелось мне, дикарю, наконец-то «обменяться идеями» с ними, рожденными свободными. Но вместо этого я задавал вопрос: обмениваться идеями? Но какими? Демократия, конституция, прогресс? Быть еще радикальнее и авангарднее? Вот это вы и называете идеей? Нет, в самом деле, вот это?
Скоро я перестал share ideas. Письмо, которое я пишу Вам нынче, я одновременно пишу и самому себе – тому, молодому, ставящему знак равенства между цивилизацией и благом. Я пишу во имя Вашей покровительственной дружбы и моей безответной любви, той любви, что заставляла меня ненавидеть собственную Родину, лишь бы Вы поверили, что я правда люблю Вашу – которая никогда и ни под каким видом не собиралась стать моей Родиной и не могла. То была слепая любовь, милый друг, и, признайтесь, Вы поощряли ее. Вам ведь нравилось, что я не жалею ни отца, ни матери, лишь бы понравиться Вам, лишь бы Вы поверили в мою искреннюю преданность идеям демократии и европейских свобод. А я, чтоб как-то оправдаться в собственных глазах, твердил про себя строки Чаадаева: я не могу любить свою Отчизну с завязанными глазами, с заткнутым ртом, стоя на коленях. Так я повторял про себя и такой полагал основу своих отношений с Родиной. Но это было враньем.
Это было обманом, поскольку я никогда не любил свою Родину, – ни стоя на коленях, ни выпрямившись в полный рост, ни с завязанными, ни с отверстыми глазами, – я ее просто не любил. Все, что я любил в жизни, это были Вы, Ваша земля, культура и цивилизация. И именно потому, что это на самом деле так, я имею основание сказать сегодня: я не хочу любить Вас, стоя на коленях, с завязанными глазами, с зажатым ртом. Я хочу, чтобы мы оба – и Вы и я – были достойны моей детской любви. Я слишком долго взрослел. Сегодня я уже сомневаюсь, что то детское безоглядное чувство можно называть любовью: любовь это прежде всего ответственность, а Вы бы ведь не доверили мне отвечать за Европу, а за Россию я сам не хотел и не умел. Я долго думал, что счастье – это демократия и гражданские права, угол в Гайд-парке для свободных ораторов, теперь я знаю, что это всего лишь одна женщина; прошло сорок лет, прежде чем я понял значение простых вещей. Я теперь хочу научиться любить по-настоящему, – не абстракцию, но реальность, и если научусь, тогда, может быть, мне удастся наконец полюбить не только Вашу, но и свою Родину, и – главное – быть достойным той любви, ради которой живу и пишу.
Позвольте сказать сегодня вещи, которые – нет, не отменяют моей детской влюбленности, не оспаривают ее – но уточняют предмет нашей дискуссии, моей веры, Ваших уроков.
Я сомневаюсь сегодня, – и мне грустно говорить об этом, – что надежды, которыми Вы питали меня, имели под собой хоть какое-то основание.
Мне не верится, что страна, которой назначено быть Европой, могла не быть таковой столь долгий срок. Уж если России было бы предопределено стать Европой, она бы ею непременно стала. К тому же у нее явно присутствует иное назначение, а именно: соединять Европу и Азию. Если на миг допустить, что она стала Европой, какое же место тогда станет соединением Европы с Азией, как они будут перетекать друг в друга?
Представим, что есть большое тело – мир, и оно, это тело, определенным образом устроено, свою роль играют руки, свою – голова, свою – почки, свою – пятки, и т. д. И вот вдруг живот, скажем, или позвоночник – нечто, чему природой предписано соединять прочие части, вдруг возомнит о себе и возжелает стать головой. Не то беда, что не получится, но вот кто тогда станет вместо взбунтовавшегося органа исполнять его функции? Что вместо России станет этим базаром, где Восток торгуется с Западом? Что вместо России сделается этой рыночной площадью, где азиаты обменивают свои обычаи на европейскую валюту, а европейцы продают демократию за азиатскую нефть, где имеет свободное хождение – наряду с западными амбициями – восточная власть и восточная лень? Чем заменишь базар, где западную веру обменяли на восточную пышность, и вера сумела вспомнить, откуда сама родом?
И уж коли нам назначена роль кишечника или позвоночника, отнесемся к этой роли с почтением: анатомия мира, которой мы имеем основания быть нерадыми, имеет смысл и цель. Отнеситесь же к нашей участи с пониманием.
Разумеется, куда привлекательнее получить от природы внятное предназначение. А роль промежуточного звена не столь привлекательна. Мы и не то чтобы вполне европейцы, но и не азиаты, так, помесь, дворняга. Участь мутанта и есть то самое, что Вы часто называли «Russian extreme».
Если понимать, как часто это делают на Западе, Россию как страну крайностей, экзистенциальную страну, надо признать: в пограничных состояниях она не нуждается. Она погранична всегда. Она, собственно говоря, есть воплощение границы между Севером и Югом, между Западом и Востоком, или иначе – воплощение ничьей земли, то есть – пустыря. Мы все представители не умозрительного, но природного экзистенциализма. Такое состояние для России и ее обитателей привычно. Это особого рода экзистенциализм, русский экзистенциализм, в котором не существует катарсиса, момента истины и т. п. Эффектного события произойти не может. Это не европейская драма, трагичная, но яркая; это – русская жизнь, трагичная, но серая. Выхода нет в принципе, при любом исходе событий. Это и не плохо, и не хорошо, просто так устроено. Дадут конституцию или не дадут конституцию, отменят Юрьев день или нет – биография мужика мало поменяется. Что уж говорить о судьбе одного, о поступке героя? Возьмет генерал Корнилов Петербург – будет плохо, не возьмет – тоже будет нехорошо. Придут ли к власти правые, придут ли левые – жди беды. Покорят русские Чечню, не покорят – никому лучше не станет. В одном из эссе Камю появляется жизнеутверждающий образ цветущего миндаля, писатель говорит, что в самый лютый февраль он вспоминает, что в какой-то долине, забыл название, скоро зацветет миндаль. Но особенность России в том, что если что и зацветет, надо помнить: нормальное состояние как раз февраль. Действие в России не приводит к результату – но умаляет ли это значение поступка? Нет, ни в коем случае, напротив того: значение поступка возрастает. Поступки совершают не из созидательных, а из дидактических соображений. Никакая созидательность не приведет к изменению данной природы. Совершая поступок можно руководствоваться одним – долгом. Критерий поступка русского человека – это ни в коем случае не польза, но только и единственно – честь. Иными словами, деятельность русского человека имеет – по определению – нематериальную природу.
Вы скажете на это: что ж, разве не у нас научились вы, русские, самому понятию чести? Разве не наши беседы привили вам вкус к независимости, к культуре личного самосознания? И соглашаясь с Вами заранее, рассуждая о понятии «честь», я не могу обойти тему «независимой личности в России», возможна ли таковая – на европейский лад. Знаете, милый друг, эта, привычная в наших дискуссиях формулировка, с годами мне стала казаться парадоксальной.
Вопрос «Возможна ли независимая европейская личность в России?» напоминает детский софизм «Один грек говорит, что все греки врут». Тут уж, если независимая, то не европейская, а если европейская, то, само собой, зависимая – хотя бы от критерия оценки.
Очень хочется независимой личности, только почему, спрошу я Вас, это надо непременно связывать с Европой? Ибн Сина и Конфуций, например, личности, но не европейцы. Беда в другом – когда русский талант пытаются приспособить к Европе, выясняется, что он там ни к чему: а) не нужен; б) неудобен в употреблении. Обыкновенный умеренный гуманизм – гуманизм с человеческим лицом, в российских условиях это лицо теряет и обретает пугающие профетические черты. Так называемая «великая русская литература» была воспринята европейцами с корректировкой масштаба.
Принято называть первым русским европейцем Пушкина. Но куда важнее то, что именно европеец Пушкина как раз и убил. В будничном убийстве на дуэли первого поэта России французским туристом – без обмана, по европейским правилам, – принцип отношения Европы к России, или европейской личности к русской личности. Сколько Пушкинских дуэлей завершалось выстрелом в воздух именно за невозможностью выстрелить в гордость нашего Отечества. А вот европейцу было на это плевать, и по-своему, по-европейски, он был прав. Вызвал на дуэль – изволь. Все равны, все личности, все рискуют. С первым поэтом России расправилась Европа, расправилась, разумеется, не как с поэтом, а как с частным лицом; но он ведь и хотел быть независимым частным лицом, не так ли? Русские завели в своей стране европейскую забаву – дуэль, а у нее свои европейские правила – в ней все равны; факт принятия вызова уравнивает любого с любым. И одновременно вы хотите считать еще и другим счетом – «не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку подымал», и т. д.? Нет, господа, в Европе так не делают.
Мне кажется важным, что Пушкин погиб именно на дуэли и был застрелен именно французом, по европейским дуэльным правилам. Не солдатчина, не каторга, не крепость и не лагерь – в России это своего рода признание: собственно за творчество здесь и мучают, так здесь в некотором смысле положено, это уж наше, внутрисемейное сами убьем, сами стихи наизусть выучим. Но погиб поэт вовсе не за творчество, и убийство вовсе не было формой признания – и вот этого-то как раз и не простят никогда Дантесу. И хочется привычно сделать из смерти все же русскую, а не европейскую историю – царь злодея подослал, убийца кольчугу поддел, свет затравил и т. д. Так русская судьба при столкновении с европейским обычаем и законом норовит искорежить его под себя, переписать кириллицей. Как это не похоже на самого Пушкина, всю жизнь делавшего обратное. Самое обидное, что произошло на Черной речке с человеком, старательно написавшим русскую историю на европейский лад, это то, что последняя глава его истории оказалась и впрямь написанной иностранными буквами.
Это преувеличение, скажете Вы. Можно ли делать символ из случайности? Разве, скажете Вы, я не старался привить вам начатки знаний, образования? Разве я не просвещал Вас? Разве не искренне интересовался вашими достижениями? Не сочувствовал Вам в беде?
Что же ответить мне сегодня Вам, милый друг, и поймете ли Вы меня правильно, если я скажу «нет»?
Прошло время, когда европейцы ездили в Россию за острым ощущением беседы «о главном», ездили на интеллектуальное сафари, готовы были поспать на несвежих простынях, но отстрелить известного философа, опального писателя, подвального художника и напиться водки с фрондирующей богемой. Теперь на такие сафари охотников нет, поскольку и опальный писатель, и подвальный художник сами приехали в Европу, полагая, что интерес к ним сохраняется навсегда. Это (по разумности) равносильно приезду бегемота из Африки в гостиную на Парк-Лейн: что вам так далеко ездить меня фотографировать, глядите, вот я и сам приехал. Опальные философы и поэты хорошо смотрелись на шестиметровой кухне в хрущобе, но в Париже они смотрятся иначе. В Париже серьезные дела, настоящая жизнь, бизнес, а сафари хорошо во время каникул – и этого русский интеллектуал никак не мог взять в толк. Он не понимал, отчего это с ним вдруг перестали играть и в гости не зовут.
А не зовут по простой причине: его держали за одно свойство – публично доносить на свою культуру, публично в ней каяться и рассказывать про ее стихийный, полуязыческий характер. Как Вы хорошо знаете, милый друг, все культуры без исключения подвластны стихиям, и язычество свойственно Вам не меньше, чем русским. Так скажите же мне, почему Вам столь полюбились именно русские сетования? Это европейцы любят, когда русский покается, на весь мир раззвонит, какое он ничтожество, и придет учиться демократии. Думаю, европейцев развратила философская эмиграция двадцатых годов, которая, разбирая природу большевизма в России, умудрилась ужиться с фашистскими режимами в Европе. Облик русского философа-интеллигента-борца а la Бердяев-бунин-деникин-краснов и привычен, и удобен. От общения с русской интеллигентной кухней должно оставаться приятное, успокоительное чувство: как это они там живут? Вот ужас! А хорошо, что мы вернулись домой. Но для чего же брать к себе домой эту русскую кухню? Все хорошо на своих местах – и она, русская кухня, нужна и хороша в этом самом качестве: примера недо-Европы, почти цивилизации, кривой истории, которая лишь оттеняет Вашу правоту и прямизну.
Неужели для вас заказано просто стать цивилизованными людьми, удобными соседями, спросите Вы. Неужели вы однажды не станете прилежными и терпеливыми учениками, не переймете обычаи и манеры – чтобы потом ваши дети знали их уже с рождения? Нет, никогда не станем. Знаете ли, мы станем только хуже.
Рассмотрим же героя нашего времени, того, желанного Вам, ориентированного на цивилизацию, кто не желает слиться с толпой и раствориться в пустыре, поглядим на русского человека на appointment'е. Гордых прогрессистов, смотрящих через головы соплеменников туда, за горизонт, через завалы мусора – как их определить? Славянин, прошедший евроремонт, – вот тот тип, что вышел на свидание с цивилизацией. Homo refectus, он подчистил себя и подкрасил, научился управляться со столовыми приборами, обзавелся убеждениями. Он управился с собой так же, как со своим жилищем: фундамента дома никто изменить не может, стены как были кривыми, так и останутся, да и вообще, перенести дом в Париж никому не под силу. Но вот водрузить посередь квартиры ванну с пузырящейся водой можно. И неважно, что течет крыша, а в подвале спят бомжи; не имеет значения, что дом предназначен на снос, – главное поставить стеклопакеты и сделать подвесные потолки. Недавно один деятель в моем районе соорудил на третьем этаже бассейн, но того не взял в расчет, идеалист, что опорные конструкции гнилые. И вот, не успел он предаться средиземноморской неге в московской слякоти, как деревянные балки под ним переломились, и он низринулся вниз вместе с тридцатью тоннами отфильтрованной воды. И пока потоки пузырящейся влаги выносили из парадного обезображенные трупы, мы, соседи, размышляли о судьбе европейской личности в этой дикой степной стране. Вот так и Петр, думали мы, произвел евроремонт России. Хорошо ли это, думали мы, перспективно ли? Один из соседей высказался в том смысле, что покойнику (обладателю бассейна, а не Петру Первому) следовало вначале сменить несущие конструкции дома, а уже затем строить бассейн. Многие с ним согласились. Но ведь он торопился, при жизни хотел поплавать, возразил кто-то. И в этих словах тоже было много правды. Стоит ли виноватить несчастного за то, что был доверчив и поверил пройдохе-риэлтору, будто перекрытия в доме – не трухлявая сосна, а ж/б? И за то, что поспешил воплотить свою мечту, нужно ли корить усопшего? Мы задавали себе эти и другие вопросы, вспоминали классическую риторику прежних времен – «подвиг ожидания или подвиг нетерпения?», иные обращались в мыслях к бессмысленной жертве декабристов, иные находили параллели с марксизмом, не прижившимся на русской почве; находились и такие, что винили принцип евроремонта в целом, как таковой. Не нравится тебе жить в доме, говорили они, ну уезжай, ну построй рядом другой дом, а то отциклевал себе паркет, бассейн отгрохал, а в подвале крысы бегают и говно плавает. С их доводами было трудно спорить. Но невозможность до конца принять историко-культурный детерминизм мешала согласиться полностью. Да, рассуждая занудно и здраво, надо бы начинать с фундамента и коммуникаций, то есть попросту с образования и изучения истории, но на это никогда нет времени, это занимает всю жизнь, а для того чтобы появились предпочтения и убеждения – на это никакого времени и не требуется. К российской действительности, к русским перспективам и возможностям, а главное, к обязанностям, которые вменяет русская жизнь, эти убеждения относятся так же, как новые обои к кривым стенам.
Я уверен, Вы знаете меня достаточно и не подумаете, будто я упиваюсь русской действительностью и ее самобытностью. Вовсе нет. Напротив. Я не любитель евразийской концепции, я лишь знаю, что она есть – и, боюсь, она окажется живучее прочих на этом тщеславном пространстве. Так получится потому, что Вы, мой друг, не захотели принять в расчет особенности этой земли. Я лишь хочу сказать, что дихотомия, предложенная Вами в нашей давней беседе, не имеет отношения к реальности моей земли, к феноменологии пустыря. Все эти противопоставления, как то: последний шанс – гибель, славянофил – западник, варварство – цивилизация, прогресс – отсталость, вся эта прусская установка «на первый-второй рассчитайсь!» не только не укрепляет умы в нашей местности, но приводит к отупению. Попробую объясниться.
Последнего шанса у России нет и никогда не будет. Россия ежедневно находится в ситуации, когда у нее есть самая последняя – ну дальше некуда! – возможность исправиться, и если ее не использовать, случится страшное. Если население не прекратит так пить, то через короткое время выродится. Если не изменить экологические условия, завтра задохнемся и отравимся. Если не утвердим частной собственности на землю сегодня, экономика уже не поднимется. Если не победит западноевропейская модель демократии сейчас, мы пропали бесповоротно. России, что ни сезон, дается сверхпоследнее, архиокончательное предупреждение. И она ни с места. Русский человек стращает сам себя: у меня последняя возможность! И ложится спать. Происходит это по двум причинам, одна физиологического, другая филологического свойства. Первая причина: суетливость и поспешность не относятся к национальным чертам. Русский обыватель приземист и полноват, не создан природой для соревновательного бега. К тому же он инстинктивно понимает, что нет ничего постояннее, чем угроза завтрашнего судного дня. К чему спешить?
Вторая причина: у латиноамериканцев есть их знаменитое macana – завтра, которое сегодня позволяет пребывать в сиесте. У русских существует их всегдашний «последний шанс», который никогда не используется. Действуй немедленно или все пропало! Голосуй или проиграешь! Уже произнося подобный призыв, мы оказываемся в плену противоречия. Если действительно надо было действовать немедленно, чтобы не упустить шанс, то любое обсуждение, призыв, дискуссия только способствовали трате времени и упущению искомого шанса. Пока мы произносим лозунг, мы отодвигаем предполагаемое действие в прошедшее время, но этим и спасаемся: вместе с несостоявшимся шансом мы оказываемся во вчерашнем дне, где все не так уж плохо в конце концов, жить можно. «Я говорю, что в тот момент когда я говорю, у меня есть последний шанс, и теперь, когда я уже договорил, этот шанс прошел» – по сути нет ничего спасительнее этого заклятья – так русские заговаривают время и грозящую им беду. Впереди маячит еще один последний шанс, и мы поступим с ним точно так же. Русские такие же заложники времени, как и пространства, как и языка. Мы всегда живем во вчерашнем дне – и оттого не слишком боимся завтрашнего. Завтра, конечно, нам наступит конец, но завтра не наступит никогда.
Теперь про славянофилов и западников, то есть про тех, чьим конфликтом и меряют российскую историю.
Полемика между славянофилами и западниками до сих пор представляется актуальной, словно, победи кто в споре, ситуация переменится, и Россия всеми границами переползет в Европу, или напротив, расцветет на азийских пустырях. Иные считают Россию частью Европы, просто частью неудачливой, отсталой. Если дать России шанс, говорят, она припустит вдогон за Европой и, догнав, – сравняется. Меня эта точка зрения удивляет. Не догонит Россия Запад и догонять не станет, поскольку идет по совершенно другой дороге и в противоположную сторону. Странная эта затея, выдумывать про два сложившихся и вполне себя проявивших организма, будто они в принципе похожи и когда-нибудь встретятся. Нечестно это и по отношению к Западу, который давным-давно стал тем, чем собирался. И втройне нечестно это по отношению к России, которой вечно пытаются внушить, что она еще не состоялась, но непременно в будущем состоится, если постарается, конечно. Но они состоялись давно – и Россия, и Запад. И состоялась давно судьба русского, и состоялась судьба европейца – они очень разные, эти судьбы. Для чего же тогда существует энтузиазм, выдающий дурную и тяжелую русскую судьбу за недо-европейскую? Для чего же делается этот благородный призыв «стать как европейские люди», если он обращен к людям, всегда живущим иначе, и живущим безнадежно иначе? Безрукий не потому не играет на скрипке, что не знает нот.
Позиция западника в России силою вещей сделалась морально неполноценной. О, разумеется, это самое понятное и извинительное заблуждение из прочих российских, разумеется, прекрасные люди, известные правдолюбцы разделяли его, но сколько же от него зла. Так получилось оттого, что выхода из России нет и никогда не будет, искать его для избранных можно, но разве это не то же самое, что крепостничество? Так получилось оттого, что не бывает вранья, которое не было бы кому-то выгодно. А выгода в данном случае известно чья – начальничья. Западничество способствует укреплению крепостничества на этой неурожайной почве – и более ничему. Европеизм – не цель России, но средство, форма управления, а западник – баскак. Никто так надежно не отодвигал Россию от Запада, как западники – именно тем, что идея европеизма использовалась как аргумент насилия, примененный к азиатскому населению. Достаточно примера Петра, хотя в целом западничество явление не идеологическое, но бытовое.
Мне не особенно приятно западничество, признаюсь. Но если меня назовут славянофилом или евразийцем, это будет тоже неверно. Я не нахожу преимуществ в нашем русском положении, напротив – вижу только беду. У России нет блистательных перспектив, перспектива одна, собственно присущая России, – то есть обратная. И эта обратная, противоестественная перспектива – есть та реальность, в которой живут здесь люди и вещи. Но странно было бы, уже находясь в условиях этой обратной перспективы, отказаться от предложенной участи. Уж если кому-то выпало играть в общей картине роль русского, и если так случилось, что этот кто-то – я или мой брат, можно лишь сожалеть, но надо доиграть эту роль достойно. Это гнилая местность, и воздух здесь гнилой, но скажите, милый друг, разве это главное?
История преобразований России в нечто европейское напоминает известную притчу про волка, козла и капусту. Как мужику перевезти через реку волка, козла и капусту, если в лодку помещаются только двое? Если уподобить феномен «свободы» – капусте, тогда волк – славянофил, козел – западник, а мужик воплощает весь народ, и вот Вам, милый друг, практическое упражнение для занятий русской историей. Совместимы ли все вместе в одной лодке? Плывут они к европейскому берегу, и главная задача – целой довезти капусту. Итак, поместить капусту и козла рядом, а мужика и волка бросить? Голову сломаешь, решая. И напрашивается простое соображение, начальство-то знало ответ давно, заглянуло в конец учебника: зачем вообще плыть? В Европу плыть – зачем? И для кого это будет хорошо? Для Европы? Она этого определенно не хочет. Для России? Она не может. Для особо отличившихся козлов? За них не стоит радеть.
Позволю себе еще один образ.
Славянофил, Западник и Евразиец – суть персонажи русской комедии дель арте, маски наподобие Пульчинелло, Тартальи и Труффальдино. У них характерная речь, ужимки, риторика, – но не ищите за масками живых образов: они повторяются из века в век, играют похожие сценки, бранят друг друга в прессе, глотают валидол. – Нам надо войти в Западную цивилизацию! – кричит Труффальдино. – Россия спасет мир! – вопит Пульчинелло. – Монголы – наши братья, – рвет рубаху Тарталья. Им кажется, что их спор реален, что здесь, на театральных подмостках, решится судьба огромных холодных просторов, и, повторяя одни и те же затверженные репризы, орут друг на друга Труффальдино, Пульчинелло и Тарталья. Эта комедия до известной степени оживляет русскую тоску, но к реальной жизни никак не относится. Реальность же состоит в одном – в начальстве. Комедианты выслуживаются перед ним кто как умеет. Сегодня померещилось, что начальство склонно поощрить Труффальдино. Его и на бис вызывают, и в правительственную ложу зовут. Труффальдино ходит счастливый, говорит, что времена изменились, и Россия рвется в цивилизацию. И начальство наконец осознало необходимость прогресса. Но это не так. Начальство ни к чему не склонно в принципе – оно просто начальство и все. Начальство – такое же величественное и непоправимое явление, как климат и география. Оно пребудет всегда, рядом с его интересами все ничтожно – и реплики Труффальдино, и реплики Тартальи. Совершенно неважно, кого сегодня позвали в ложу, кого вызвали на бис, – завтра его забросят за сцену. Он будет ходить несчастный, потерянный, пить водку, причитать, что побеждают славянофилы. Но комедианты не побеждают никогда – пьеса идет ежедневно, много веков подряд, маски дергаются и кричат на сцене, начальство в ложе дремлет, почесывает живот и считает деньги.








