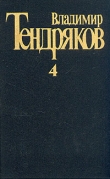Текст книги "Листки из вещевого мешка (Художественная публицистика)"
Автор книги: Макс Фриш
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
Две недели назад у нас уже было такое мероприятие, тогда мы слушали Верди, Россини и др.
На этот раз будет сборный концерт.
С ярусов, как на спектакле для школьников, слетают бумажные самолетики, опускаясь в ложу, где сидят элегантные офицеры и даже бригадир, и восторг по поводу безнаказанности маленьких шалостей не имеет границ. Наш бригадир улыбается. Почти все здесь – тессинцы, они пересвистываются. Все это напоминает обезьянью клетку. Нам, передним, они чуть не переломали ребра. Во всем ярусе пахнет лошадьми и потом. Перед закрытым занавесом то и дело раздается громкое пение, настроение такое, будто и представления не надобно.
"Наконец-то, – вздыхает кто-то возле меня, – наконец-то снова пара красивых ног".
Это относится к известной певичке из Цюриха, розовой, озорной блондинке, которая не боится молчания серого зала. Ее встречает буря аплодисментов. За что? Только через несколько минут она наконец начинает петь, а в промежутках говорит и шутит с залом. Она поет по-немецки, по-итальянски и по-французски. Про любовь и ревность, про измену. А также про бедную душу бело-голубой официантки, которая во сне становится вампиром. Это песенки, которые сами себя считают народными. Но ирония, этот росток города, не пробивается к слушателям. Так же мало доходит до них, как и до доверчивых детей. Она протекает как вода сквозь решето, и потому не раз авторы песенок для наших кабаре заявляли: нас понимают все.
"La Beila! 1 – кричит зал. – La Bella!"
Ревущий успех...
"La Bionda! 2 – поют они. – La bella Bionda!"
1 Красавица (um.).
2 Блондинка (um.).
Певица снова и снова выходит раскланиваться, улыбаясь и качая головой, почти беспомощно, словно ей не по себе оттого, что она станет героиней стольких снов.
В заключение, когда сцена заполнилась тессинцами и походила на пеструю цветочную клумбу, все поднялись и безо всякого знака и повода вдруг хором запели патриотический гимн, который сам собой вырвался из их страстных душ.
Воскресенье снова в карауле. Туда – сюда. Иногда два часа тянутся бесконечно. Идешь и думаешь... О чем? Над черными горами медленно поднимается луна, словно серебряный фонарь за черными стволами... Разумеется, это красиво, всегда красиво. Но что с того? Что может сделать, чем поможет эта красота мира? Я прицеливаюсь в луну, что, разумеется, было бы запрещено, прицел триста и мушка как положено...
Как поется в песенке:
Видишь в лунном свете клены,
Умолкает птичий хор.
Звезды светят отдаленно,
Рай господен – нет, не вздор...
Влажный лист засеребрился,
Туча хмурится во мгле,
Видишь: месяц удавился,
Он – в невидимой петле 1.
1 Пер. Г. Ратгауза.
Позднее, когда наконец подходит смена и слышны шаги по ночной мостовой, я изумляюсь. Они подходят прямо ко мне, шесть одинаковых касок. В деревне бьет три часа... Думаешь, сидишь в караульном помещении и думаешь. О чем, собственно? Горит свеча. Больше ничего. Храп и тяжелое дыхание скорчившихся мужчин. Они лежат так, словно собрались со всем своим оружием вернуться в материнское чрево.
Боевая готовность, есть она или нет, занимает нас все меньше и меньше. Едим свою лапшу сколько влезет, и на добавку места хватает. Потом сидим в трактире, том единственном, что разрешен нам на этот вечер. Чтобы в случае тревоги можно было разыскать сразу всех. Мы ждем зря. Наконец нас отпускают спать, и только на следующее утро, в восемь часов, после зарядки и завтрака, мы получаем приказ. В сером, неприглядном тумане мы занимаем позицию и под проливным Дождем ожидаем, когда закончатся учения.
Потом домой, под крышу. Мы измараны в грязи по колено. Шинели развешиваем на чердаке и по подобиям ходлеровских фигур *, что стоят в подштанниках на соломе, с точностью устанавливаем, как высоко поднялась сырость. Многие из тех, кто еще не получал посылок из дому, стали отъявленными сторонниками мира. Один из них, тоже в подштанниках, растерянно курит трубку...
Обер-лейтенант ландштурма рассказывает нам о Тессине, о стране и народе, особенно об экономическом положении, которое становится просто отчаянным: на юге – граница и таможенные барьеры, на севере, в собственной стране, Готард и железнодорожные барьеры: высокие цены за проезд...
За этим сообщением должны последовать и другие, каждый должен подумать, о чем он может рассказать своим товарищам в дождливую погоду. Среди нас есть садовники и ювелиры, дояры и доктора, подсобные рабочие, художник и пивовар, так что тем достаточно, во всяком случае на первую зиму.
Что нужно рассказать, чтобы всех заинтересовало? Есть один такой вопрос, он как веревка вокруг горла, которая затягивается тем сильней, чем больше повисаешь на ней всем телом.
Вечер за вечером мы проводим на кухне, словно члены хозяйской семьи. Мы вытираем тарелки, часть из них похожа на зубчатые колеса, и Бианка, которая говорит по-французски, все время помогает нам выбираться из затруднительного положения. О чем мы говорим? Трудно сказать, выглядит это так, словно язык разговаривает сам с собой и достаточно того, что мы знаем слова. Слова из самых разных областей, они не согласуются между собой. То, что, несмотря на это, из них можно составить фразу, – наше нечаянное развлечение. А кроме того, когда не знаешь языка, можно позволить себе сказать куда больше, чем принято, тебя всегда извинят. Самое кровожадное проклятие, произнесенное с чужим акцентом, часто звучит прелестно и вызывает смех. Мы говорим о любви, о поцелуях, ничего нас не связывает, в конце концов, все это только слова или повод для них.
Иногда, оставшись на четверть часика наедине с красоткой, рассказываешь даже всю свою жизнь, помогая себе жестами, до невозможности кратко и сжато, в общих чертах и ровно настолько, насколько хватает слов...
"Oh, je comprends!" 1 – говорит она.
1 О, я понимаю! (фр.)
Чего же еще желать?
Вот обстоятельство, встречающееся нам каждый день и не только на службе: некто доказывает правоту какого-нибудь суждения, которое ты принимаешь близко к сердцу, но при помощи аргументов, которые ты не можешь уважать.
Нужно ли с этим соглашаться?
Братство говорящих "нет", что может быть легче, безутешней и бесплодней, и как часто оно встречается. Народные ораторы знают колдовскую силу этого "нет", пусть это замаскированное, туманное и даже непроизнесенное "нет", иногда даже выдающее себя за "да". Сколько народу они сразу же завоевывают этим "нет"; братство само по себе, пусть даже кажущееся, опьяняет так, что люди вообще перестают заботиться о сути дела, не говоря уже об образе мыслей. Они жертвуют своими взглядами ради минутного братания, которое им открывает это "нет": ненависть к общему противнику и готовность к любому "да". К любому.
Но именно этого-то мы и не хотим. Только немногие соглашаются с нами, и мы сами, радуясь этому, тут же задеваем их за живое, отклоняя их предложение тем резче, чем заметнее братание и чем менее они сами видят пропасть между причинами, побудившими их и нас к согласию.
Всякое мышление развивается по спирали.
Наше отношение к войне, например: от внутреннего "да", от "да" лютого зверя проходит через "нет", "нет" тетушек и парикмахеров, ко второму "да", к "да" здоровых и воинственных, и ко второму "нет", к "нет" созидающих, а в конце концов, кто знает, может быть, и снова к "да", к сверхчеловеческому и ужасающему "да" богов.
(И нигилистов.)
Как охотно, однако, выдает себя воробей за льва, если случайно они оба пьют из одной лужи.
Кто не возражает – а мы чаще всего этого не делаем из равнодушия, вежливости, или боязни прослыть упрямцами, или из чувства, что время требует слепого единства взглядов, которое достигается всегда за счет чистоты этого единства, – тому потом остается сознание того, что мы мало послужили своим убеждениям, поступившись ими ради пьянящего дурмана. И своему отечеству также послужили мало.
Именно своему отечеству.
Только человек, чья цель – власть, может всем пренебречь ради нее. Ему служит любое число людей, даже если они его неправильно понимают. Он нуждается и в людях, и в убеждениях только как в средстве для достижения власти. Он всегда надеется, что есть на свете власть, такая великая, что она сама может оправдать себя, – и что он этой власти достигнет, если пожертвует ей всем, от всего откажется.
Это не наша вера.
Что нам, гражданам маленькой страны, завоевывать в мире, если не широту сердца, чистоту и благородство убеждений?
Сегодня на батарею вернулся маленький Бюлер, бедняга с неизлечимой болезнью желудка. Об открытках, которые мы ему обещали послать, мы начисто забыли. Операции ему так и не сделали. Как же он себя чувствует, спрашиваем мы. Он пожимает плечами... Мы все еще отстраиваем наши позиции, а позавчера впервые был горячий душ. А больше ничего нового нет.
Пение... Молодой лейтенант распоряжается, чтобы мы пели. Только громко и воодушевленно. Если мы не будем петь, нас ждет муштра.
Что же происходит?
Поют, трусливые души... вяло и тоскливо... песню за песней...
Скука и тоска по дому мало-помалу охватывает даже самых сильных... На низкой каменной стенке, возле караулки, где мы присели на солнышке, внезапно на нас наваливаются отвращение, ярость, тоска, бесцельный гнев. Мы готовы плевать на весь мир, пока он не захлебнется, плевать просто так, от нечего делать...
Чего ради торчим мы здесь? Чего ради?
А день стоит чудесный. Наверху, между крыш, в причудливых изгибах, синева, как море, и белые облака, как белые лебеди, проплывают мимо бесшумно, бесцельно. Как воспоминание о лете. Здесь хорошо провести каникулы, бродить, работать, сидеть на низкой каменной стенке, как мы сейчас. Только без касок. Между серебристыми ветками ольхи видно, как вниз по долине спускаются башни своенравного старого города, а из озера, из туманной дымки, парящей над просторной долиной, высвобождаются склоны гор и тянутся вверх, словно звуки; чем выше, тем яснее, тем чище, пылая на прохладной синеве осеннего неба. На острых отрогах хребта, между бледными ребрами скал, уже лежит снег, белый, как ликующий вскрик...
Мне хотелось бы туда!
Мы все еще сидим и плюем себе под ноги, я спрашиваю одного из наших, который, судя по внешнему виду, никогда даже от скуки не потянулся бы к книге, как он проводит дома свободное время...
"В саду", – отвечает он.
А разве здесь нет садов?
Но это же не свой. Вот в чем все дело. Он не наблюдатель, он наслаждается ландшафтом только с лопатой в руках, перекапывая почву, сажая, окучивая, сея, удобряя... оплодотворяя землю.
Он мужчина.
Он не заигрывает с землей.
Молодой лейтенант, у которого за душой нет ничего, кроме ина, намучается с нашими солдатами.
Будьте спокойны, говорится уже в первые дни, мы его обломаем! С жестокостью и безжалостностью школьников они взялись за него. Разумеется, они повиновались ему, но с выражением невообразимого презрения. Лейтенант не мог этого не заметить. Раз в неделю, планомерно, они доводили его до отчаяния, ему оставалось только скомандовать: "Бегом!" Они переглядывались и бежали, ухмыляясь при этом. Они ухмылялись, стоя под дождем. Они тащили кабель на крутейший холм, как он, хрипя и задыхаясь, приказал им. В повиновении они никогда ему не отказывали, только в уважении.
Почему?
Это тянется уже несколько недель...
На днях все наши офицеры были заняты другими делами, и лейтенанту пришлось принять командование всей батареей. Он должен был наблюдать за нашей работой, а она движется сама собой. У него был беззаботный вид и беззаботное поведение сына из хорошей семьи. Он то стоял, заглядывая в ямы, то садился на ствол сваленного дерева и изучал карту в планшете и явно не знал, что ему делать с самим собой. Когда через два часа к нему подошел один из наших и, став по стойке "смирно", напомнил, что пора бы сделать перерыв, лейтенант, разумеется, не признал своего маленького упущения и сделал вид, будто он об этом думал, как, разумеется, и обо всем остальном, и приказал работать дальше, пока он не подаст команды.
Приказ есть приказ.
"Бедняга, – сказал кто-то, – ума не приложу, кем может быть такой тип в обычной жизни".
Смеясь, мы продолжали копать.
"Спокойно! Сейчас он заплачет и позовет папу..."
Трудно поверить, на что способно это загадочное существо – команда рядовых. У них чуткий слух. Они прекрасно понимают все происходящее, даже дояр, который кто угодно, но только не знаток человеческих душ. И они не скрывают того, что им ясно: их лейтенант сам не верит в свое превосходство нет ничего, что давало бы ему на это право. Так с какой же стати нам верить? Ему и вправду отравляют жизнь.
...Вообще же, коль на то пошло, можно заметить, как сказал в свою очередь и капитан, что мы нашими офицерами вполне довольны. Некоторые и в самом деле пользуются любовью солдат, причем отнюдь не самые мягкие. Наш солдат, видно, всегда ищет в офицере крепкого, строгого, делового и по-настоящему заботливого товарища. У него есть непременное желание верить ему, но он достаточно долго просеивает свою веру сквозь сито сомнений.
Доверие солдата завоевывается долго.
Каждую субботу солдаты предъявляют проверяющему свои карманные ножи, носки, швейные иглы, кружку, и нередко, когда они стоят друг против друга, не поймешь, кто кого проверяет.
Никто не любит, когда его обманывают.
Солдат особенно.
Бывает, какой-нибудь офицер, желая завоевать симпатию подчиненных, принимает, как ему кажется, простой солдатский тон. Чтобы выказать благожелательность, которая так ценится в нашей стране. И рассказывает солдатам непристойный анекдот. Смеяться-то они будут. Но как раз солдат, которому все равно придется подчиняться, предпочел бы, чтобы тот, другой, лучше одетый, не был бы таким похабником.
Воскресенье, и наконец-то я один, по-королевски один на древней руине Мизокса, высоко, как птица, над лугами осенней долины, над шумом серебряной реки, над шумом пылающих лесов.
Что случилось?.. Сон, а может быть, грезы. Ничего больше. Сон на полуденной земле так тяжел, так болезнен, что ты воспринимаешь его и как пробуждение, и как поглощение твоего тела землей. А над ним бесконечный шум ветра. Изо всех пор выступает пот, и ты чувствуешь, как неуклонно исчезает время. Чувствуешь это в беззащитном сне, в далеком и тупом ужасе. И ощущаешь даже физически: это тело, оно распадется, просто распадется, умрет и перестанет существовать, распадется, как труха...
Ты просыпаешься, погасшая трубка валяется в траве. Вокруг гуляют, разговаривая и смеясь, местные жители. И солнце уже повисло у самой кромки гор, а вокруг поднимается море теней, медленно, неотвратимо.
Как думать нам, что мы живем, что человек – существо, обреченное на гибель, что он видит бесконечность и понимает, что он отличен от камня, понимает, что ему придется умереть. И постоянно, чтобы воспринимать красоту и все, что больше чем красота, которая тоже есть одно только имя, одно из многих, нужно уметь быть благодарным и за боль, и за страх, за отвращение и тоску, за свое застывшее отчаяние.
Что могут отнять у нас люди, если они не слуги нашей общей судьбы? И разве могли бы мы препятствовать чему-нибудь, если они не были бы ими?
Стократны имена, которыми взывает к нам существование, и не проходим ли мы годами мимо всех дорожных указателей, мимо всех предостерегающих знаков? Нам снится, что мы бодрствуем, и даже ясным днем нас подстерегает ужас, мы стоим и ходим, делаем свою работу, и день такой синий, как рисунок на стекле, и мы, не ударяясь, проходим сквозь него, насвистывая...
Однажды перед нами бесшумно рухнули стены, надежные, крепкие и несокрушимые, снаружи оказалось солнце, оно светит тускло в сумерках мира, как луна в безвоздушной вселенной. Вечером, на соломе, снова царит неописуемый кавардак. Как всегда после воскресенья. Дребезжит оконное стекло. Мы играем в гандбол касками. Один из нас уже в крови. На лестничной клетке звучит ручной орган и кларнет, а еще там поют и танцуют. А потом клоун Вилли, уже завернутый в одеяло, еще раз подпрыгивает, изображая обезьяну, выпрыгивает в окно и хватается за ветку каштана.
Мы переводим дыхание.
Это Вилли-король. Мы называем его так потому, что он служит шофером у баснословно богатого барона, живет в собственном доме и производит впечатление человека, которому все удается, и не только стоять на руках, в чем он упражняется на перилах любого моста, на верхушке любого дерева и в любом трактире. У него прирожденное умение жить. На перекличке один лейтенант заметил ему: перестаньте тупо пялиться на свет божий. Вилли едва заметно улыбнулся. Возможно, он подумал, что повидал на своем веку побольше, чем этот парень. Порою он рассказывает, всегда очень скромно: вот когда были мы в Австралии... Или говорит между прочим: у нас в Голландии тоже очень красивое имение. Именно у них – у барона и у него. Как англичане своих деловых представителей, он имеет подружек во всех частях света. Он не хвастается этим, о нет, это просто становится ясно из тех его историй, которые он рассказывает при случае, а если начинается крик и галдеж, он сдержанно улыбается, как человек светский. Каждое воскресенье он приглашает кого-нибудь из товарищей вниз, в усадьбу к барону. В людской они едят рыбу и курицу. Этого хватает на два дня рассказов: их обслуживал негр, а пить черный кофе они ездили на моторной лодке. Двое наших у него уже побывали. Что они говорят? Это надо испытать самому! Один из них – сын благородного семейства – подтвердил, что женщины бегают за Вилли – просто словами не передать как, в городе они ему вовсе прохода не дают. Второй был из бедной семьи. Рабочий с прядильни. Всего две жареные колбаски в воскресенье – на девятерых детей, как-то рассказал он мне. Сам он благодаря незаурядной силе воли добился положения первого в мастерской. Этот молодой человек, чей здравый смысл, чья прямая и открытая манера себя держать едва ли не самое привлекательное, что здесь было, своей добросовестностью не раз посрамлял мою, тем более что в ней не было ничего мещанского. Он был членом совета общины, представителем рабочей партии. И вот этот человек, у которого в жизни не было каникул, попадает в дом барона, сидит в людской, где даже кур не считают, ходит по огромному парку, осматривает жилище Вилли, принимая жизнь такой, какова она есть...
Когда они вернулись, он только усмехался, качал головой, как после кинофильма, и говорил:
"Ну, Вилли, король!"
Мы уже расположились на соломе, когда король угощает нас еще крепкой, каждому по стаканчику.
Недавно, снова ночью, в тумане, мы перешли на другую позицию. Мы стояли около орудий и дрожали от холода, мучаясь сильнейшей жаждой после острого супа. В полночь, в непроглядной темноте, мы все еще ждали приказа. Член совета общины и кто-то еще с ним пошли на поиски воды.
Может быть, мы предпочитаем вино? – спросил Вилли-король, словно в этой безлюдной местности он, подобно дьяволу, может добыть вино из дерева.
Мы знали, что в эту ночь вся бригада на ногах и на колесах. Наш офицер обрел ту особую доброту, ту бодрящую ласковость, которая обычно предвещала появление высшего чина.
Наконец в кустах зашуршало. Искатели воды вернулись с пустыми котелками. Непроглядная тьма, на десять шагов вокруг ничего не видно, объяснили они.
Мы и сами это знаем.
Наконец в кустах снова зашуршало: Вилли-король положил на землю старый угольный мешок, где звякали бутылки, семь бутылок, вино и пиво...
Где он взял их? Да просто пошел напрямик через поле, перелезал через каменные ограды и заборы, через железнодорожную насыпь, через шоссе, пока не увидел огонек, и, подумать только, это и впрямь был погребок.
А офицеры? – спросили мы.
Он их действительно видел, но они его нет. Они там кишмя кишат перед прибытием высших чинов. Он прятался с бутылками в придорожной канаве. Когда-нибудь все проходит. Ободрался изрядно, и все тут...
Мы пока все еще остаемся в нашем школьном здании. На прошлой неделе у нас были полковник и капитан, оба в сопровождении нашего квартирмейстера, слухи, что нас хотят выгнать отсюда, не утихают. Всех охватила такая ярость, будто нас хотят выбросить из нашего родового гнезда, из дома наших отцов, или как там еще это называется. Это задевало нас всех так, словно мы не могли расстаться с несколькими деревяшками, с парой натянутых веревок да двумя столами и всем, чем мы еще оборудовали наш школьный дом за эти несколько недель. Каждый беспокоился за свое место на соломе! Никто не хотел менять соседей, все вдруг почувствовали себя здесь как дома.
Привычка – это все.
Здесь, где постоянно воняет сортиром, а иногда и потными носками, которые сосед развесил сушить над твоим полотенцем, кроме всего прочего, остается в памяти и волнующая картина вечера в концерте, на котором господа в свежих рубашках говорят о нас, а вокруг расхаживают дамы в шелках и продают булочки, и все это делается для нас, солдат. И мы чувствуем себя, словно там, дома, и трогательный в своем увлечении малыш вырезает маленькими ножничками солдатика из бумаги и говорит:
"Правда, папа, это ты?"
Какой отец устоит перед этим?
Вообще внутренне мы уже вполне обосновались здесь, словно теперь, после первоначальных колебаний, это уже решенное дело, что господь бог повернул все на пользу Швейцарии.
(А как могло быть иначе!)
Да и этот пример с приглашением солдатских жен в гости явно оказался заразительным. Уже семь или восемь солдат пригласили сюда своих жен. После поверки они гуляли вместе, как дома, посредине ребенок. Как на плакатах. Не хватало только подписи: "Мы защищаем наших жен и детей".
Один из самых ярых наших сквернословов, брюзга и нытик, внезапно стал довольным и тихим, с любезной улыбкой на устах. Была от наших гостей и еще одна польза. В трактире сидит девушка, молодая дама, если вам так больше нравится, подружка одного из солдат, и вот умолкли все грубые шутки. Словно святой водой в ад брызнули. Черти сами себя не узнают, вокруг сидят одни только приличные господа. Да, фройлен, говорят они. Нет, фройлен. Снова слышны отдельные голоса. Не подвинуть ли вам стул, фройлен? И никому нет дела, связан ли солдат со своей дамой законными узами.
Правда, когда девушка с алыми губами и большими глазами исчезает за Готардом, не проходит и часа, как ее друг говорит: это еще что, подождите, вот увидите, на следующей неделе приедет другая – вот тогда-то вы глаза вытаращите. И он рассказывает целую историю, как ему пришлось покрутиться, чтобы обе не приехали одновременно. Рассказывает и не может остановиться.
На той неделе мы обнаружили поблизости настоящую спортивную площадку. С тех пор, как только позволяет служба, мы играем в гандбол. Мы уже образовали две команды, боевой задор не покидает нас даже вечерами, когда мы лежим в темноте под одеялами. Спортивные ботинки и легкие брюки прибывают к нам в каждой посылке, это очень важно здесь. Весной, как рассчитываем мы, наша команда будет на высоте, так что мы сможем выступать в состязаниях с другими батареями, а потом и со всей бригадой. Материал, как уверяет специалист, имеется, и физическая закалка тоже. На днях мы стояли на позиции совсем рядом со спортплощадкой. У нас были боевые стрельбы, но над мишенями сгустился туман, а когда вдобавок еще запустил реденький серый дождь, нам, к великому ликованию всех, разрешили отойти от орудий. Один из водителей прыгнул в свою машину и с треском умчался, и тут же вернулся с мячом. В тяжелых горных ботинках, подбитых гвоздями, мы на славу погоняли в футбол. Играть всем сразу все равно возможности не было, поэтому мы не слишком горевали, когда примерно каждые четверть часа кто-нибудь из игроков, хромая, покидал поле, ему на смену тотчас выходил другой. Полтора часа мы не могли открыть счет; мы останавливались, задыхаясь, и опирались на собственные колени, пот лил с нас градом, но было решено продолжать борьбу до победы. И через полчаса игра наконец закончилась. Конечно, матч в такой обуви изрядное скотство, но не по службе, поэтому никто не ворчал. Кроме врача. Несколько центровых оказались в санчасти, и впредь нам разрешалось играть только в гандбол и только в спортивных ботинках.
Сегодня мы готовили площадку для будущего матча. Грузовик, пять мешков опилок и четыре человека... Мы, как положено, доложили об отбытии, посыпали площадку опилками, как для международных игр. Германия и западные державы отошли на второй план. Кто вспоминал о них? Только газеты, радиостанции да письма, которые мы получали. Нас же, как я говорил, занимало все это время совсем другое. Все отступало перед событиями ближайшей недели: ландвер * против действующей армии.
Обе команды пока что пытаются в ужасающей перебранке устрашить и сокрушить будущих противников.
Наконец наступает долгожданная минута отпуска, рюкзак закинут на спину, нам завидуют все, кто остается лежать на соломе; мы пожимаем им руки...
Через две недели я вернусь.
(К чему это извинение?)
Ну счастливо, говорят они.
Успеха у жены.
Смотри не напивайся.
Со смехом, чтобы не приуменьшить их зависти, играешь роль сверхсчастливца. И перед караулом, что ходит взад и вперед. Как и я прежде, они долго еще будут смотреть мне в спину, следить за мной глазами и в мыслях, глазами и в мыслях... А потом на ночной дороге внезапно почувствуешь, что ты совсем один, везде и всюду. С тобой только твоя тень, она бесшумно настигает тебя, когда приближается новый фонарь. Час ночи, на улице раздаются только твои собственные шаги. И вдруг, словно цель забыта, приходят мысли о доме, твоя комната, свечи, чашки, цветы, книги...
Для чего добивался я этого отпуска?
Не знаю. Почему радость, так долго лелеемая, испарилась?.. Поезд отойдет в три часа, я сижу в столовой для служащих федеральной железной дороги, уже сорок часов почти без сна, сижу и жду, с чашкой в руках, дурак дураком.
Дома все уже знают.
Мы приходим словно оглушенные, нам нужно два или три раза повторять одно и то же; отсутствие дарует понимание, но мы словно все еще не можем очнуться от глубокого сна...
Внезапно я вспоминаю свой сон на развалинах.
Жизнь призрачна: все на том же месте, свечи, чашки, цветы, книги и старые часы – и то, что именно они остались такими же, как были, – все это слишком для солдата, который хотел вернуться домой. За окном с барабанным боем проходят солдаты. И вчера тоже. Нельзя этого не заметить. Дрожат стекла в окнах. В мягкой фетровой шляпе, которую почти не чувствуешь на голове, стоишь на краю тротуара среди мокрых блестящих зонтов, в мягком непромокаемом плаще, стоишь и смотришь, словно никогда раньше не видел: лица солдат, усталые, мокрые, замкнутые.
С кем же я?
Однажды, в один из первых дней, мы исполнились страшного предчувствия, что можем все потерять, – отсюда эта неукротимая жажда надежности. Мы поверили, что такой надежностью обладает только наше отношение к какому-либо человеку. Отсюда полнейшая убежденность, что можно быть уверенным в человеке так же, как в предмете, в земельном участке, во владении, которому и время не страшно, к которому можно когда угодно вернуться, и так удобно мы устраивались, как ни одной порядочной душе не перенести...
Но дело не только в этом.
Все получается по-другому. В тот же самый вечер, когда я признаюсь своим друзьям, как рад, что на следующей неделе снова вернусь к себе в часть, дома уже лежит приказ: явиться в понедельник в шесть ноль-ноль в свою часть ввиду увольнения в запас.
Сейчас пять ноль-ноль.
Не имеет смысла пытаться заснуть среди храпящих. Один из них лежит поперек моего места, он хрипит во сне, руки в карманах, колени подняты... Снаружи ночь, как промокательная бумага, растворяется в потоках дождя. Слышно, как шлепают капли по прелой листве, как неустанно журчит вода, переливаясь через край водосточного желоба, как взад и вперед по мостовой шагает патруль. Слышно, как по серой утренней долине проходит товарный поезд, они идут почти каждый час, везут уголь из Германии; в крестьянских дворах, как всегда, кудахчут куры, и все, что произошло, может показаться сном.
На батарее, рассказывают мне, они узнали об этом в тот момент, когда отправлялись на спортплощадку: ландвер против действующей армии. Домой? спрашивают они. А откуда ты знаешь? Это не шутка. Домой, понимаешь? Нельзя сказать, чтобы радость была такой уж большой и громкой. Не происходит ничего из того, о чем все время говорили: они, мол, поставят целые бочки вина, миски, полные винограда, и бог знает что еще собирались устроить в этот день. Они стояли кругом и внимали новостям.
"Так, так, – сказал один, – тогда, значит, пойдем".
На какой срок?
Этого никто не знает.
Нужно все отнести в цейхгауз.
Четверо должны еще раз подняться на позиции, чтобы убрать планки и то, что еще осталось на строительной площадке. Времени у нас более чем достаточно, и, когда на обратном пути полил сильный дождь, мы без всякого зазрения совести спрыгнули с открытой платформы и спрятались от него в радостном сознании, что и остальные сделали то же самое.
У самой печки сушатся наши ботинки, мы празднуем прощание, окружив обеих тессинок. Мы держим хлеб над пламенем, пока он не подрумянится, вертим закопченный вертел с насаженным на него сыром и пьем глинтвейн, горячий, красный, – все почти так, как когда-то мы представляли себе предстоящую зиму.
"Решено! – кричит кто-то. – Договорились?"
"Куда?"
"В следующее воскресенье – на национальную выставку! Мы приглашаем вас, вас обеих!"
Бианка переводит, слово за словом.
"Санта Мария!" – вскрикивает ее крохотная мать.
Она еще никогда не переезжала через Сен-Готард.
Она всплескивает руками.
Потом, когда настает время уходить и снова закутываться в мокрые плащ-палатки, оказывается, что и вправду наш ювелир, тихий, благоразумный, женатый, наконец сегодня, в последний час, осознал провороненную свободу.
"Идем", – зовет шофер.
Отсутствие дарует понимание...
Может быть!
Всем, что впредь будет единственно твоим собственным достоянием, правит время, исключительное время, требующее необычайной быстроты роста во всем: в дружбе, в семье, в работе. Резче, беспощадней, болезненней, но и ясней, великодушней, мужественней рушатся человеческие решения под давлением огромной осознанной угрозы, которая с каждым часом превышает все остальное.
1940
СОЛДАТСКАЯ КНИЖКА
По дороге в Тессин в окне автомобиля я вижу военных – войска на местности. Наши войска. Джип, офицеры по-походному, потом колонна черных грузовиков, в них солдаты, тоже по-походному. Такую колонну обогнать нелегко. У солдат теперь длинные волосы, а каски такие, как прежде, и больше мне ничего не приходит в голову.
Войска. Терпение. Память молчит. Наконец мне, ветерану в лимузине, удается проехать: снова джип, лейтенант, радист с рацией, и вот все позади, и, если я не хочу, я могу не вспоминать.