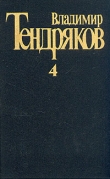Текст книги "Листки из вещевого мешка (Художественная публицистика)"
Автор книги: Макс Фриш
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
Отправимся ли мы сегодня, и куда, кто знает?
Снова ясная ночь, только белесый туман над долиной; там, где шумящая река делает поворот, мерцают в лунном свете пласты гравия. Говорят, Франция и Англия объявили войну или собираются это сделать.
Мы продолжаем грузить ящик за ящиком, в каждом по четыре гранаты; какой-то парень все еще продолжает говорить о конце работы, спрашивая каждого второго, который час, пока кто-то не обзывает его лодырем. Вокруг тишина и безмолвие, как в монастырском дворе. Фары машин, на которые мы все грузим и грузим, пока не оседают рессоры, ощупывают темные кусты. Это нравится далеко не всем. Двое ругаются так, что уши вянут: уже в этой работе проявились первые лодыри; пользуясь темнотой, они ухитряются пропустить один проход с гранатами, а тем, кто грузит уже давно, не упомнить, на чье плечо ставить следующий ящик.
Вскоре протрубили подъем.
Каждое утро, еще до того, как солнце поднимется над синеющими горами, мы делаем зарядку. Потом, порядком разогревшись, завтракаем, едим из солдатских котелков, словно из серо-зеленых корыт, которое каждый, стоя, держит перед собой; только несколько человек созрели для того, чтобы просто-напросто сесть на землю и бодро и молча перемалывать пищу.
Из письма:
"Я все думаю, что будет, когда худшее останется позади, ведь тогда и в моей жизни все должно перемениться, пойти иначе: появится много нового. Но вместе с тем я знаю, как скоро все это будет позабыто, едва мы снова свободно вздохнем. И это самое страшное. Мне стыдно, что я надеялся на какую-то поблажку для нас, больше я этого не хочу".
Внизу:
"Это время, когда вдвойне страдаешь от того, что осталось неоконченным".
Наш капрал – каменщик, раболепный, как негр, когда ему это выгодно, а стоит его настроению измениться, как он вообще перестает тебе отвечать. Он, собственно, даже не орет, он просто возражает, где только можно, а стоит появиться офицеру, сразу же начинает ссылаться на то, чего не говорил, что он, может быть, и хотел сказать, но не говорил. Особенно его любимцами были те, кого он не раздумывая причислял к студентам.
Я сам изумился своей беспощадной и неприкрытой радости, когда в один прекрасный день узнал, что этого типа поместили в больницу, и, вероятно, надолго...
Наш новый капрал, молодой маляр, – человек совсем другого склада. Он сам работает слишком много, а приказывает неохотно. В перерыве, скрываясь в ближайшем кустарнике, мы обнаруживаем, что он с маленькой черной Библией в руках сидит там же, отвернувшись от всего мира.
Поначалу все проводят свободное время в трактире. Там есть совсем юная девушка, не слишком красивая, но по-крестьянски естественное и живое существо, полное интереса к другим языкам. "Hur?" 1 – спрашивает она, и мы напрасно стараемся угадать, что это значит. "Hur или Hur?" – говорит она, и чем больше стараемся мы уклониться от ответа, тем настойчивее она требует его. Она уже знает некоторые немецкие слова и по-детски радуется новым. И ее крохотная мать, которая сидит здесь же и вяжет, тоже не знает, что значит это слово. Она услышала его вчера от солдат, уверяет она.
1 Шлюха (нем., искаж.).
Пробуждение: часом раньше, часом позже... Каждый раз сидишь, тупо, по-звериному таращась сквозь разорванный сон на знакомые, но, в сущности, такие чужие лица. И всякий раз снова кажется, что все это привиделось во сне.
"Началось! – говорят они. – Началось!.."
Мы складываем свои вещи, стягиваем одеяла ремнем, и все это в полусне, в полусне берешь винтовку, в полусне готовишься отдать свою жизнь. И вот мы уже тяжело шагаем между ночными виноградниками, между белесыми в свете луны каменными стенками вниз к машинам с уже включенными моторами. В каске с винтовкой, вещевым мешком и противогазом мы трясемся в машинах. Час ночи. Значит, была тревога.
"Началось", – повторяет кто-то...
Никакого ответа. Только с разных сторон раздаются приказы, помощники водителей сигналят фонариками и прыгают в машины. И когда мы снова просыпаемся от толчка, грузовики грохочут уже по узкой деревенской улице.
Но не вверх к Сен-Готарду. А где еще можно тут проехать, кто его знает? Снова и снова исчезает весь мир, и луна, и война; и каска клонится вниз, пока не стукнется о винтовку, зажатую в промерзших кулаках. Если бы хоть удалось вспомнить, какой видел сон...
На несколько минут задерживаемся около незнакомых домов; вся деревня спит. Нашим колоннам следует увеличить дистанцию. Одно из ближайших окон внезапно отворяется, молодая черноволосая тессинка, не слишком красивая, машет нам рукой.
Рывком, едва не столкнув нас с лафетов, грузовики трогаются. И вот мы прибыли, узкий проселок, все бросились к канатам. "Первый-второй! раздается в ночи. – Первый-второй, первый-второй!" Мы не первые, не последние, спотыкаясь, хватаемся за колючую проволоку и слизываем теплую кровь с рук. Как только орудия установлены на козлах, достаем ножи и режем ветки, а когда все необходимое для маскировки сделано, еще до рассвета докладываем, что к стрельбам готовы.
А пока мы лежим, замаскировавшись и дожидаясь завтрака, болотная мошкара пожирает наши лица и руки, не давая забыться сном без сновидений.
Вот и петухи запели.
И в час, когда дома вздрагиваешь от звона будильника, мы покидаем позицию. А на широкую и плоскую долину неожиданно и великолепно, словно пучок стеклянных копий, падают первые лучи солнца.
Похоже, слухи о том, что нас повезут в Юру, забыты. Вокруг возникают все новые признаки домашнего обустройства. Наш капитан приказывает сколотить скамейки, чтобы мы не ели, прислонившись к деревьям, а столяр даже сооружает складную подставку для газет, какие бывают в лучших трактирах. Вскоре мы находим и дорогу в скрытую от глаз кухню. Рядом, в общем зале, весь вечер снуют взад и вперед две тощие тессинки, им явно кажется подозрительным бросающееся в глаза кроткое и степенное поведение наглых вторженцев на кухне.
Преследовали мы этим какую-то тайную цель?
Думаю, что да. Если хочешь сидеть у пылающего камина – глинтвейн на огне, сыр на железном вертеле, – будь наготове.
Но брожение умов продолжается, некоторые говорят сегодня о трех или пяти годах войны, а назавтра утверждают, что на следующей неделе мы будем дома. Есть среди нас один только человек, который не хочет обманываться: дочитав последнюю газету, он, не говоря ни слова, поднялся наверх к парикмахеру и возвратился с наголо обритым черепом.
Пять миллионов в день стоит содержание нашей армии. И миллион в день стоят наши калеки и сумасшедшие!.. Мы сидим на лугу, а молодой врач, подвижный тессинец, пугает нас венерическими болезнями. Он преподносит все весьма недвусмысленно, весьма развязно, и что, пожалуй, самое лучшее – об остротах своих он позаботился заранее и потому имеет преимущество перед своими слушателями, оставляя на их долю удручающую серьезность.
С письмом в кармане и кульком винограда в руке я решил пройтись. Примерно в получасе ходьбы от деревни вдоль дороги стоит множество низеньких каменных стенок, на них можно сидеть или лежать на спине. Снова, как в первый вечер, застрекотали сверчки. Невозможно поверить, что еще и недели не прошло с тех пор. Каждый раз мы слышим это хрупкое дрожание, этот стрекот над полями или болотами, где плавают молочно-белые осенние туманы, а из ясного пространства, высоко-высоко над страстными шумами земли, на нас уставились звезды, безмолвные и стеклянные.
В том, что пропадет часть вещей, не поместившихся в ранец, можно найти и хорошие стороны. Сколько всего, еще вчера казавшегося таким важным, оставлено позади. Но всегда и везде, что бы ни случилось, нам остается одно-единственное неотъемлемое достояние – память о близких и вера в то, что благополучие нашей внешней жизни зависит от благополучия жизни внутренней, что человеческое сердце всегда истинней так называемого великого события, для которого, как знать, мы тоже серые схемы, оно размалывает, размывает их, а может быть, израсходует и бросит на обочине военной дороги.
Едва мы вновь установили орудия, как принялись за изучение ручного пулемета. Существует просто радость владения оружием, и тут не может устоять даже самый ярый противник войны, – с этим ничего не поделаешь. "Замечательно, – говорят они, поднимаясь с земли, и тут же добавляют: Насколько это можно сказать об оружии!"
В маленькие противотанковые пушки мы просто влюблены. Стремительно, как пожарная команда, проносятся они иногда по нашей деревне. Ребенок ли это говорит в мужчине, или воин, не знаю. Или просто ремесленник, способный восторгаться при виде оси с неподвижной подвеской колес. Или все это вместе. И здесь, когда мы отрабатываем приемы смены ствола у легкого пулемета и подсчитываем, сколько времени потребуется для этого, то откуда что берется, усердие и тщеславие у нас такое, словно нет парней кровожаднее нас среди всех, кого сейчас держат под ружьем.
Впрочем, сразу после этого, во время строевой подготовки, меня вызвал капитан; большинству из нас он еще совсем незнаком, но, приветствуя нас, по-мужски кратко, как своих товарищей, он произвел превосходное впечатление.
К сожалению, это впечатление не оказалось взаимным!.. Я хуже всех солдат на плацу – вот как получается. Ни умения, ни желания, ни сообразительности. И так далее... Ему тоже жмут тяжелые ботинки, но сейчас речь идет о других вещах, гораздо более важных...
Я спрашиваю, дозволено ли мне ответить.
Нет.
Для людей моего типа, в случае если дело примет серьезный оборот, найдутся особые места! – добавляет он.
Затем он оставил меня в покое.
Вечером, перед тем как разойтись, меня вызвали снова; теперь, с глазу на глаз, мне можно было отвечать.
Но, собственно говоря, что?
Можно было признать – по стойке "смирно", – что действительно осознал свою ошибку. Иначе почему бы задели тебя эти слова? Для мечтаний времени больше нет, и такая ошибка могла стоить нам жизни. И даже больше, чем жизни. Я это знаю. Я как раз думал об этом. Может случиться, например, что тебе в двадцать пять лет придется снова сесть за парту, чтобы наверстать упущенное. Только ты обрел настоящую, уважаемую во всем мире почтенную профессию и уже продвинулся в ней, как одним прекрасным утром отправляешься в лес, чтобы привезти первые стройные деревца-подпорки, и тут, словно нарочно...
Рассказать ему об этом?
Вечером, на посту, от одного солдата несет шнапсом, да так, что запах чувствуешь прежде, чем видишь его самого. Ясное дело, он будет стоять на посту, заявляет он. И чем больше стараются его утихомирить, тем громче твердит он это. "Пусть только сунутся, – говорит он, – затвором щелк, и стреляю. Да пусть хоть сам полковник". Он сюда не в игрушки играть пришел. А если что не так, отправьте его домой, только немедленно... Затвором щелк, и стреляю!
На посту за него, разумеется, придется стоять другому. (Даже если его это оскорбляет.)
Снова и снова кто-нибудь взрывается. Ни с того ни с сего. Все это надувательство и обман. Все это придумано специально ради ущемления его драгоценной персоны, придумано каким-то безымянным обществом каких-то отъявленных мерзавцев.
"Может быть, кто-то хочет мне возразить?"
Только не спорить с ним.
"То-то же!" – говорит он и продолжает курить.
Ответ или деловое разъяснение действует как вода на зажигательную бомбу: брызги летят во все стороны. Только не спорить. Молчание – песок. И спустя некоторое время, как известно, любую зажигательную бомбу можно удалить наипростейшим совком.
Вчера, в субботу, мы ходили мыться на речку. Пока еще, при такой температуре, это возможно. Как только первый вошел в воду, отважились и остальные, и плакали в быстрых, бурных волнах. Некоторые из нас, разумеется, сослались на свою любимую нужду, чтобы вылезти на берег до того, как схватит судорога. Но тем не менее это было замечательно. И наверное, последний раз в этом году. После купания мы оценили солнце и нам разрешили еще часа два порезвиться на песчаных отмелях. Большинство из нас было в костюме Адама, так как посылки из дому еще не прибыли; хорошо, что нас видели только птицы.
Сегодня воскресенье, мы свободны с одиннадцати до трех, но есть приказ – не выходить за пределы трех наших деревень.
Мы пишем письма...
Мы играем в шары...
Мы снова сидим у реки...
Мы снова там и смакуем минуты, каждый свои, как виноградины, ягоду за ягодой. Тепло еще полно воспоминаний о лете, мы даже вспотели. Только лучи не колят больше. Словно у них отломились острия. Теперь они мягкие, тающие, растекаются по лбу и векам, легкая золотая нежность. И везде замечаешь только то, что приподнимает действительность, – колдовство последнего раза.
Зачем читать книгу?
Зачем снова играть в карты?
Рука случайно легла на сухой корень, сверху кожу уже несколько минут пригревает тихое солнце – сладостное, маленькое, пылающее, безграничное наслаждение, а снизу, в ладони, ощущаешь тень, влажность, прохладу, смерть...
Это осень. Кому не случалось подумать: прожить бы всю нашу жизнь, как этот день, как великое, одно-единственное долгое прощание... бродить и не задерживаться нигде, бродить из города в город, от цели к цели, от человека к человеку, бродить, нигде не задерживаясь, даже там, где любишь, где охотно остался бы, даже там, где разобьется сердце, если пойдешь дальше... И не ждать будущего, а настоящее воспринимать как вечно преходящее... И так целую жизнь... завоевывать, чтобы потерять, и вечно идти дальше, от прощания к прощанию...
О, если бы душа обладала такой энергией!
Иногда кажется, ты сможешь, вот в такой день смог бы, и, вероятно, поэтому из всех времен года каждая осень снова и снова глубоко захватывает нас.
Весна – это становление, не что иное, как становление...
Лето – особое состояние, лежишь под зеленым деревом, жуешь травинку и слушаешь треск и жужжание в траве, видишь дрожание в горячей синеве, и тихие облака, белые и упругие, висят над землей, словно гипсовые, и не спрашиваешь, что было, что будет. Лето, оно спешит, у него нет времени. Лето, оно бесспорно, оно как счастье в любви, оно изобилие, покоящееся в себе самом, оно здесь – и словно нельзя иначе.
Как непохожа на него осень!
Посмотри, как полон золота воздух, гляди – не наглядишься досыта, а когда подует ветерок, он принесет с собой прохладу, чуть большую, чем мы ожидали, словно внезапный испуг: здесь все переход, движение и время, созревание и увядание – прощание. Я люблю осень, ибо она задает основной тон нашему существованию, как ни одно другое время года.
Мы снова смакуем минуты, и словно дуновение вдруг проносится над полями и лесами, что так волшебно примиряет пылающие краски, высвобождает мир из тупой застылости, освещая его еще раз сиянием на голубоватом фоне, который мы только смутно предугадываем, – быть может, это темное и холодное ничто. И мы не спрашиваем больше, наслаждение это или страдание. Это жизнь, и этого достаточно. Это мгновение, и этого довольно. Это всего лишь, всегда и снова, откровение через прощание.
Как раз в эти дни много хлопот мне доставляло письмо по поводу моих дел: необходимо было получить причитавшиеся мне деньги за готовую к печати и неизвестно где застрявшую работу. Ее появление этой осенью мне посулили так же величественно, как обещает крестьянин урожай со своей сливы, на которую он вполне полагается.
Я приготовился написать:
"Вследствие того, что..."
Сегодня, на воскресной утренней поверке, меня снова вызвал капитан. Что бы это значило? Расстегнута ли пуговица, не на месте пряжка или перекручен ремень? Может быть, мой вещевой мешок не на той стороне? Ничего хорошего я не ждал. Капитан скомандовал мне "вольно" и сказал, что нужно завести дневник нашей пограничной службы. Каждый день во время учений в моем распоряжении будет час, а также пишущая машинка защитного цвета.
"Вследствие того, что..."
Обещание и долг и в самом деле подобны нашей тени: под каждым фонарем, мимо которого мы проходим, она снова нагоняет нас.
Мы все больше и больше привыкаем к противогазам. Они становятся словно частью нас самих. Вчера в старом сарае за деревней мы смогли убедиться в этом. Небольшими группками мы заходили в помещение, наполненное отравляющим газом, стояли там несколько минут, и ничего не случалось, легкая щекотка и все. Но стоило слегка оттянуть резину пальцем, и ты сразу чувствовал, чем насыщен воздух, – все терли глаза, и самый сильный мужчина не мог удержать слезы.
Вот и прекрасная погода, предпочитавшая тессинскую бригаду всем остальным, покинула нас. Сегодня, когда мы сменялись с караула, наши грузовики и орудия стояли посреди коричневых озер, словно наши кухни выплеснули на землю остатки кофе с молоком. Все блестело и текло. Капли, падающие с блестящих черных ветвей, продолжали барабанить по налипшей на землю подгнившей листве. Во всех лужах, словно серебряные блохи, танцуют брызги, а ольха – еще вчера чудо в мерцающем золоте – почти совсем оголилась, и каждый порыв ветра приносит новый вихрь листьев, новый шум и шорох капель.
В первый раз мы всерьез поверили в зиму и не подумали тут же о весне...
Все горы вокруг в тумане.
Развалившись в своей сухой кабине, сидит водитель. Проходя мимо, мы то и дело спрашиваем его, который час. Он показывает нам все содержимое своего бумажника. Безо всякого видимого повода. Сначала фотографии его собственной персоны: на лугу, улыбаясь, стоит господин, как принято говорить, добившийся успеха в обществе, в белых туфлях и невообразимом галстуке; затем фотографии сверкающего автомобиля, где он, подобно киногерою, сидит за рулем. Фотографии его жены: она сидит на лесной скамейке, слегка полноватая, склонив голову набок, с пустой безрадостной улыбкой, знаете, как это бывает по воскресеньям; а под конец, как самое ценное, – снимки мужских и женских половых органов.
"Ну и свинья", – замечает мой товарищ.
Мы продолжаем патрулировать.
Без сомнения, прежде меня это бы просто потрясло, ведь еще совсем недавно мы принимали мир единственно как гармонию и только как гармонию приветствовали его.
Генерал Гуизан *, чей портрет уже несколько дней висит на доске для объявлений, издал вечера приказ, что все (без исключения) военнослужащие получат отпуск на полтора дня, чтобы каждый, как бы ни повернулись обстоятельства в дальнейшем, привел в порядок свои дела.
Тем временем мы приступили к оборудованию позиции, соответствующей условиям военного времени. Наши орудия должны быть частично врыты в землю. Ежедневно в долину спускается грузовик с отпускниками. Набившись в него битком, словно скот, они пронзительно поют...
Мы продолжали копать.
В полдень, когда дымящаяся кухня поднимается к нам, а вместе с ней и письмоносец, мы устраиваемся на обочине, среди коровьих лепешек и лошадиных яблок, в правой руке ложка, в левой письмо – и суп становится чуть теплым, а потом уж совсем холодным.
"От милой? – спрашивает один. – Небось изменила?"
Неужели у меня такое лицо?..
"Моей жене уж точно неплохо живется, – говорит другой. – Она мне совсем писать перестала, как в нашей деревне расположилась вспомогательная служба".
И так далее.
Словно поверженные и разбитые, лежим мы на выгоне, руки под головой, у одного сигарета во рту, у другого перед глазами позавчерашняя газета. А если кто заснет, тому под щеку подкладывают колючего ежа – зеленый каштан, и, повернувшись, спящий вскидывается, но, конечно же, это просто случайность.
Некоторые все еще стоят с немытыми котелками в руках – ясно, речь снова зашла о Гитлере, о власти или о праве, о будущем или о закате Европы... Много говорят и о русских... бывает, правда, что солдаты разглагольствуют перед своими пустыми котелками...
Каким призрачным представляется мне все это.
Здесь над тихой безлюдной долиной висит проволочный канат, по которому спускают связки бревен, часто в удивительном порядке, но иногда случается, что эта связка одиноко повисает, пока ее не освободят с помощью следующей; как-то раз у меня на глазах совершенно бесшумно обе связки рухнули вниз, а канат продолжал висеть, невидимый над пропастью.
В два часа снова за работу.
Одни стоят в ямах и разбивают грунт киркой, остальные берутся за топор и пилу, карабкаются по склонам и рубят лес. Поют стволы под глухими ударами, стоит стон и треск – просто наслаждение, почти каждый час опускаем мы шумящие деревья, словно укрощенных драконов, по крутым полянам вниз.
К сожалению, позднее вдруг оказывается, что позиция должна быть оборудована совсем в другом месте. План, который мы лопатой чертили на земле, теперь придется закрывать кирпичами дерна – знаменитой альпийской травой. Велико наше разочарование. Все-таки это была задача, цель на долгое время и работа, связанная с мирными орудиями труда, которая создавала по крайней мере видимость продуктивной деятельности, приносила радость, выполнялась добросовестно, и лучшего настроения у нас здесь никогда не было.
А теперь снова посыпались проклятия.
В Цюрихе, во время отпуска, дождь шел, почти не прекращаясь. Тридцать шесть часов подряд. А теперь мы снова здесь!..
Хорошо ли я провел отпуск?
Нам должны были указать квартиру, но в поисках жилья мы потратили полдня, потому что люди, сидящие дома и занимающиеся своим делом, возмущаются даже криком ребенка, которого пришлось переселить из пограничного города; они просто не в силах вынести этот крик, утверждают они, это переходит все границы...
Что еще?
В трамвае, который ходит теперь без прицепного вагона, люди нервничают из-за толкотни, из-за того, что их задевают чужие мокрые пальто... Потом я пошел к одному из друзей, но не застал его дома. Откуда же было ему знать, что я приду. Тем не менее я пил там кофе, удивляясь чистоте чашек и тому, что все обсуждают серьезные вопросы о державах и сражениях, о частях света и о ходе истории. Нам же эти вопросы сейчас куда ближе и потому не выглядят столь значительными. Но все равно они остаются вопросами, и мы, неся ответственность, тем лучше должны разбираться в них.
Я думаю, нам было лучше.
На некоторое время застываешь перед ящиком собственного стола, так сказать, со связанными руками, нет смысла касаться вещей, которые еще и сейчас кажутся нам важнее всего и которых мы, что бы ни случилось, никогда не коснемся, как прежде, если даже просто вернемся домой. По существу, просто возвращения не бывает...
Если бы нам только понять это.
На вокзале.
Она, такая ясная, отважная, все понимающая, почему же она вдруг расплакалась? Когда поезд трогается, во всех окнах начинают орать и горланить, перроны наполняются шумом.
Итак, мы снова здесь. В караулке, где мы должны доложить о своем возвращении, все заняты фотографированием: два штыка направлены в грудь полуголого человека, его лицо искажено – он стоит у стены, вместо каски ржавый таз, – все оглушительно хохочут.
Здесь, в нашей деревне, снова мирное воскресенье. Солнце серебрит ольховник, и снова дрожит золотая листва. Из друзей тут никого нет. Одни только местные снова играют в шары в мерцающей полутени осенней виноградной беседки.
Что же будет дальше?
Все вокруг полно настоящим; и в большом, и в малом, все вокруг лишено будущего. Семьи без жалованья, жалованье без работы. Солдаты и те, кто остался дома, станут друг против друга, и понадобятся немалые усилия, чтобы между ними не пролегла трещина. Но многие, и не худшие из всех, не захотят возвращаться обратно. Чем дольше это длится, тем больше вопросов задают они сами себе, вопросов о смысле нашего времени. Они захотят вернуться в обновленный мир, но кто им его предоставит? Время поисков и сомнений настанет вновь, едва мы снимем наши шинели. Все ложные пути вновь откроются нам. И лишь одиночки обретут себя в эпоху всеобщих потрясений, и это, вероятно, будет единственным оправданием войны вообще. Но основная масса людей не сможет вынести долгих поисков, а в лучшем случае найдет себе козла отпущения, и начнутся вечные споры, а из ненависти, как грибы из-под прелой листвы, полезут новые доктрины, о которых пока еще никто и понятия не имеет.
Наша служба продолжается. Направо – налево. Заряжай – разряжай. И снова: направо – налево.
На сей раз наша позиция расположена у самой реки, где в бурлящей воде, словно за зеленым стеклом, видны рыбы. Когда мы возимся у орудий, поворачиваем, наводим на цель, то можем взглянуть наверх; листья, покачиваясь и кружась, опускаются вниз, желтые и красные и уже фиолетовые будто искры радостного свечения.
Разумеется, есть и другие люди, те, кто сейчас бежит навстречу пулеметному огню, навстречу танкам, крушащим их окопы, и те, кто повис на колючей проволоке, кто лежит среди рвущихся бомб, уткнувшись в грязь, и ждет, пронесет или разорвет в клочья...
И думаешь: только не искать лазейки в красоте...
Но разве поможет тем, другим, что мы сидим здесь, проклиная небо и фельдфебеля только за то, что наш суп остыл?
Мы часто вспоминаем Швейцарскую национальную выставку. Особенно после отпуска. Она относилась к лучшим временам. Как воодушевляла она нас, и прежде всего главной чертой Швейцарской Конфедерации – свободным братством разных языков!..
Здесь, в нашей тессинской деревне, нам еще хватает слов, чтобы заказать пиво, купить кисть винограда, спросить, где ближайший сортир. Но уже перед любым мальчишкой, который напялит твою каску и с детским простодушием восторгается солдатами, мы беспомощны. Мы смеемся, треплем сорванца по волосам и пожимаем плечами с дружелюбием соотечественников. Мы сидим на откосе, как в амфитеатре, и учим итальянский. Основные формы глагола, что бы это значило? Наши парни похожи на необъезженных коней, а молодому, несколько бледному, несколько худощавому, несколько нервному и очень академичному преподавателю нужны немалые усилия, чтобы продвигаться вперед согласно его плану. Нас же интересует только один вопрос – как провести любовное объяснение, причем с успехом. А все педагогические методы, то есть упрощение и повторение основных положений, воспринимаются солдатами скорей как окольный путь, если не как уловка, с помощью которой народ обводят вокруг пальца.
Быть и иметь, говорит нам худощавый учитель, – этого на сегодня довольно. Быть и иметь, "essere" и "avere" – что еще нужно человеку?
Потом мы снова возвращаемся к своим винтовкам.
Молодой учитель – тот самый, что в первый вечер сидел на свежей соломе, качал головой и говорил, что, если бы ею ученики увидели его здесь, на соломе, весь его авторитет полетел бы к чертям!
"Тебе еще нужно многому научиться", – сказал ему тогда молодой слесарь... Судя по всему, он постигал все очень медленно, как это обычно бывает с учителями. Его беспокоило лишь то, что он призван на военную службу, в то время когда существует столько нерешенных языковых проблем, здесь же, в роли солдата, он вообще не в состоянии мыслить.
Как знать, может, это благословение?
Наступит однажды время освобожденной души. И нет сомнения, что она прорвется сквозь иные плотины, и одичают сады, и оплодотворятся илом. И никто не сможет этого остановить. И те, кто сидят сейчас дома и в состоянии думать, тоже. Они, как и мы сами, не в силах понять того, что с нами происходит.
Но что-то происходит.
Иногда, например в перерыве, бывает так: опираясь руками о колени, заглядишься на жука, безостановочно снующего туда и сюда. Случайно, безо всякой цели, без умысла, просто так... Ты складываешь руки. Дремлешь, и вдруг на свете остается только это легкое давление в переплетенных руках, легкое, совсем не судорожное давление, которое все сильнее и сильнее освобождается от твоей воли. Кажется, будто ты замкнут – кольцо, кругооборот. И внезапный покой, словно и души наши замкнуты, нечто цельное, круглое...
Как это странно, вдруг ощутить себя огромным, и удивиться месту, которое занимаешь в пространстве, и тому, с какой высоты смотрит человек на земную поверхность, а потом словно бы стать снова маленьким в сравнении с окружающим миром, прямо-таки смехотворно маленьким, как карлик. Кажется, исчез всякий масштаб, словно любое соотношение с окружающим миром, с так называемой действительностью, разрешается таким образом, что она больше ничем не мешает нам, не может ни испугать, ни отвлечь. Вдруг на мгновенье видишь себя так, как представляешь себе душу камня, – ограниченное, круглое, плотное и твердое наличное бытие. И чувствуешь собственное настоящее, свою собственную душу, вошедшую в тело, – словно сам даруешь себе покой.
Сегодня произошло несчастье. Машина, в которой было семеро солдат, шла по улице, где движение было запрещено, и столкнулась с другой машиной. Говорят, четверых положили в больницу, одному раздробило челюсть, жизнь другого, телефониста, в опасности. Когда назвали его имя, нам всем показалось, что мы его знаем в лицо. Каково же было наше изумление, когда сразу вслед за этим сообщением появился вышеупомянутый телефонист с кистью винограда в руке и в отличном расположении духа...
"Ну и повезло же тебе", – сказал кто-то.
"Мне? – удивился он. – А почему?"
Маленький Бюлер, коротыш с мальчишеским лицом, отпускавший при случае потрясающие остроты, к сожалению, покидает нашу батарею. Его отправляют в больницу по ту сторону Готарда. У него больной желудок из-за того, что он работает гальваником. "Все бы ничего, – сказал он мне однажды, – но больного желудка я злейшему врагу не пожелаю". "Теперь, – рассказывает он, – они снова собираются меня резать". Если в течение трех недель мы не получим от него открытки, тогда – прощальный салют над его могилой!
Он смеется, впрочем весьма невесело.
Кто-то предлагает ему сигареты...
Бюлер помолвлен, ему нет еще и двадцати четырех, он собирался сыграть свадьбу на рождество. И вот ему еще раз приходится собрать все свое мужество и лечь под нож. А если и тогда не станет лучше...
Раздается гудок, и мы обещаем сохранить для него его место за печкой. "Бедняга, – говорят все, – надо будет послать ему открытку..."
И мы закутываемся в теплые одеяла.
Это покой, впитывающий все извне: каждый свист, каждый выстрел, пронесшийся над долиной, каждый шорох в ольховнике, сверкание реки и шепот опавшей листвы – тревожно бодрый, светлый, ясный, но не разрушительный, не гнетущий. И так явственно чувствуешь, как проникает в тебя все это, как меняешься ты, с каждым вздохом, беспрерывно меняешься, но никогда не теряешь себя.
Это удивительно.
Твои руки так занемели, что, кажется, они никогда не будут послушны тебе. И не понять, сколько все это продолжалось, четверть часа или секунду. Ни малейшего ощущения бегущего времени, словно во сне, – пока вдруг, бог знает какой силой и чьим произволом, ты размыкаешь руки и просыпаешься!
Что остается?..
Почти болезненный спад, пустота – ты устал, ты зеваешь, и спрашиваешь у соседа, который час, и не можешь вспомнить, о чем думал и что видел...