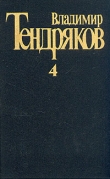Текст книги "Листки из вещевого мешка (Художественная публицистика)"
Автор книги: Макс Фриш
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
Итак, мы вошли в типично немецкий городок, с вывесками, написанными готическим шрифтом, "Speisewirtschaft" 2, которые можно встретить только в Германии. Пройдя сотню шагов, в середине разговора Брехт вдруг остановился, по-видимому чтобы раскурить погасшую сигару. Посмотрев вверх, он сказал: "А небо здесь все то же". Реплика сопровождалась невольным движением, которое все чаще появлялось у Брехта за последнее время, его худая шея в просторном вороте сорочки несколько раз то втягивалась в плечи, то вытягивалась обратно, и эта судорога ослабляла его. А потом была встреча с Хайнцем Гильпертом и его людьми. От чрезмерного внимания окружающих Брехт чувствовал неловкость, поэтому он принялся за пиво: вежливый, ушедший в себя, чуткий, недоверчивый Брехт. А в это время молодой актер (он уже слышал о "Трехгрошовой опере") без устали расхваливал спектакль. Брехт диву давался от этого славословия, оно лишало его дара речи. После спектакля он пустился в рассуждения о немецком пиве, говорил, что оно осталось таким же великолепным, как было прежде. Покончив с этим, Брехт скомандовал: "Пошли!"
1 Разрешение на выезд из США.
2 Закусочная, трактир (нем.).
Дорогой он молчал до тех пор, пока мы снова не оказались в Кройцлингене. Замечание Вильфрида Зайферта, который сопровождал нас, наконец вывело его из себя. "Немецкий театр – в Берлине, – заявил он, – а не в Констанце, хоть там сейчас и сидит Хайнц Гильперт". Он презрительно усмехнулся, потом закричал, побледнев от гнева, лицо его стало страшным. Зайферт понять не мог, что с ним такое. Фразеология этих оставшихся в живых людей, как бы ни были они непричастны к прошлому, их поведение на сцене, их беспечность, их наглая манера делать вид, будто разрушены только театральные здания, а не что-нибудь другое, их упоенность искусством и та поспешность, с которой они совершили мирную сделку с собственной страной, – все это оказалось хуже самых дурных опасений. Брехт был ошеломлен, его речь стала сплошным потоком проклятий. Никогда мне еще не приходилось видеть в нем столь непосредственного проявления чувств, как во время этой пламенной речи, прозвучавшей ночью в сонной закусочной, после первого посещения Брехтом немецкой земли. Внезапно он заторопился, словно ему было некогда: "Опять нужно будет все начинать сначала".
1949 год. Окончательное переселение Брехта в Берлин. Мы провожали его в доме на Хотлингерштрассе, где он в последнее время снимал комнату. Прощание на улице, пожелания скорой встречи. Один из моих друзей в Берлине позднее описывал мне прием, оказанный Брехту в культурбунде *. Полковник Дымшиц * и Иоганнес Бехер * (если не ошибаюсь) выразили свое удовлетворение по поводу его приезда. Брехт, сидевший между ними, немного помедлил, затем привстал, словно приветствуя Берлин, и вежливо пожал руку, сначала одному, потом другому. Опустившись на стул, он замолчал и принялся за пиво.
Время от времени мы получали от него письма. Они были короткие, всего в несколько строк. В них содержалась просьба прислать ту или иную книгу (например, об исторических костюмах) или американские журналы. Однажды он написал сравнительно длинное письмо: "Дорогой Фриш, примите мою благодарность за присланное Вами. Иногда действительно чувствуешь некоторый страх перед людьми, которые о тебе пишут, особенно перед теми, кто тебя хвалит. Однако я с удовольствием прочел Ваши прекрасные и дружеские строки о странствиях бездомной птицы. Мне показалось, что они написаны о человеке, которого я сам знаю лишь мельком. С нетерпением жду выхода всей книги. Цюрих прославился в Берлине благодаря Гизе и Штекелю. Было бы чудесно, если бы Вам удалось приехать сюда. Меня очень интригует Ваша новая пьеса. С сердечным приветом Ваш Брехт, Берлин, 23 января 1950 г."
Отличался ли Брехт сердечностью? Она не была первым признаком, характеризовавшим этого человека, который не любил выдавать того сырого материала, каким является выражение чувств. Теплота в словах – такого не мог позволить себе в его присутствии даже самый близкий друг.
Это заставляло думать о нем как о человеке замкнутом, холодном. Его жестикуляция (я все время почему-то говорю о его жестикуляции, а между тем она была предельно краткой, иногда почти механически стереотипной) напоминала скорее пародию. Непонятно, зачем нужно было так много пародировать. Брехт, должно быть, прекрасно знал, что такое сентиментальность, и избегал даже малейшего намека на нее. Его вежливость, выражавшаяся не в пустых фразах, а в манере вести себя при встрече или за столом, эта грациозная вежливость была единственным допустимым для него изъявлением расположения. Интимного тона в разговоре Брехт не терпел и при малейшем намеке на интимность мог весьма бесцеремонно оборвать собеседника. Первое впечатление от Брехта – его неприступность. Постепенно выяснялось, что она – результат намеренной тренировки. И только в поэзии, в творчестве, всплывало наружу то, от чего Брехт изолировал себя в жизни с помощью острот и жестов: чувство. Брехт был застенчив. Сентиментальность, высмеивавшаяся в ранних зонгах, в поздних стихах оказывалась реабилитированной, а интимность чувств скрывалась за мудростью притчи. Ничего подобного, однако, не чувствовалось в его разговорах. Брехт мог быть нежным, но нежность не должна была быть ни теплой, ни тягучей, иначе бы он сам стал говорить о себе непристойности. Разумеется, я могу судить о поведении Брехта только в мужской компании. В присутствии женщин он, в отличие от большинства мужчин, не выказывал никаких перемен в своем поведении. Женщины в обществе были для него просто товарищами, коллегами, он относился к ним нейтрально. Если же он замечал, что они ведут себя как гусыни, то и реагировал на это должным образом.
Весна 1950 года.
"Гофмейстер", трагикомедия Ленца * в постановке "Берлинер ансамбль" *. Занавес с белым голубем Пикассо поднимается впервые. И вот мы с Брехтом на площади перед зданием Немецкого театра. Брехт не может понять моего смущения (но как сказать великому, что он велик в своих делах?) и относит его за счет темы: кастрирование гофмейстера. Брехт явно рад, что я приехал в Берлин посмотреть "Ансамбль". Правда, никто из знаменитых актеров не был занят в спектакле, я знал только некоторых из тех, кто играл: Ханса Гауглера, Регину Лютц, Бенно Бессона *. Для меня этот спектакль явился чем-то вроде шока: только тут я по-настоящему понял, на что способен театр. Можно ли было назвать это подтверждением его теории? Возможно. Но зритель забывал о ней. Она воплощалась на сцене незаметно, хотя и не с таким совершенством, как в более поздних работах того же "Берлинер ансамбль" или миланского "Пикколо-театро".
Брехт выглядел помолодевшим. Он предложил мне поехать ночевать к нему в Вайсензее сразу же после окончания первомайского вечера в театре. Ему необходимо поговорить со мной и поспорить. Митинга в театре не намечалось, он и так уже длился почти целый день на всех улицах города. Теперь же публика танцевала. Непринужденность атмосферы выражалась в подчеркнутом пренебрежении к галстукам, все демонстрировали решимость во что бы то ни стало сохранить хорошее настроение, время от времени подкрепляя его купленными в буфете напитками. На вопрос: "Как вы себя здесь чувствуете?" я не знал, что ответить. Этот вопрос приводил меня в смущение.
Вольфганг Лангхофф *, которого я знал по Цюриху, при встрече тоже смотрел на меня с каким-то недоверием. Невольно я оказывался в роли человека с Запада, который жадно и со скрытым злорадством выискивает в Восточной зоне отсутствие свобод, нищету и безысходность положения. Мне было не по себе. Брехт, как и следовало, принимал во всем участие, оставаясь при этом скромным и неприметным. Несмотря на восхищение спектаклем, который я только что увидел, мое настроение испортилось. Этот праздник вселил в меня чувство неприязни и одиночества. Казалось, даже буфет (я был голоден) говорил: "Посмотрите, как мы тут живем, как мы дружим, как рады друг другу". Во всем чувствовалось какое-то принуждение. Стоило тебе уклониться от него, как ты сталкивался с резко выраженным непониманием окружающих, и принуждение видеть все в позитивном свете принимало еще более ярко выраженный характер. Даже молчание истолковывалось как враждебность. Но я не чувствовал никакой враждебности, меня все это только угнетало. Елена Вайгель, поддавшись праздничному настроению, любезно пригласила молчаливого гостя потанцевать. Но меня уже невозможно было спасти: теперь мне все казалось подчеркнуто деланным, подозрительным. Под открытым небом над черными руинами города начался фейерверк. Брехт, как и все присутствующие, тоже подошел к окну, закурил в ожидании завершающего залпа и букета разноцветных огней, потом снова вернулся ко мне: "Может, пойдем, Фриш? Или вам хочется остаться? Поздно уже". Незаметно удалившись, мы вновь очутились во мраке улицы. Теперь разговор пошел о деле. Я почувствовал облегчение. Холодный весенний воздух подействовал на меня успокаивающе, и мы оба похвалили берлинскую погоду. Руины не были сейчас для нас чем-то главным, определяющим, мы их просто не замечали. Брехт находился в чудесном расположении духа: в нем чувствовалась какая-то упругость, трезвость мысли, легкость и теплота.
Вайсензее.
Как и следовало ожидать, слух о том, что русские предоставили Брехту настоящий дворец, в котором он жил словно великий князь среди нищеты Восточного Берлина, и что Вайгель ("романтик баррикад") скупала в обедневшей зоне старинные ценные вещи, не подтвердился. Вилла оказалась похожей на тысячу других. Она уцелела во время бомбежек и была основательно запущена, как и окружавший ее сад. Комнаты большие, если мне не изменяет память, ковров там не было. Прекрасный старинный шкаф, несколько других предметов мебели, выполненных в крестьянском стиле. В общем, обстановка немногочисленная и, что всегда было характерно для Брехта, какая-то бивуачная. Я ночевал в мансарде, в которой раньше помещалась горничная. Все стены ее были заставлены произведениями марксистских классиков. Проснувшись на следующее утро, я обнаружил, что Брехт уже сидит за работой. Он поднялся мне навстречу (для гостя у него всегда есть время), и мы спустились с ним к озеру. Пробыв там минут пять и познакомившись с местностью, которую я видел впервые, мы снова возвратились домой: Брехту больше по душе его кабинет, чем майская зелень лугов Вайсензее. Тема разговора: только что виденная постановка и драматургические проблемы. "Сейчас пьесы должны писать те, кто знаком с заботами этого государства не понаслышке, а по собственному опыту, – сказал Брехт. – Тот, кто пришел "оттуда", на это не способен". В то время, о котором идет речь, все уже делилось на "здесь" и "там". Брехт, однако, решительно выступал против бойкота. Он попросил меня переговорить с Барлогом * относительно одного актера, который имел неприятности "там" из-за того, что когда-то играл у Брехта. Впрочем, теперь я уже не совсем припоминаю все подробности нашего разговора, помню только, что Брехт изменил самый дух этой столь архибюргерской виллы и, не перестраивая ее, придал ей совершенно другой вид, причем сделал это без особых усилий. Ему не было нужды хоть сколько-нибудь бороться против ее архитектурного стиля. Брехт был невосприимчив к инфекциям подобного рода. Он не задавался вопросом, кому принадлежит вилла, а пользовался ею так же, как пользуются современники сооружениями и постройками почивших предков. В этом он видел закономерность исторического процесса. Потом мы поехали в театр. Брехт в своей кепке и с сигарой в зубах сидел за рулем старенького открытого автомобиля. На пустынных улицах развевались полотнища с лозунгами вчерашнего первомайского праздника, вокруг под прозрачным небом Берлина – руины. Брехт шутливо спрашивает: "Когда вы опять сюда приедете?" Мы останавливаемся по дороге, покупаем мороженое. "Вот видите, и эта штука здесь уже есть!" В театре я попросил у него фотографии некоторых сцен "Гофмейстера", чтобы иметь возможность показать их "там". На прощание Брехт сказал: "Передайте Гинзбергу – пусть приезжает". На мое замечание о том, что Гинзберг верующий католик, Брехт прореагировал весьма простодушно: "Но ведь он хороший актер!"
Брехт и теория.
Чем дальше во времени уходит от нас Брехт, тем чаще делаются попытки видеть в нем прежде всего теоретика – глашатая эстетических позиций, Брехта – анти-Аристотеля, Брехта, который не упускал ни одной творческой удачи, не обосновав и не подчинив ее затем определенной теории. Возможно, это и явилось наиболее заметной чертой Брехта для тех, кому он себя демонстрировал. Рабочая кепка и короткая стрижка стали классической характеристикой его внешности и воспринимались большинством людей как доказательство его солидарности с пролетариями. Но их можно было истолковать и по-другому: например, как подчеркивание силы мужского характера, не той грубой физической силы, признаком которой является наличие усов и бороды, а силы мужского интеллекта, ума.
Брехт находил то, что искал и к чему стремился, в марксизме. По-видимому, он верил в возможность изменить мир с помощью пьес и стихов. Во всяком случае, в серьезности его политических симпатий сомневаться не приходится: они предопределили весь дальнейший жизненный и творческий путь писателя. Брехт нуждался в доктрине, и идеи являлись для него оправданием творчества, а не творчество – оправданием идей. Сейчас даже трудно представить себе Брехта без марксистской теории, которая оказала решающее влияние на освобождение его от идей анархизма и помогла уберечь талант художника от сползания в болото нонконформизма *.
Однажды, находясь в Вайсензее, я спросил его: "Вас упрекают в формализме. Что понимают под формализмом те, кто выдвигает такое обвинение?" Брехт пробует отделаться шуткой: "Ничего". Я не удовлетворяюсь этим ответом и прошу его высказаться подробнее. Откинувшись в кресле, Брехт продолжает курить. Ему неприятны мои расспросы. Наконец, сделав вид, что его все это не трогает, он шутливо говорит: "Формализм означает то, что я кое-кому не нравлюсь". С трудом скрываемая неприязнь дает о себе знать в следующей фразе: "На Западе, верно, нашли бы для всего этого иное определение". Потом разговор переходит на другую тему. И только позднее, когда я уже совсем не ожидал услышать что-либо относящееся к этому вопросу, Брехт вдруг ни с того ни с сего заговорил откровенно: "Видите ли, мы работаем в "долгий ящик". В этом я убедился в эмиграции. Но придет время, когда нашу работу раскопают и она, быть может, еще кому-нибудь пригодится".
В сущности, для меня был (да и теперь остается) неясен характер наших взаимоотношений. Разве у него не было более верных друзей, чем я? Внезапная доверчивость Брехта, по крайней мере в первые минуты наших встреч, всегда приводила меня в смущение и заставляла почувствовать угрызения совести, хотя причин для этого не было. Быть может, его просто тянуло к людям, которые в дальнейшем не становились его единомышленниками?
Мне редко доводилось встречаться с великими людьми, великими по-настоящему, и, если бы меня сейчас спросили, в чем же, собственно говоря, проявлялось величие Брехта, я бы не нашелся, что ответить. По сути дела, я всегда испытывал одно и то же чувство: стоило мне с ним расстаться, как образ его приобретал для меня все большую реальность. Это величие действовало всегда постфактум, оно доходило до моего сознания с опозданием. Избавиться от этого подавляющего чувства его величия помогала только новая встреча с этим невзрачным на вид человеком.
Моя последняя встреча с ним состоялась в сентябре 1955 года, незадолго до его смерти. Она была короткой и даже несколько холодной. Я чувствовал себя неловко, так как здесь же находился Бенно Бессон, с которым я, как и с другими членами "Берлинер ансамбль", был знаком лично. Мы испытывали по отношению друг к другу чувство недоверия и неприязни, которое было вызвано разногласиями по политическим вопросам. В последнее время мы с ним постоянно спорили, и поэтому сейчас не могло быть и речи о примирении. Встретившись у Брехта и холодно поздоровавшись, мы старались уже больше не замечать друг друга. Не знаю, было ли Брехту известно что-нибудь о наших взаимоотношениях. Помню только, что мой приход помешал их деловой беседе, и мы стояли несколько минут молча. Наконец вежливость Брехта не позволила ему дольше молчать, и он, несмотря на важность своего разговора с Бессоном, прервал его и жестом дал понять, чтобы тот удалился. Бессон ушел, и мы остались с Брехтом одни. Наша встреча, однако, прошла как-то официально, хотя со времени моего последнего посещения прошло уже много месяцев. Брехт сообщил мне, что его труппа теперь уже полностью укомплектована и что настало время передать ее в другие руки. Ему не терпится снова сесть за письменный стол. Брехт выглядел больным, цвет лица стал землистым, движения скупыми и вялыми. Я рассказал ему о репетициях, на которых присутствовал в Западном Берлине, и в основном об игре Ханны Хиоб (его дочери) и декорациях, приготовленных для спектакля Каспаром Неером.
За обедом разговор шел об опасности новой войны и об отношении к ней людей на Западе. О своих творческих замыслах Брехт, как обычно, не упомянул ни слова. Елена Вайгель поинтересовалась моим мнением относительно подвергавшегося преследованиям в Швейцарии Конрада Фарнера. Затем снова наступила пауза, все ели молча. Я чувствовал себя неловко. Мне была неприятна эта лицемерная беседа, если ее еще можно было назвать беседой. Ощущение того, что причина этого лицемерия кроется во мне, было невыносимым, и, сколько бы я ни старался избавиться от него с помощью рассказов о том, как идут дела у Зуркампа (они шли плохо), мне это не удавалось. Отвечая на вопрос о перспективах воссоединения Германии, Брехт сказал: "Воссоединение это новая эмиграция для меня", и безо всякого перехода добавил: "Этот Бессон, ваш соотечественник, – большой талант". В заключение он спросил, есть ли в Швейцарии возможность купить летний домик.
Посещение могилы.
До сих пор еще остается загадкой, почему Брехт завещал похоронить его в стальном гробу. От чего или от кого должен был защищать его этот гроб? От власть имущих? От возможного воскрешения из мертвых? От тления? А может быть, он хотел, чтобы имя его было забыто?
Есть одна фраза, правда, написанная не о Брехте, но которую по праву можно отнести и к нему:
"Несмотря на однообразие проповеди своей, безгранично разнообразен этот сказочный человек". Это слова Максима Горького о Льве Толстом.
1966
КУЛЬТУРА КАК АЛИБИ
Почему мы, швейцарцы, должны заниматься немецкими проблемами? Две причины лежат на поверхности. Первая – территориальная близость, и от нее нам никуда не уйти; иначе мы сделали бы это еще в гитлеровские времена. Вторая – близость языковая, для духовной жизни значащая неизмеримо больше, нежели просто один из способов внешнего общения, – и это азбучная истина. В языке коренится родство более существенное, и от него тоже никуда не уйти, коли мы не собираемся отказываться от собственных корней и окончательно капитулировать.
Прошло почти четыре года с тех пор, как мы, каждый по-своему и в меру собственного темперамента, попытались возобновить швейцарско-немецкий диалог. Если сравнить, на что мы возлагали самые большие надежды после катастрофы и на что сегодня уже не надеемся вовсе; если подытожить многочисленные наши путешествия в Германию, не смешивая общий опыт с личными контактами, которыми нас одарила судьба, контактами, которые, стоит только заговорить о Мюнхене, Франкфурте, Берлине или Гамбурге, неизбежно вызывают в памяти дорогие нам лица друзей; если бескомпромиссно отбросить все, что просто-напросто льстит нашему тщеславию – ибо для любого швейцарца бесконечно важно, когда, приезжая в какую-нибудь страну, он сталкивается с самым серьезным отношением к себе как к деятелю культуры, – так вот, если отбросить подобные второстепенные вещи и задуматься всерьез об истинном положении вещей, мы вынуждены будем признать, что результаты не столь уж обнадеживающи.
Тем самым я вовсе не хочу сказать, что диалог с нашими немецкими современниками оказался совсем уж безрезультатным, по крайней мере для нас. Тысячи человеческих историй, рассказанные нам немецкими писателями, вселяют в меня все большую неуверенность – а как действовал бы я сам, окажись я на их месте? Истории эти нас потрясли. Я имею в виду отнюдь не мимолетное потрясение, но те изменения, что остаются в душе надолго. Истории эти подорвали нашу веру в собственную человечность. Люди, которых я всегда ощущал близкими по духу, превратились в нелюдей. Это потрясение многих наших внутренних убеждений, проистекавших, как нам казалось, из самого существа единой западной цивилизации, было, пожалуй, первым и, быть может, единственным до сих пор обретением, которое обеспечил нам швейцарско-немецкий диалог; обретение это, честно говоря, не делает в итоге наших северных соседей более привлекательными.
В настоящее время, как мне кажется, существуют две формы, в которые способна вылиться наша неприязнь: люди образованные предпочитают ограничиться немецкой классикой, духовное родство с которой отнюдь не причиняет неловкости, или же просто читают книги на иностранных языках; а те, кому не хватает языковых познаний или же у них свои основания вопреки всему вглядываться в лицо немецкой современности, пытаются набросить на сей лик покров всеобщего сострадания, оправдывая тем самым и себя. Это уловка не менее коварная, ибо немедленно обрекает на забвение и предает вчерашние жертвы, миллионы молчаливых жертв. И милосердие, как известно, может быть формой лжи, не говоря уже о практической пользе, которую умеют извлечь из него иные.
Несколько месяцев назад – тогда только что началась "блокада" * – я провел четыре недели в Берлине, я был там во второй раз с начала войны; незадолго до этого я побывал в Варшаве, и главным уроком, вынесенным мною из поездки в Польшу, было тревожное и горькое сознание, сколь легко забываем мы то, что кажется нам хорошо известным, о чем мы знаем, но никогда не видели собственными глазами. Я считаю, что ты не имеешь права говорить о Берлине, если видел только Берлин; иначе возникнет естественная и по-человечески вполне понятная опасность, что восприятие нами германского вопроса, от которого до сих пор мы не можем уйти, окажется сентиментальным, далеким от реальности, несправедливым. В одной из последних своих речей Уинстон Черчилль, говоря о германском военачальнике фон Рундштедте, призвал всех признать наконец историческую данность неизбежной. Как писатель, отнюдь не видящий своей задачи в том, чтоб трубить сбор к новой войне, как швейцарец, неизбежно осознающий внутреннее свое родство с немецкой нацией, как человек нашего столетия, столетия небывалых катастроф, и как гуманист, наконец, я усматриваю в подобном высказывании квинтэссенцию всего, что повергает меня в глубочайшее недоумение и отчаяние. Даже если мне дано понять, какие цели преследует подобная амнистия, я все равно не поверю, что подобным подходом, пусть даже кое-кого он весьма устраивает, мы обеспечим себе будущее; и уж в самую последнюю очередь это будет будущее немецкого народа, который, стоит лишь принять подобную амнистию, навсегда останется отмеченным каиновой печатью.
Увы, дела сегодня обстоят в мире так, что события недавнего прошлого, не успев еще по-настоящему потрясти и ужаснуть нас, уступают место новым злодеяниям, которыми мы возмущаемся с готовностью, с лихорадочным и несколько подозрительным усердием, забывая при этом, где причина, где следствие; не только в соседних немецких краях, но и здесь, в собственной нашей стране, уже принято говорить о сегодняшнем дне так, будто перед ним не было никакого вчерашнего.
Признать, наконец, историческую данность неизбежной? Следовало бы подумать об этих словах, стоя возле груд битого кирпича, там, где находилось прежде Варшавское гетто, а еще, читая доклад бригаденфюрера Йозефа Штропа, который на этом самом месте, объединившись с подразделениями вермахта, утопил, сжег и расстрелял восемьдесят тысяч человек, воспротивившихся отправке в Освенцим. Защитнику "исторической данности" следовало бы, по крайней мере, посетить один из многочисленных лагерей смерти, где творились немыслимые вещи: увидеть узкоколейку, ведущую в рощу и заканчивающуюся у барака с газовыми камерами, за бараком – печи, еще дальше – складские помещения, набитые женскими волосами, очками, гребешками, детскими платьицами.
Знаю, всем нам кажется, будто мы информированы об этих вещах, и информированы достаточно. Но когда стоишь на месте массового убийства, оказывается, что мы не знаем вообще ничего. Ибо трудно помнить то, что невозможно вообразить. Думаю, подлинного ужаса и отвращения мы пока не испытали, а страх, что придется все-таки их испытать, заставляет едва ли не сладострастно внимать каждому новому известию о злодеяниях на нашей земле. Как будто одно злодеяние можно оправдать другим, еще более страшным злодеянием.
И это не говоря уже о том, что наши немецкие сородичи даже тогда, когда им приходилось хуже всего, не оказывались целыми деревнями перед братской могилой, с маленькими детьми на руках, как то не раз случалось в Польше, на Украине, в России.
Я хочу быть правильно понятым. Речь идет не о призыве к какой-либо мести, не об оправдании новых преступлений. Речь идет, говоря упрощенно, о не осмысленном еще до конца всеми нами факте, что во времена, когда нам довелось жить на земле, современники наши совершали вещи, на которые, казалось нам прежде, человек не способен. Когда я вижу документальные кадры, где еврейские женщины прыгают с четвертого этажа, а затем с переломанными ногами ползут назад в горящий дом, только чтоб не попасться на глаза фашистским солдатам, и когда в следующем кадре я вижу лица этих солдат, обычные лица, которые сплошь и рядом можно встретить в переполненном трамвае или на дружеской вечеринке, особенно же когда сам оказываешься на месте, где творились злодеяния – перед виселицей, в нацистском застенке или в подвале, полном человеческого пепла, – ощущение всегда, по сути, одно, и сводится оно к неимоверному удивлению, к беззащитности, с какой вопрошаешь себя: неужели человек способен был на такое? И не какой-нибудь отдельный человек, скажем Ландрю или Хаарман, но при соответствующих обстоятельствах весьма значительное число людей. И отнюдь не какая-нибудь там отсталая народность, от которой всего можно ожидать, ведь представители ее не пользуются уборной и не читают книг, но народ, владеющий всеми знаниями и навыками, которые до сих пор мы включали в понятие "культура", народ, который и сам внес значительный вклад в развитие этой культуры.
Я хотел бы сформулировать это так: если люди, говорящие на том же, что и я, языке и наслаждающиеся той же самой музыкой, способны при определенных обстоятельствах превратиться в нелюдей, где взять уверенности в том, что подобное никогда не произойдет и со мной?
Быть может, именно здесь кроется наиболее важная причина, почему столь часто обращаем мы взор к нашим немецким соседям, и одновременно объяснение, почему столь многое из того, с чем сегодня мы там сталкиваемся, не вызывает у нас доверия; вновь повсюду, словно тогда не хватало именно этого, воспроизводится та же самая культура, отстраиваются театры и концертные залы, проводятся поэтические чтения, словом, налаживается духовная жизнь, способная удовлетворить высокие и самые высокие запросы, но, как правило, без стремления подвергнуть переоценке немецкое, а может быть и западноевропейское в целом, понятие культуры, столь явно дискредитировавшее себя в недавнем прошлом.
Увы, я не могу коротко и ясно объяснить, что следует понимать под культурой. Но к важнейшему жизненному опыту, выпавшему на долю моего поколения, принадлежит, мне кажется, и неоднократно подтверждавшийся факт; чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример: можно быть, скажем, Гейдрихом, палачом Богемии, и в то же время – замечательным, тонким музыкантом, с восхищением и подлинным пониманием, с любовью даже беседующим о Бахе, Генделе, Моцарте, Бетховене, Брукнере. Назовем данное качество, отличающее подобный тип людей, эстетской культурой. Главным ее отличительным признаком является то, что сам по себе факт ее наличия ничего еще не доказывает. Это род духовности, позволяющей иметь самые возвышенные помыслы и в то же время не способной предотвратить самого низкого падения человека, это культура, аккуратно отмежевывающаяся от требований человеческой повседневности.
Культура в таком понимании – возвышенный кумир, удовлетворяющийся исключительно достижениями в области науки и искусства, культура шизофренической раздвоенности, и она, бесспорно, не в состоянии спасти человечество. Не удивительно, скорее ужасно, сколь многие письма моих немецких коллег отстаивают именно такое понимание культуры; стоит только упомянуть о германском вопросе, как тут же всплывают имена Гёте, Гёльдерлина, Бетховена, Моцарта, всех, кого на протяжении столетий дала миру Германия, и неизменно только ради одного: чтоб утвердить гениальность как возможное алиби. По существу, это все то же безобидно-тошнотворное представление, будто мы имеем дело с культурным народом, если у народа этого есть симфонии; сюда же, естественно, относится и исполненное возвышенности представление о художнике, свободном от всех проблем современности и парящем исключительно в сферах чистого духа, так что в остальном ему дозволено быть полнейшим ничтожеством, скажем как гражданину своей страны, как члену человеческого сообщества вообще. Он ведь проповедует вечное, а вечное так или иначе переживет совершаемое им ежедневно предательство.
Что общего у искусства с политикой? Так вопрошают они. При этом, естественно, под политикой понимается нечто низменное, чем ни в коем случае не должен замараться человек духа, знаменитый культуртрегер *. Подобное представление о культуре бытует, как мне кажется, больше у немцев, нежели у швейцарцев. Хотя понятно, что и в нашей стране бюргер того же мнения искусство должно заниматься прекрасным! (Гёте говорил, что искусство занимается добрым и трудным. Эта разница определяет все.) В нашей стране тоже немало людей, которые хотели бы видеть искусство своего рода заповедником, вне нашей совести, этаким уютным садиком, где можно посидеть вечерком; но вряд ли мы встретим хоть одного швейцарца, который избежал бы опасности принимать искусство, которого он жаждет, серьезно, столь же серьезно, как и его дела.