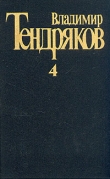Текст книги "Листки из вещевого мешка (Художественная публицистика)"
Автор книги: Макс Фриш
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Родной дом, ландшафт, диалект...
Должно быть еще нечто, рождающее ощущение родины, чувство причастности, осознание собственной принадлежности к чему-либо. Я вспоминаю, например, одну стройку в Цюрихе, место профессиональной моей деятельности. Письменный стол тоже может быть таким местом, и все-таки это не одно и то же: письменный стол мог бы стоять и в Берлине. А все дело, как заверяет Дуден, в местности. Для меня это прежде всего был Цюрихский театр. Публичное место, в самом сердце Цюриха, и к тому же антифашистские взгляды. Репетиции в фойе, репетиции на сцене, и все это со счастливым ощущением политической общности, проявлявшейся буквально во всем, даже в работе комиссии административного совета, весьма квалифицированной, кстати сказать, комиссии. Даже тогда, когда у меня не было готовой или хотя бы задуманной собственной вещи, рождалось чувство сопричастности, принадлежности. И на репетициях других пьес, особенно на репетициях Фридриха Дюрренматта. Театр всегда был в Цюрихе первым, туда я отправлялся сразу, забросив только чемодан в гостиницу, сначала театр и только потом уже кружка-другая пива, "Бодега горгот", пивная эта существует и поныне, битком набитая нашими потомками, так что самому себе ты кажешься похожим на Рип ван Винкля из сказки: прошлое (прошедшее время) как родина в современности.
Но все еще чего-то не хватает.
Значительна литература, воспевающая тему родины, заранее примирившись с прошлым и настоящим своей страны. Но я лучше ощущаю родину, читая Роберта Вальзера *: жизнь в изгнании как кажущаяся идиллия, уменьшительные формы как проявление тайного отчаяния, великий соотечественник при попытке бегства в красоту. И конечно, Готфрид Келлер; вот только письма его и дневники дают мне больше понимания родины, нежели его Зельдвила, эта довольно коварная модель всеобщего примирения. Готхельф превращает меня в восторгающегося гостя Эмменской долины, гостя, но не исконного ее жителя. Песталоцци предлагает мне в качестве родины скорее свой революционный дух, нежели окружающий нас мир, – тут уж я вспоминаю Георга Бюхнера *, Толстого...
А может, все дело просто в друзьях?
Не следует, кстати, забывать и национальную кухню, вкусные и бесхитростные наши блюда, вино, уже после второго глотка поднимающее настроение, – постранствовав по всему свету, начинаешь особенно ценить такие вещи. А еще я совсем забыл про главный вокзал родного города, он ведь отличается от всех других вокзалов мира: сюда тебе не довелось прибывать впервые, отсюда ты впервые уехал...
РОДИНА:
где понятие это особенно обостряется, так это в Берлине, где город разделен на две части, на той и на другой стороне одинаковая погода и пока еще один язык; родина, остающаяся таковой, трудная родина и еще другая, какой она уже больше никогда не будет.
А с друзьями дело обстоит так: один стал парашютистом германского вермахта, один попал в плен к русским, один – к американцам, один, еще будучи учеником, записался в фольксштурм и сражался с фаустпатроном в руках, один воспитан был в Мекленбурге, и мы всегда ощущали это; американский мой друг был в Корее и теперь предпочитает помалкивать об этом – я понимаю их не хуже, чем друзей из Биля и Базеля, Золотурна и Цюриха, не хуже, но все-таки иначе. Те – просто друзья, эти – друзья и соотечественники, у нас схожий жизненный опыт, биографии наши легко сравнимы, и при всем различии наших характеров у нас, в конце концов, один и тот же Федеральный совет, единая история страны.
Значит, все-таки Швейцария как родина?
Потребность в родине несомненна, и, хотя я не могу четко, без оговорок, определить, какой смысл вкладываю в это понятие, я без заминки скажу: у меня есть родина, я не гражданин мира и я рад, что она у меня есть, – но смогу ли я подтвердить, что это – Швейцария?
Швейцария как территория.
Когда по прошествии нескольких лет возвращаешься из Рима, Тессин в сравнении с Италией кажется очень швейцарским, в районе озер это даже немного пугает; когда местные жители говорят Il nostro paese 1, звучит трогательно, ведь под этим они понимают не проданные склоны, но Швейцарию вообще; одинаковые фуражки у железнодорожников и одинаковый военный налог, Il nostro paese, и при этом здесь, в долинах, где "итальянскость" со временем утрачивается, естественно, понимают разницу между швейцарцами, говорящими по-немецки, и немцами, только вот разница не очень убеждает местных жителей, да и сам я, живущий ныне в Тессине, никогда не стал бы утверждать, что Тессин – моя родина, хотя там мне действительно очень хорошо.
Должно ли быть на родине непременно хорошо?
Несомненно и то, что родина накладывает на каждого свой отпечаток, это, быть может, особенно заметно у писателей и видно черным по белому на каждой странице. Попробую собрать воедино все, что создала моя фантазия: Бин во время своей поездки в Пекин, Штиллер, пытающийся в Цюрихе уйти от самого себя, Homo Фабер, теряющий себя, поскольку он ни к чему не принадлежит, исконный наш господин Бидерман и так далее – излишне уже предъявлять мой швейцарский паспорт. Андорра – это не Швейцария, просто общая модель страха, но это могла бы быть и Швейцария, точнее, страхи какого-нибудь швейцарца. Гантенбайн разыгрывает слепого, чтобы сделать для себя окружающий мир более сносным, граф Одерланд, образ предположительно из легенды, и, если судить по имени, легенды скандинавской, хватается за топор, ибо не может больше выносить пустое, застывшее общество, которое вынужден защищать в качестве адвоката, и, хотя мятеж такого рода имел место не у нас, а в 1968 году в Париже, французская пресса писала: "un reve helvetique 2" – таков национальный отпечаток.
1 Наша страна (um.).
2 Швейцарская мечта (фр.).
Родину не выбирают.
И все-таки я медлю провозгласить, что моя родина – Швейцария. Ведь каждый, произнося "Швейцария", представляет себе что-то свое. В нашей конституции не записано, у кого есть право определять, что по-швейцарски и что не по-швейцарски, – так у кого же: у федеральной адвокатуры? у завсегдатаев пивных? у совета высших учебных заведений? у финансовых воротил и их респектабельной прессы? у швейцарского офицерского общества?
РОДИНА:
если родина является округом, где мы, будучи детьми, школьниками, получаем первые впечатления от окружающей среды, природной и социальной, если родина является краем, где мы благодаря неосознанному приспособлению (в юные годы нередко до полной потери себя) поддаемся иллюзии, будто здесь, в этих местах, мы не чужие, тогда родина – это проблема идентичности, дилемма между одиночеством там, где суждено было нам родиться, и потерей себя в силу приспособленчества. Последнее (у подавляющего большинства) требует внутренней компенсации. Чем меньше я в результате приспособления к окружающей среде понимаю, кто я есть на самом деле, тем чаще буду я повторять: я швейцарец, мы швейцарцы, тем больше будет у меня потребность казаться в глазах большинства настоящим швейцарцем. Идентификация себя с большинством, состоящим из тех, кто сумел приспособиться (своего рода компенсация за упущенную или утраченную под давлением окружающего общества идентичность), составляет обычно основу шовинизма. Шовинизм есть прямая противоположность самосознанию личности. Примитивным проявлением страха оказаться вдруг чужим в собственном мирке является враждебность к иностранцам, которую так охотно принимают за патриотизм – другое слово, пришедшее с недавних времен в упадок, его мы также предпочитаем употреблять в кавычках. И несправедливо. Патриотом (в данном случае без кавычек) следовало бы считать того, кто обрел собственную идентичность, кто вообще ее никогда не терял и кто, стало быть, признает народ, из которого он вышел, своим народом: скажем, Пабло Неруда, бунтарь, поэт, предлагающий своему народу иной язык, нежели язык повиновения, и потому возвращающий ему идентичность, торжественно вручающий свет самосознания, в любом случае это поистине революционная деятельность; зато масса приспособившихся не имеет родины, есть лишь государственное учреждение, осененное флагом, оно выдает себя за родину и подкрепляет это военной силой – не только в Чили.
Что же касается нашей страны:
похоже, что наше молодое поколение намного спокойнее, не то чтобы равнодушнее, но спокойнее. Швейцария, которая им открылась, – это Швейцария после второй мировой войны, а значит, они чувствуют себя менее зависимыми от нее, чем мы в течение долгих лет. Когда на нас накатывают воспоминания, они лишь пожимают плечами. Что дает им ощущение родины? Даже оставшись в своей стране, они живут с сознанием, что такие понятия, как федерализм, нейтралитет, независимость в эпоху господства межнациональных концернов, всего лишь иллюзия. Они видят, что от их страны не многое зависит; горлопаны времен "холодной войны" сделали свою карьеру: кто стал банкиром, кто подвизается на поприще культуры, а кто совмещает и то и другое. Что могло бы наделить наших молодых соотечественников ощущением родины, родины в политическом смысле, так это более конструктивный вклад нашей страны в европейскую политику. Увы, это пока не слишком заметно. А что, напротив, бросается в глаза, так это law and order 1, и во внешних проявлениях тоже: Швейцария, избравшая фигуру умолчания в интересах частноэкономических связей, в сравнении с другими малыми странами, такими, как Швеция или Дания, гораздо более сдержанна в проявлении собственного волеизъявления; понятно, подобное волеизъявление все равно не смогло бы изменить ход мировой истории, – и тем не менее оно сделало бы нашу нравственную сопричастность событиям в мире менее локальной, а это уже кое-что; с такой Швейцарией мы могли бы быть солидарны внутренне.
"Неуютность маленького государства" – это явно не то, уважаемый профессор Карл Шмид, что вызывает тревогу граждан Швейцарии, не скромные размеры нашего государства. Besoin de grandeur 2 отнюдь не относится к размерам страны; ностальгия – это нечто совсем другое. Сколь бы ни был привлекателен для иных тезис, будто неуютно в сегодняшней Швейцарии лишь психопатам, он отнюдь не доказывает еще социального здоровья нашей страны. Насколько родным является для нас государство (а это значит: в какой мере достойно оно защиты), всегда будет зависеть от того, в какой степени можем мы отождествлять себя с нашими государственными учреждениями, а также, что тоже немаловажно, с их действиями. Если же я все-таки отважусь связать свою наивную жажду родины с государственной принадлежностью, то есть сказать: Я ШВЕЙЦАРЕЦ (не просто обладатель швейцарского паспорта, не просто родившийся на швейцарской территории, но швейцарец по убеждению), тогда я уже в любом случае, произнося слово "родина", не смогу удовлетвориться одной только родной деревушкой и озером Грайфен, дворовыми липами и диалектом, даже Готфридом Келлером; тогда к ощущению родины примешается еще и стыд, стыд за швейцарскую политику по отношению к политическим беженцам в годы второй мировой войны, стыд за все, что происходит или не происходит у нас в наше время. Я знаю, такое представление о родине не соответствует образцам, по которым кроятся подобные представления в отделе "армия и тыл", но это мое представление. Родину не определяют по чувству комфорта. Кто произносит РОДИНА, тот берет на себя многое. Когда, например, я читаю, что наше посольство в Сантьяго в Чили (отдельная вилла, как легко себе представить, не огромная, но все-таки вилла) в решающие дни и часы не располагало лишними койками для сторонников законного правительства, которые, впрочем, искали не отдохновения, но защиты от варварского бесправия, от расправ (с помощью автоматов швейцарского образца), от пыток, я как швейцарец испытываю по поводу такой моей родины – и уже в который раз – чувство гнева и стыда.
1974
1 Закон и порядок (англ.).
2 Жажда величия (фр.).
К ПРЕКРАЩЕНИЮ ВОЙНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ
Первое чувство, которое мы испытываем, конечно, чувство облегчения: с сегодняшнего дня в Северном Вьетнаме не будут больше убивать крестьян на их полях и детей в школах... Но если одним прекрасным днем прекращают геноцид, потому что он не окупается, – это еще не чудо. А он как раз и не окупается ни в военном, ни в политическом отношении. Вычислим к тому же, что ежедневная утрата престижа во всем мире, с тех пор как мир знает о происходящем, делает слишком дорогостоящим разрушение вьетнамских деревень. Просчитались – и вот вам последствия; вот и все. Сайгон ждет следующей атаки; в джунглях множатся затерявшиеся посты, и нам жаль американских солдат на них; решение президента Джонсона патриотично: частичная капитуляция, прикидывающаяся мирным предложением, осуществляется во имя сохранения империалистической власти, которая в другом месте, например в Латинской Америке, хозяйничает и без явной, открытой войны. Прекращение бомбардировок на Севере – это американская любезность, требующая любезности ответной: неприкосновенности американской оккупации на Юге. Но вьетнамский народ и впредь будет вмешиваться в свои собственные дела. Значит, пока армия интервентов не погрузится на корабли, мира не будет.
А кто, кстати, будет восстанавливать этот Вьетнам, который не окупился для США? Поскольку американская интервенция во Вьетнаме не персональная ошибка Кеннеди или Джонсона, а следствие системы господства, требующей для своего существования угнетения других народов, отставка Джонсона мало что меняет; система себя разоблачила, и революции против этой системы будут шириться.
"C'est pire qu'un crime, c'est une faute" 1, – сказал Талейран *, видимо имея в виду: за ошибку приходится расплачиваться, за преступление не всегда. Сегодняшнее сообщение свидетельствует, что война во Вьетнаме была ошибкой, эскалацией, присущей системе ошибок... Наше чувство облегчения быстротечно.
1968
1 Это хуже, чем преступление, это ошибка (фр.).
О ЛИТЕРАТУРЕ И ЖИЗНИ
Г-н Фриш, позади у Вас долгая литературная жизнь со многими событиями, путешествиями. Много написано. Вы известны во всем мире. Существует уже целая литература о М. Фрише, в особенности в Западной Германии. Как Вы сами оцениваете свое прошлое, последние годы своего писательского труда?
Мысли мои заняты сейчас не столько собственной литературной работой и прожитым, сколько общим положением в современном мире, тем, что на земле нет настоящего мира, что обе великие державы враждебны друг к другу.
Теперь о том, что я думаю о своей работе за последние 50 лет. Вопрос, как перед небесными вратами. Вас, видимо, интересует не биография, а результаты писательской работы. Что я могу об этом сказать? Писательская жизнь моя, как мне кажется, сложилась счастливо. Те две-три темы, которые преследовали меня и побуждали к работе, занимали, как оказалось, не только меня лично: "я" и общество, эмансипация мужчины и женщины, вопрос невиновности и вины и т. д. Меня все более и более поражает, как много людей узнавало себя в моих книгах – читатели из разных стран, часто молодые, читатели и в Америке, и у вас, в Советском Союзе. Поэтому я счастлив. Да, пожалуй, такое чувство, что своей работой ты оказываешь какое-то действие. Писал и издавал я и некоторые неудачные вещи. Неудачные в том смысле, что в них не было найдено органичной формы и у меня не хватало терпения дать материалу дозреть. Впрочем, я не отрекаюсь от них. Естественно, что на многие вещи я смотрю сейчас иначе, чем 30 или 40 лет назад, было бы плохо, если бы люди не извлекали уроков из прошлого. Но союза с дьяволом я не заключал никогда. И потому не могу быть недовольным своим прошлым, даже если в общем-то мы всегда несколько разочарованы. И что я еще заметил бы: я не считаю себя проповедником, способным возвестить современникам истину. Естественно, у меня есть убеждения, но никогда не было уверенности, будто это единственно возможные убеждения. Ох, уж эта уверенность! Вероятно, воздействие моих книг – я имею в виду не успех, а именно спокойное воздействие – обусловлено тем, что они противоположны проповедничеству. Читатель видит перед собой писателя, который хотя и выносит суждения, зачастую горячие, но снова и снова сам ставит их под сомнение. И это, видимо, ободряет иных читателей: они не уходят в себя, а сами задаются вопросами и продолжают поиск того, что имеет значение для них. Что жизненно важно для них. Я не доверяю никакому учению, требующему слепого следования ему. Конечно, скептицизм мой создал мне и противников. Представители христианской церкви говорят, что я человек религиозный, но вот последнего шага к вере не делаю. А коммунисты называют меня гуманистом, но гуманистом буржуазным, который последнего шага не делает.
Авторы фундаментальных исследований о Вашем творчестве пишут, что главное для Вас – правдивость отображения. Можно ли сказать "реалистическое отображение"?
Вопрос в том, что понимать под реализмом. Реализм как антитеза формализму? Я вспоминаю, как Пикассо – я наблюдал его вблизи лишь 10 минут сказал с клоунской миной: высказываются против формализма – о, я тоже против формализма, да только мы не одно и то же имеем в виду. Он сказал это Фадееву на конгрессе сторонников мира в 1948 году во Вроцлаве. Конечно, большие дискуссии о социалистическом реализме известны вам лучше, чем мне. Произведения искусства на полотне или в бронзе, которые помечены этим знаком, быстро состарились. Вы видели в Цюрихе дом, где жил Ленин до того, как вернулся в Россию в 1917 году? На той же улице, как раз в соседнем доме, лет за сто до этого жил Георг Бюхнер, немецкий поэт, скончавшийся здесь в эмиграции двадцати трех лет от роду. Бюхнер создал первую в немецкой литературе пролетарскую фигуру – Войцека. И он сказал (имея в виду искусство): "Я требую во всем жизни, возможности бытия, тогда это хорошо; мы не должны спрашивать, красиво это или уродливо. Ощущение, что это исполнено жизни, выше этих соображений и является единственным критерием в вопросах искусства". Это и есть то, что я понимаю под реализмом в искусстве: правдивое отображение исторической реальности со всеми ее противоречиями, то есть отображение без прикрас.
Как в нашем классическом реализме XIX века?
Великим реалистом я назвал бы Толстого. Да. Но к реалистам я отношу Сервантеса и Свифта, Джозефа Конрада, Мелвилла. И Кафку тоже. Существует и некий пророческий реализм.
А кто более близок Вам из наших русских классиков?
Толстой? Гоголь? Пастернак? А Пушкин? Первым русским писателем, который очаровал меня, был Достоевский. Давно не перечитывал его. Восхищаюсь Горьким. А Исаак Бабель? Сейчас я перечитываю Антона Чехова, которого люблю. Все это великие писатели, если мы согласны в том, что великого писателя отличает объективное знание человека и правдивость отображения. Этим и важен для нас большой писатель. Да, именно объективное знание человека, открытая сила переживания и есть инженерия человечности.
Многие исследователи считают центральной для Вашего творчества проблему личности, или, как ее формулируют, ее "идентичности", соответствия человека его сущности. Согласны ли Вы с этим?
Это верно по отношению к ранним работам, но не к таким, как "Монток", "Человек появляется в эпоху голоцена", "Синяя Борода"... Вы, видимо, имеете в виду роман "Штиллер". Давняя история! Когда мне один из первых читателей сказал, что речь здесь идет о кризисе идентичности личности в современном обществе, я пожал плечами, потому что об этом я, собственно, не думал, когда писал. Ведь пишешь, исходя из какого-то конфликта, пережитого или переживаемого. И вот о том, что это явно конфликт, который переживается и другими, так сказать, типичный конфликт, – об этом я слышу уже лет тридцать, и без этого понятия не обходится ни один семинар. Что имеется в виду? Понятия становятся расхожими и стираются, как монеты, так что на них почти ничего уже и не различишь. Одна из причин того, почему проблема идентичности так широко распространилась в индустриальном обществе, заключается, вероятно, в отчуждении труда. Да и как может человек, десятилетиями работающий на конвейере, не испытать ущерба для личности? Но если и не все из нас работают на конвейере, большинство людей ради заработка делают какую-либо работу – работу без прямой связи между личностью и изделием. И это относится ведь не только к технологическому труду; не только мужчина или женщина, работающие у компьютера, но и полчища торговых служащих, чиновников и т. п. в процессе труда ради заработка не получают ответа на вопрос: кто я есть? Заработная плата, даже хорошая, – еще не ответ. Ты такой же поденщик, как миллионы других, работающих ради заработка, без права на самоопределение. Разумеется, есть и другие причины, множество причин кризиса личности, ее идентичности, многообразные причины. Это очень разветвленная тема. Глубокое истолкование я нашел позднее у Сёрена Кьеркегора *. Познай себя! Это первое. Но далее он требует: принимай себя таким, какой ты есть. Что, как известно, нелегко дается. Притча "Андорра" построена на парадоксе: одного бурша ошибочно принимают за еврея, после чего он и сам начинает считать себя таковым, община делает его козлом отпущения, чем разоблачает себя в своих предрассудках. Но этого в нескольких словах не расскажешь.
Что Вы думаете о роли писателя и литературы? Могут ли писатели сегодня добиться больше, чем прежде?
Что вы имеете в виду: роль, которую писатель берет на себя, или роль, которую возлагает на него общество? И какое общество? Конфликты в этой области, полагаю, всем нам известны. Я вспоминаю о великом Гойе, который был придворным живописцем у испанского короля. Однако великими были те его творения, которые он создавал не для королевского двора. И если позволительно, еще один пример из живописи: "Герника", выдающаяся картина Пикассо, созданная в знак протеста против Франко – Гитлера – Муссолини. Она сразу стала знаменитой во всем мире, но не могла помешать тому, чтобы генерал Франко еще сорок лет господствовал в Испании. Я не считаю искусство контрвластью. Для меня искусство – контрпозиция к власти. Это, кстати, и раздражает властителей. Искусству и поэзии, большому искусству и большой поэзии нельзя приказать, их можно запретить, да, их можно уничтожить. Картина Пикассо, как вы знаете, находится сейчас в Мадриде, где генерал Франко сжег бы ее. Да, но это, конечно, не ответ на ваш известный вопрос. Некоторое время тому назад, в 60-е годы, мы обсуждали его на одном симпозиуме за другим, что не исключает того, что сам вопрос, возможно, не верно поставлен. Может быть, просто достаточно того, что поэзия существует?
Верно ли, что Вы сами считаете себя гуманистом?
Меня, собственно говоря, интересует, каким вы меня считаете, каким меня считают другие. Не стесняйтесь! Вот вы мне до сих пор не сказали, что думаете лично вы по поводу того, например, что персонажи моих романов или пьес – большей частью люди сломленные. "Жаль людей", – часто звучит у Августа Стриндберга. "Жаль людей"! Большая часть литературы – элегия, выражение тоски по более человечной жизни. И пока предъявляются жалобы, у нас, очевидно, остается надежда, что в жизни что-то изменится. Например, надежда, что не будет больше пыток, что настанет конец господству человека над человеком. Мне нравится фраза Вальтера Беньямина, немецкого философа еврейского происхождения, который эмигрировал во Францию и, когда туда вошли нацисты, покончил с собой, – фраза о сущности искусства вообще: "Искусство наместник утопии". Не правда ли, хорошая фраза? – и, к слову, наилучший ответ на ваш предыдущий вопрос о роли художника.
Есть ли в Вашем творчестве романтические идеи?
Когда на Западе говорят "это романтическая идея", это звучит пренебрежительно, как в Америке, к примеру, говорят о социализме: дескать, мечтания, что-то детское, далекое от жизни, в лучшем случае нечто трогательное, то есть не для серьезных мужей. И в этом смысле моя деятельность, если сравнивать ее с деятельностью банкира или промышленника, полна романтических идей. Это я должен признать. Почему бы человеку, обладающему такой прекрасной квартирой, как моя, не быть, в конце концов, довольным положением вещей! Для прагматика это непонятно, а мои соотечественники, как правило, прагматики, большие и малые, – это отражено в истории моей страны. Поэтому я никогда не имел здесь политического успеха, даже самого скромного, лишь от случая к случаю аплодисменты, аплодисменты от других романтиков! Да и как прагматикам здесь или где-нибудь в другом месте представить себе жизнь без стратегии устрашения? Мир без арсенала ядерных боеголовок, которыми мы могли бы сорок один раз уничтожить друг друга, – вот одна из моих романтических идей.
Непонятно, почему исследователи Вашего творчества утверждают, будто Вы описываете лишь свою личную жизнь. Разве личная жизнь не отражение жизни общества?
Личное, частное словарь толкует как нечто домашнее, не публичное. Но может ли литература заниматься лишь явлениями общественной жизни? Смерть личное дело, например в рассказе Толстого "Смерть Ивана Ильича", а это великая литература. Разве любовная ночь должна быть публичной, чтобы любовь стала темой литературы? Мне известен упрек, будто я рассказываю только о своей личной жизни. Это идет еще от 60-х годов, с того времени, когда в ФРГ пробудилось новое осознание общественных явлений, которое потребовало от литературы, чтобы она занималась исключительно этими социальными явлениями. Впрочем, здесь смешиваются два понятия: личное и автобиографическое. Это не одно и то же. Мои романы действительно занимаются главным образом межчеловеческими отношениями, то есть конфликтами в сфере личной жизни. Мне представляется нелепым предположение, будто мои романы и пьесы автобиографичны. Вымышленные истории тоже нуждаются, конечно, в материале. Черпает ли писатель этот материал из личных встреч или из чужих сообщений, ничего не меняет в том факте, что рассказанная история в целом становится вымышленной историей. Разумеется, я пользуюсь и автобиографическим материалом, воспоминаниями, личным опытом. Почему бы нет! Это способствует достоверности всей декорации. Бальзак знал улицы и площади в своем Париже, был знаком с сотнями современников, но его истории не становятся оттого автобиографическими. Вероятно, здесь тоже происходит смешение понятий: тема автора, биография автора. Я действительно отношусь к писателям, которые всю жизнь могут работать только над собственной темой. В различных вариациях, конечно. Во все новых историях. Встречаясь с читателем в Мадриде, или в Бостоне, или в Новосибирске, я полагаю, что его интересует не моя скромная биография, а скорее моя тема. Вы уже сами сказали: история, рассказывающая о конфликтах в личной жизни, например о конфликтах в жизни Анны Карениной, всегда вместе с тем и отражение жизни общества. Общественная ситуация может быть предметом теоретического анализа, это метод социологии и политологии. Иной подход у литературы: она постигает общественную ситуацию посредством изображения конкретных случаев.
Занимаясь общечеловеческими проблемами, Вы остаетесь при этом, само собой разумеется, ярко выраженным швейцарским писателем. Расскажите, пожалуйста, о "швейцарском сознании".
Это сложное сознание. Вкратце обо всем не расскажешь. Тем более я не знаю, что вам известно из истории этой маленькой страны, а моя критика в адрес Швейцарии известна общественности. Но не получится ли так: критика в адрес Швейцарии – да, потому что я швейцарец. Критика в адрес ФРГ пожалуйста. Критика в адрес США с их нынешним безумным стремлением к господству – пожалуйста. А критику по отношению к СССР вы не захотите слушать?
К понятию нейтралитета. Это не отказ от личного мнения по политическим вопросам. Иначе бы мы с вами вообще не сидели здесь вместе за беседой. Нейтралитет – не нравственная норма, а государственное благоразумие. Когда Германия и Франция воевали между собой более ста лет тому назад, было разумным, что Швейцария как маленькая страна не вступала в союз ни с одной из воюющих сторон. Совершенно независимо от того, что у одних швейцарцев язык французский, а у других – немецкий, пакт с той или иной из воюющих сторон, вероятно, привел бы к расколу Швейцарской Конфедерации. И вообще, к чему союз с этими крупными нациями, с немцами или с французами? Ведь из истории известно, что меньший из партнеров в случае победы мало что получает, зато в случае поражения расплачивается сполна. Крестьянская мудрость!
Еще во время первой мировой войны швейцарский нейтралитет как проявление государственного благоразумия не вызывал сомнений. А во время второй мировой войны? Будучи солдатом на Готарде, я бы стремился застрелить нацистских парашютистов, как можно больше. Но я не стрелял бы ни в одного английско-французско-польско-норвежско-американского парашютиста. Да, бывает: нейтралитет порождает конфликтную ситуацию. Короче говоря, Швейцария, осознавая свою беспомощность как малая страна, заявляет о своем нейтралитете. Но это не означает, что я как личность не имею политических убеждений. И притом в их публичном выражении. Парламент не обязан соглашаться с нами, когда мы выходим на улицу демонстрацией в защиту Никарагуа. Наш парламент как представитель нейтральной Швейцарии должен хранить молчание и порой молчит очень охотно. Но парламент не мог приказать нам молчать, когда был убит Сальвадор Альенде и мы знали кем. Понимаете? Согласно конституции, мы не обязаны молчать. Согласно конституции! Конечно, власти здесь, как и везде, пытаются применять запугивание. И тот, кто стремится сделать карьеру, проявляет осмотрительность. Но демонстрации бывают. И не только против далекого генерала Пиночета. Демонстранты выступают и по внутриполитическим проблемам, тогда становится жарко, и полиции надо еще многому поучиться, чтобы держаться в конституционных рамках. Снова и снова происходят демонстрации против атомных электростанций, что не нравится крупному капиталу, ибо это тормозит его планы извлечения прибылей и формирует общественное сознание.
А мы считаем, что общественное сознание – это предпосылка того, чтобы нами не управляли как людьми, ни о чем не ведающими. Чего достигает демонстрация против пыток в Турции? Она достигает того, что все больше людей узнают об этом. Если дойдет дело до вторжения США в Никарагуа, чего я опасаюсь, будут демонстрации. Демонстрации не защитят Никарагуа, нет. Но все же это демонстрация солидарности. Были демонстрации и против некоторых шагов Советского Союза, это так. Нейтральную страну нельзя представлять себе как дом для глухонемых.