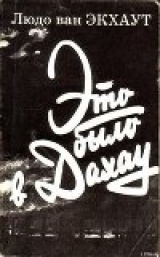
Текст книги "Это было в Дахау"
Автор книги: Людо ван Экхаут
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
– Ты участвовал только в операции с оружием, – сказал я ему.– Больше ты ничего не делал.
Он понимающе кивнул.
– Завербовал тебя я, и, кроме меня, ты никого не знаешь, – продолжал я.
– Разумеется.
Через полтора часа вернулся мой дядя. Он был совершенно подавлен.
– Ну как? – спросил я.
– Били…
– Рассказывай.
– Я сказал им, что ни слова не понимаю по-немецки. Тогда длинный немец обозвал меня ослом. Я возразил, что это не я осел, а они. Меня стали бить. Били здорово. Канальи!
– Как тебя угораздило сказать такую глупость? – возмутился я.
– Так уж вышло, – признался он. – Конечно, глупо. Я прикинулся дураком. Скроил такую физиономию, будто не могу сосчитать до трех. Я подумал, что если они примут меня за полуидиота, мне ничего не сделают.
– Ну и что дальше? – спросил я.
– Они добивались, чтобы я назвал себя идиотом, били меня страшно. Тот длинный – настоящий зверь. Я сказал, что я не идиот, так как все идиоты смешные, а я совсем не смешной.
Мы рассмеялись. Он и в самом деле скорчил такую мину, что невозможно было удержаться от смеха.
– Так ты ни в чем и не признался? – спросил я.
Он глупо захихикал.
– Признался. После побоев мне задали «баню». Такую баню… Они сказали, что все знают, и если я не признаюсь, то меня ежедневно будут водить в баню. Им известно, когда летчики поселились у меня и когда уехали. Они знают все,
– И ты сказал им, куда я их переправил?
– Да.
Я замолчал. Он попался в ловушку. Они убедили его, что им все известно, и он поверил. Остальные почти не слушали нас. Я не мог упрекать их – у каждого свои заботы. Если человек после двадцатишестилетних раздумий о том, как он попал в тюрьму и концлагерь, прочтет эту книгу, то найдет в ней ответ. Я никогда не затрагивал этого вопроса. Но теперь, спустя четверть века, нет необходимости умалчивать об этом. Дело не в предательстве. Дело просто в неосторожности. Я тоже совершил ошибку: я не имел права сообщать дяде, куда увожу американцев. Но он так беспокоился за них! Ведь он выхаживал их, больных и слабых, несколько недель и хотел быть твердо уверенным, что их укроют в надежном месте.
После дяди увели Каликста. Через час вернулся и он. Его обвинили лишь в доставке оружия. Ему зачитали показания Луи Мертенса. Он спросил, расстреляют ли его.
– Да нет. Вы глупые мальчишки, вас только интернируют.
Каликст признал свою вину и подписал протокол.
Затем наступила очередь Жака Петерса. Вернувшись, он ничего не стал рассказывать. Он не участвовал в наших делах и решил вести на допросе свою собственную игру. Нам сказал лишь одну фразу:
– Меня выдала медсестра.
(Жак Петере сообщил об этом домой. В его письме каждое предложение начиналось с заглавной буквы, из которых составилась фраза: «Меня выдала медсестра».)
Темнело. Меня все еще не вызывали. Нам принесли по миске вонючего супа, но ни один не притронулся к еде. Мы не трогали и продуктов, захваченных из дома.
Нары уступили Жаку Петерсу – он был старше всех. Остальные улеглись на соломенных тюфяках. Никто не раздевался. Мне думается, ни один из нас не уснул в ту ночь.
Так началось одичание.
Жак Петере первым воспользовался парашей.
Авеню Бельгиелей, Антверпен. Роскошный особняк. Здесь размещалась тайная военная полиция.
На следующее утро наступил мой черед ехать на допрос. Меня вывели из камеры в сопровождении двух солдат вермахта и провели к машине. Мне указали место в фольксвагене – сзади. Рядом сел вооруженный солдат. Второй вел машину. Мы ехали по городу. Это был уже чужой мир. Я смотрел на трамвай, на редкие такси, на кинотеатры, на пешеходов на тротуарах. Тысячи пешеходов, торопившихся домой. Люди, которые вечером могут выпить пива, сходить в кино, тайком послушать Лондонское радио.
Перед входом в здание тайной полиции стояли два часовых – парни из пресловутой Черной бригады 22
Черная бригада – бельгийские фашисты, носившие черную форму.
[Закрыть]. Машина нырнула в ворота. Два солдата провели меня в подъезд. Мраморный пол. Широкая лестница с толстой дорожкой.
На втором этаже один из конвоиров постучал в дверь.
Я глубоко вздохнул.
– Входите!
Солдат отворил дверь, второй подтолкнул меня в спину. И вот я в комнате.
Там был Габардин. Унтер-офицер в очках сидел за пишущей машинкой.
За массивным письменным столом восседал мрачный грузный военный с многочисленными знаками различия. Я всегда плохо разбирался в чинах немецкой армии и не понял, кто он: лейтенант или капитан. А может быть, еще выше. Странно, что в тот момент я думал о таких вещах… Настал мой час! Меня ждет допрос. Побои… Я остановился перед столом. Толстяк продолжал сидеть, роясь в бумагах. Нарочно, чтобы вывести меня из равновесия. Я понимал это и все же нервничал. Наконец он поднял голову. В правой руке у него был гибкий хлыст, которым он ритмично постукивал по столу. Я старался выглядеть спокойным. Не знаю, удалось ли мне это. Он продолжал наблюдать.
Я ожидал, что он начнет орать. Немцы всегда орут. Но у этого был тихий голос, который почему-то раздражал меня.
– Итак,– начал он,– вот и АМ1.
Я не испугался, так как уже знал, что им известен мой номер. Я молча ждал.
– Я майор Бос,– представился немец. – Бо-о-с, а не Бош. До войны служил инспектором уголовной полиции. Не пытайся водить меня за нос, я вижу тебя насквозь. А если вздумаешь врать…
Стало тихо. Замысел Боса был ясен: он рассчитывал на то, что тишина испугает меня. Так или иначе, но она и в самом деле наводила страх. Рядом с ним я был неопытным двадцатидвухлетним юнцом. Я думал о том, как ему удалось провести моего дядю.
Бос, улыбаясь, показал мне свой хлыст:
– Взгляни-ка, молодой человек. Знаешь, что это?
Он внимательно следил за мной. Я ответил как можно простодушнее:
– Нет, господин офицер.
– Это бамбук,– произнес он довольным тоном и с ухмылкой посмотрел на меня. – Так. Теперь можно начинать.
Он медленно встал. Снова игра. Когда он сидел, то казался просто грузным, но когда встал из-за стола, то оказался огромным детиной двухметрового роста. Руки как лопаты. Бос подошел ко мне, схватил за лацкан пиджака, приподнял и встряхнул.
– Знаешь, почему ты здесь? Я кивнул, и он отпустил меня.
– Мне уже рассказали,– ответил я.
– Учти: я все знаю. Мне известно о тебе все. Чтобы дать мне немного подумать, он опять стал копаться в бумагах на своем столе.
– Твоя оперетта имела большой успех, не так ли? – спросил Габардин.
Я взглянул на него. Он показал мне билет и программу. Значит, он был на спектакле.
– Сегодня опять пойду, – сказал он.
Он показал билет. На пятницу 10 марта 1944 года. Я старался скрыть свою радость. Значит, спектакли продолжаются. Главную роль в моей оперетте исполнял Каликст, и я не мог понять, кто же его заменил. Все расходы по спектаклю, очевидно, взяли на себя мои родители. Если представления сорвутся, то они понесут большие убытки. Черт возьми, какая чепуха лезет в голову… Ведь мне предстоит допрос.
– Я хочу знать все о членах твоей организации, – резко начал Бос. – Мелкая сошка меня не интересует. Руководители бригады и групп – вот кто мне нужен. Младших я знаю. Они меня не интересуют. Геверс, Ванарвеген и все остальные идиоты меня не интересуют.
Я молчал, выжидая. Геверс – мой заместитель. Ванарвеген – командир бригады. Я так никогда и не узнал, откуда Бос узнал их фамилии. Но в нашем городке было столько Геверсов и Ванарвегенов, что я решил лучше ждать и молчать.
– В твоей организации шестьсот пятьдесят членов,– сказал Бос. – Они меня не интересуют. Мне нужны командиры бригад и групп.
Он давил меня фактами: фамилии, точные цифры. В нашей бригаде действительно должно быть 650 человек. Фактически их было меньше, так как группы еще не были полностью укомплектованы. Я старался вспомнить, кто из арестованных знал о численном составе бригады и групп. Несколько человек.
– У меня нет людей,– ответил я.
Меня не проведешь. Я знал, что ему нужны все. От меня он хотел узнать фамилии командиров бригад и групп, а от них – фамилии подчиненных.
– У меня нет людей. Слишком большой риск заниматься вербовкой,– повторил я.
– Я все знаю о тебе,– скороговоркой повторил он.– Шеф вашей провинции уже месяц здесь. Он все рассказал. Языки быстро развязываются, когда приходится спасать собственную шкуру.
Но я понял, что шеф провинции молчал. Иначе Бос узнал бы значительно больше того, что сказал мне.
– У меня нет людей,– упорствовал я.– У меня было задание вербовать людей, но я его не выполнил. Мы все уже в ваших руках, других нет.
– Об этом поговорим потом,– сказал Бос. – Никакие увертки тебе не помогут. Здесь как на исповеди. Солжешь или забудешь что-нибудь – попадешь в ад. Разве твой ненормальный дядюшка не рассказал тебе о баньке, которую мы ему задали?
Я не ответил. Габардин жевал яблоко. Очкарик за пишущей машинкой, кусая ногти, ждал.
Бос начал зачитывать показания Луи Мертенса, дяди, Каликста Миссоттена. Он читал медленно и отчетливо. Видимо, он привык иметь дело с людьми, слабо знающими немецкий. Я подумал, что мне тоже лучше сделать вид, будто я не все понимаю. На самом же деле я говорил по-немецки совершенно свободно. Когда я был маленьким, мой отец несколько лет служил в жандармерии немецкой области, отошедшей к Бельгии после первой мировой войны, так что в детстве я учился немецкому и в школе и на улице.
Зачитав показания, Бос сделал небольшую паузу. Он смотрел на меня, постукивая бамбуковым хлыстом по руке. Он как бы изучал меня, обдумывая, какой «способ воздействия» применить ко мне: суровый или мягкий. Я ждал с нарочито глуповатым видом.
– Итак, болван, ты собираешься отвечать?
Я пожал плечами:
– Чего вы ждете от меня, если вам и так уже все сказали?
– Они-то сказали все,– подтвердил он.– Но ты нет. Ты знаешь значительно больше. Это наша первая встреча. Завтра, послезавтра или чуть позже я снова вызову тебя. И тогда ты сообщишь мне все подробности. Где ты должен был встречать этих воздушных бандитов? Куда отправлял их? Назови фамилии командиров бригады и групп. Надеюсь, что ты не вынудишь меня прибегнуть к крайним мерам. Я не сторонник таких вещей. В мирное время я был полицейским. И теперь остаюсь полицейским, только полицейским военного времени. Я стараюсь действовать старыми методами, если нет необходимости применять новые.
Он сам диктовал «мои» показания на основании уже полученных ранее. Унтер-офицер печатал неуклюжими пальцами, шевеля губами. Габардин продолжал не спеша грызть яблоко. Бос дал мне подписать протокол допроса и отправил обратно в тюрьму.
Я подумал, что все обошлось как нельзя лучше.
Когда меня доставили в камеру, там уже никого не было. Несколько часов я просидел один. Я радовался, что наконец остался в одиночестве. Нужно было все обдумать. Много ли знает Бос? Что нужно сделать, чтобы избежать новых арестов?
За мной пришли, велели взять еду и белье – меня переводили в камеру пятого отделения. В любом рассказе о тюремной жизни можно прочесть, что шаги в тюрьме звучат глухо, а двери скрипят. Да, шаги звучат глухо. И двери действительно скрипят. Этот скрежет дверных петель надрывает душу.
В камере уже сидели четыре человека. Говорят, что у заключенных лица серого цвета. Да, они и в самом деле были серого цвета.
В камере воздух был спертый и ужасно пахло. Потом, человеческими испражнениями. И страхом. А еще голодом. Узники выглядели изможденными и неряшливыми. В их глазах застыла безысходность. Все четверо были старше меня: лет сорока – пятидесяти. Они смотрели на меня, я – на них.
Один из них в форме капитана жандармерии сказал:
– Моя фамилия Липпефелд.
– Людо ван Экхаут,– представился я.
– Откуда ты?
– Из Мола.
– Это там, где песчаные карьеры?
– Да.
– За что тебя? – спросил грубоватый мужчина с усами. У него был лимбургский акцент.
– Ни за что,– ответил я. Судя по романам, в тюрьме среди заключенных обязательно должен сидеть шпик…– Не знаю, почему я оказался здесь. Наверное, взяли по ошибке.
Им это показалось забавным. Они засмеялись. Хотя смех этот был невеселый, но все же они смеялись. У некоторых даже слезы выступили.
– Никто сначала не знает, за что его посадили. Но после нескольких допросов кое-что проясняется.
– И за что же вы попали? – спросил я. Они переглянулись.
Лимбуржец сказал:
– Они арестовали моего сына. Он заболел, и его отправили в больницу. В бельгийскую больницу. Они все боялись, что он убежит по дороге, но он исчез из больницы. И теперь меня обвиняют в том, что я его оттуда вывез.
– Ты?
– Конечно же, нет. Я и понятия не имею, где он.
Франеке – цветочник из Мортселя – сказал:
– Мне никто не верит, но я действительно не знаю, почему я здесь.
– Зови меня просто Наполеоном,– представился маленький насмешливый мужчина. – Меня в наших краях все так звали. Я тоже не знаю, за что попал сюда.
– Меня арестовали прямо на службе, – рассказывал Липпефелд. – Даже не представляю, в чем причина. Здесь я ввел военные порядки. Считаю эту камеру как бы армейским карцером, где все должны выполнять определенные обязанности. С завтрашнего утра включишься и ты.
– Какой великолепный кусок мяса! – воскликнул лимбуржец.
– Нужно молиться, – назидательно сказал Франеке.
– Молиться? – возмутился я. – Зачем это?
Я получил среднее образование в католическом коллеже, где меня навсегда сделали атеистом и антиклерикалом.
– Чертовски хороший кусок мяса! – не унимался лимбуржец.
– Оставь его в покое, – взорвался Наполеон. – Нечего зариться на чужое. Через пару дней он подохнет с голоду. Ведь сопляк еще.
Я и не предполагал, что этот кусок мяса привлечет такое внимание. У меня было такое чувство, что мне больше никогда не захочется есть.
– Хотите попробовать? – спросил я.
– Еще бы! – воскликнул лимбуржец.
Он вытащил нож из треугольного шкафчика и разрезал кусок копченого мяса на пять частей. Остальные внимательно следили, ровно ли он режет.
Франеке встал в угол и отвернулся к стене.
– Кому? – спросил лимбуржец, взяв первый кусок.
– Наполеону.
– А этот?
– Мне.
– А этот?
– Новенькому.
Мясо разделили. Я положил свою долю в тумбочку. Остальные стали жадно есть.
– Ты неправ,– поучал жующий Франеке. – Здесь нужно утешение. И смирение. А их тебе может дать только бог.
– Ешь и не болтай! – рассердился я. – А то ненароком подавишься.
Первым справился с мясом лимбуржец.
– Какой чудесный хлеб! – сказал он.
– Моя мама нечет его сама,– ответил я.
– Сразу видно. Ни в какое сравнение не идет с пресным пайковым хлебом.
Мою буханку тоже разделили на пять частей. Свою долю они умяли сразу, моя осталась в тумбочке.
– Послезавтра и у тебя заурчит в животе, – предсказывал Наполеон.
– Почему тебя прозвали Наполеоном? – поинтересовался я.
Он засмеялся:
– Это еще с той войны. Я поспорил на бутылку джина, что встану на бруствере окопа в позе Наполеона. И получил пулю в ногу. Видишь, остался шрам. Но бутылку джина выиграл.
В полдень принесли суп. Я не стал есть, и Мою порцию разделили на всех. Переливали по ложке в каждую миску, осторожно, почти торжественно. Они вызывали у меня жалость. И презрение. Мне казалось, что, попав в руки врага, человек прежде всего должен думать о сохранении своего достоинства. Было неприятно видеть патриотов, споривших из-за того, что одна ложка супа казалась чуть-чуть полнее другой.
Я решил, что никогда не уподоблюсь им.
На следующий день я съел свою порцию хлеба и сахара – 225 граммов хлеба и четыре куска сахара. Церемония раздела началась сразу. Франеке встал в угол, а лимбуржец взял хлеб.
– Кому?
– Липпефелду. Потом делили сахар.
Скандал разразился из-за того, что Франеке досталось больше всех хлеба и самые крупные куски сахара.
– Ты подсмотрел, каналья. Вчера тебе тоже достался самый большой кусок.
Буханки, весившие по 450 граммов, разрезали на две части очень небрежно. Похоже, что их специально делили неровно, чтобы перессорить заключенных.
Эти ссоры возмущали меня. Пребывание в тюрьме я представлял себе совсем иначе: возвышенные беседы о свободе, о новой демократии. Непременно возвышенные. Но трудно думать о возвышенном, когда голоден.
Кажется, я нашел способ прекратить перебранку из-за хлеба. Я внес предложение:
– Почему вы решили делить вслепую? Давайте лучше установим порядок – от старшего к младшему. Каждый выбирает сам себе порцию. Сначала старший, за ним остальные. На следующий день мы перемещаемся на одно место и таким образом все попеременно будем то первыми, то вторыми, то третьими. А с сахаром поступим наоборот. Тот, кому достанется самый маленький кусок хлеба, получит самые крупные куски сахара.
– Сопляк прав,– сказал лимбуржец, и предложение приняли.
Но и такой порядок ни к чему хорошему не привел. Первый в очереди невероятно долго копался: брал два куска хлеба, сравнивал их, клал один и брал другой, а потом снова хватал первый. И, сделав наконец выбор, расстраивался из-за того, что отложенный кусок казался ему больше. И сахар выбирали не быстрее.
Возобновились шумные и противные скандалы: «Убери свои лапы!» – «Не лапай хлеб!» – «И где тебя только воспитывали, черт побери!»
Четырнадцать дней подряд они делили мой суп в обед и вечером. С каждым днем их порция понемногу уменьшалась: я съедал все больше и больше сам. А когда я впервые съел весь суп, только Наполеон одобрительно похлопал меня по плечу, остальные были разочарованы – словно они уже обрели право на мою порцию.
Меня уже два раза вызывали на допрос.
– Твой отец – крайне грубый человек,– заявил Габардин на другой день после второго представления моей оперетты.
Я молча смотрел на него. Мне казалось, что лучше молчать до тех пор, пока не начнут задавать вопросы.
– Я вчера был на спектакле. Твой старик сидел за кассой. Он отказался продавать билеты нашим солдатам, заявив, что этот спектакль только для гражданских. Не очень разумно с его стороны.
– Старика мы, наверное, тоже возьмем,– сказал Бос.
– Отец ни в чем не виноват,– сказал я угрюмо.– Мой отец совершенно не в курсе наших дел. Если бы узнал, то надрал бы мне уши.
– Я был в гражданском,– продолжал Габардин.– Малыш в роли Миссоттена великолепен. Но петь он не умеет.
– Старика мы, наверное, тоже возьмем,– повторил Бос.
Унтер-офицер за машинкой изнывал от скуки.
Еще до моего ареста один из членов нашей организации сказал, что в случае провала я должен все свалить на него. Он уверял, что узнав о провале, он немедленно скроется. Его звали Эдгар Мол. Он был директором фирмы, которая занималась продажей белого песка. Эдгар утверждал, что у него есть абсолютно надежный адрес за границей и все необходимые документы, чтобы уехать без осложнений.
В нашем городке Эдгар слыл чудаком, но во время войны показал себя смелым человеком. Я подолгу разговаривал с ним. У него была железная логика. В 1941 году он сказал мне, что англичане – об американцах тогда еще не было речи – непременно высадятся в Нормандии, если вторжение когда-либо осуществится. Однажды ему удалось вывести из многолюдного кафе английского летчика да так, что ни один из свидетелей и пикнуть не посмел.
Я разговаривал с ним и о возможном аресте, и о допросах, хотя никогда всерьез не думал, что меня могут арестовать. Молодость всегда беззаботна.
Он учил меня, как вести себя на допросах. Эдгар считал: главное – лгать что угодно, но только не молчать. Каждого можно довести до такого состояния, что он заговорит. Ведь эти молодчики не церемонятся. Лучше говорить самому, пока тебя не взяли в оборот. Когда тебя доведут до точки, можешь и проговориться. Надо выдумать легенду. Не обязательно хорошую, но, во всяком случае, убедительную. И надо успеть рассказать ее до конца, пока тебя не изобьют до беспамятства.
– У тебя будет легенда суперкласс, если ты всю вину свалишь на меня,– внушал он мне.
Разумеется, уже на первом допросе я вспомнил советы Эдгара Мола. Но я не решался воспользоваться его предложением, хотя он не раз повторял мне, что говорит все это вполне серьезно. Одно дело – теория, другое – практика. Если Эдгар Мол не скрылся, узнав о моем аресте, и выжидает, то окажется, что я выдал одного из лучших своих друзей.
На первых допросах Бос вел себя дружелюбно. Часто оставлял меня наедине с Габардином, который разговаривал со мной таким отеческим тоном, что мне хотелось плюнуть ему в физиономию. «Мы желаем тебе только добра, парень». Он произносил слово «парень» так, будто обращался к родному сыну. «Ты был слишком молод, чтобы понять серьезность своих поступков и предвидеть последствия. Но по молодости или нет, ты сделал то, что сделал, и теперь должен искупить свою вину. Ты должен помочь нам, чтобы мы могли помочь тебе. Если расскажешь все, мы сможем интернировать тебя и закрыть твое дело, не передавая его в трибунал. А с трибуналом шутки плохи. Там не посмотрят на твой возраст. Они скажут: за то, что сделал этот парень, по статье такой-то полагается смертный приговор».
– Мне очень хотелось бы вам что-то рассказать, но я ничего не знаю. Вам так хорошо все известно, что мне уже нечего добавить,– с готовностью сказал я.
Надменный Бос иной раз тоже пытался прикинуться добреньким.
– И чего вы, недоросли, занялись такими глупостями?
Я злился. Он прекрасно понимает, что в моих глазах то, что мы делали, вовсе не глупости.
– Я бельгиец, а вы немец,– ответил я. Бос не возразил. Думаю, что мой ответ понравился ему.
В другой раз – не помню уже, чем он тогда вывел меня из равновесия,– я сказал:
– Мне кажется, что вы больше уважаете нас, чем тех шутов, которые стоят на часах у входа.
И на сей раз он тоже ничего не ответил. Наверное, и эти мои слова понравились ему.
На первых порах мне не приходилось на него жаловаться: Бос задавал конкретные вопросы, я давал уклончивые ответы. Он и на самом деле вел себя, как обыкновенный полицейский, которых так карикатурно изображают в фильмах. Постепенно я стал думать, что он из тех собак, которые не кусают.
Однако он ждал своего часа. Рассчитывал на эффект перехода от мягкости к жестокости. Но он просчитался – он выжидал слишком долго. И когда я встретился с настоящим майором Босом, я уже точно знал, что Эдгар Мол скрылся.
Это произошло так:
Солдат, доставивший меня к кабинету Боса, испуганно остановился перед дверью, услышав крик майора. Я по-прежнему делал вид, что не понимаю немецкого. За дверью слышался голос Габардина, извиняющийся и льстивый. Чем больше он извинялся и раболепствовал, тем громче кричал Бос, обвинявший Габардина в исчезновении проклятого Эдгара Мола, ареста которого он так долго ждал. Он спрашивал, что собирается делать этот «набитый дурак», чтобы найти Эдгара Мола. Габардин промямлил, что не знает, как быть.
Я, разумеется, внимательно слушал. Однако не принимал все это на веру. А вдруг они разыгрывают комедию специально для меня? Но когда наконец отворилась дверь и появился багровый Габардин, я сразу понял, что это была не комедия – он получил настоящий нагоняй.
Заметив нас. Бос заорал еще громче. Теперь он набросился на солдата за то, что тот стоял со мной у двери. Он был вне себя от ярости. Таким я его еще никогда не видел. Солдат совершенно растерялся, пытался оправдаться: «Я не знал… Простите, господин майор». Но Бос продолжал орать, брызгая слюной, и отчаянно ругаться. Наконец он приказал солдату убираться вон, а я получил свою первую порцию ударов. Бос бил меня не бамбуковым хлыстом, а своими огромными ручищами. Он хлестал меня по лицу, пока я шел через его кабинет. Затем он захлопнул дверь и опять принялся избивать меня. Беспощадно. Злобно. Я расставил ноги, чтобы не упасть. Тогда мне казалось, что самое главное – устоять. Позже я узнал, что надо было сразу падать. Иногда мучителя успокаивает сознание собственной силы, хотя случалось, что упавшего поднимали и продолжали бить. Итак, я стоял, расставив ноги и раскачиваясь взад и вперед от его ударов. В ушах гудело, щеки горели.
– Мое терпение лопнуло, мерзавец! С этого дня ты заговоришь. Зря только я терял с тобой время. Думаешь, ты очень хитер? Да я вижу тебя насквозь, террорист проклятый. Не будешь говорить, отправлю в военный трибунал, а там тебе не миновать смертного приговора. Я уже повидал немало таких храбрецов – перед карательным взводом они хныкали и просили о пощаде. Приходилось привязывать их к столбу, потому что у них подгибались колени.
Он сел, взял свой бамбуковый хлыст и принялся постукивать им по руке. Унтер-офицер за машинкой сидел не шелохнувшись.
Вернулся Габардин. Лицо его все еще пылало.
– Твой отец – наглый негодяй,– сказал он.– Во время второго представления твоей оперетты…
– Ты уже рассказывал ему об этом,– разозлился Бос.– Пора брать старика.
Я не хотел снова выводить его из себя.
– Сейчас я сообщил ему, что его ждет смертный приговор,– сказал Бос.– Специально приду взглянуть, как его будут расстреливать. Завтра рано утром буду возвращаться от своей красотки и заверну посмотреть этот спектакль.
– Нет,– возразил Габардин, вступая в игру.– Этого не будет. Глупый парень в конце концов образумится.
Его вкрадчивый голос возмутил меня. На моих щеках все еще горели пощечины Боса.
– Я не боюсь карательного взвода,– сказал я и посмотрел Босу прямо в глаза.
Он в бешенстве вскочил.
– Карательный взвод? Никакого карательного взвода не будет. Я уж позабочусь об этом. Террористов у нас вешают. Они висят в петле с высунутым языком и с мокрыми штанами.
Мне стало страшно.
Ночью, просыпаясь от страха, я прислушивался к чужому хриплому дыханию в тишине. Ужас одиночества… Я старался отогнать грустные воспоминания о прошлом и подготовить себя к расстрелу. Каждый из нас не раз видел расстрел в фильмах. Темные брюки, чистая белая рубашка. Глаза идеалиста. Я знал, как должен себя вести. Не закрывать глаза. Отказаться от темной повязки. Воскликнуть: «Да здравствует Бельгия!» Но к виселице не подготовишься. В фильмах героев не вешают. Пуля делает тебя героем. Виселица – обыкновенным трупом, болтающимся на веревке.
– Ну а теперь отвечай, откуда ты знаешь Роберта Мастерса. И не вздумай на сей раз водить меня за нос. Мне надоело твое вранье.
– Я встретил его, когда он бродил по лесу,– ответил я.
– Ты ездил за ним. Брал для него велосипед и удочки. Он был переодет в гражданское. Ты куда-то заезжал за ним.
– Я встретил его в лесу, спрятал в кустах, потом достал гражданскую одежду и привез домой. Его форму мы закопали.
– Придется сводить его в баньку,– сказал Бос.
Тогда я еще стеснялся раздеваться в присутствии посторонних… Бос снова ударил меня. Габардин стоял рядом и смотрел на меня с деланным сочувствием, прямо-таки с отеческой теплотой. От него несло винным перегаром. Видимо, он пытался залить вином горечь неудачи.
Меня подвели к лежачей ванне, белой, эмалированной. С душем. Приказали сесть в эту ванну, наполненную ледяной водой. Потом повернули кран душа. Полилась ледяная вода. Сверху били беспощадные струи. В голову вонзались ледяные иглы. Перехватывало дыхание. Я ничего не видел и не слышал. Я словно слился с водяными струями. Когда Бос злобно ударил меня хлыстом по лицу, мне показалось, что эта боль не от удара, а от холода.
Прошли часы или минуты – я не знаю. Наконец душ прекратился. В голове стучало, уши горели.
– К кому ты заезжал за Робертом Мастерсом, черт тебя побери?!
– Я встретил… его…– с трудом прошептал я. Еще немного продержаться. Сказать, но не сразу, иначе не поверят.
Снова душ. Холод и боль. Холод – боль. Боль – холод. Череп разламывается от холода. Холод душит. Я широко открываю рот, чтобы глотнуть хоть немного воздуха. Но воздуха нет. Где же предел? Нельзя ошибиться.
Пять раз повторялся душ. Я мог выдержать еще два, возможно три. Но и пяти раз было вполне достаточно. Я решил, что теперь пришло время показать, что им удалось меня сломить.
– К кому ты заезжал за Робертом Мастерсом?
– К Эдгару Молу,– ответил я.– Он прятал его в уборной в песчаном карьере.
Бос удовлетворенно кивнул.
– Вот видишь. Если мы захотим, непременно добьемся признания.
Он и не предполагал, что проиграл.
Да, по ночам я просыпался. Я заставлял себя не прислушиваться к чужому дыханию и тишине. Эта тишина пробуждала мысли об одиночестве и жалость к самому себе. А жалость делает человека слабым. Я гнал от себя воспоминания о доме. О сказочных вечерах с девушкой в лесу у озера. Об удачном улове и о победе в спортивных соревнованиях уличных команд. Я думал о смерти… Тяжело думать о смерти в двадцать два года. Но я был вынужден думать о ней. Я не мог об этом не думать. Ежедневно к нам в камеру приносили эти проклятые газеты. «Народ и государство» – орган предателей из Фламандского национального союза. «Брюссельс цайтунг» – немецкая брюссельская газета. И почти в каждом номере были сообщения на первой странице в рамке: «Террорист приговорен к смерти». И фамилия. Обвинение в хранении оружия или в помощи вражеским летчикам. А в конце: «Приговор приведен в исполнение».
Днем я не обращал внимания на эти сообщения. Днем я ничего не боялся. Я даже бравировал. Днем в смерть не веришь. И потом рядом был Франеке со своими проповедями самоутешения, Наполеон с его глупыми шутками и нервный лимбуржец. Я говорил: «Буду петь «Брабанконну» 33
«Брабанконна» – бельгийский национальный гимн.
[Закрыть], когда они начнут целиться в меня».
И все-таки днем я не верил в то, что меня ждет смерть.
Ночами – да, бессонными ночами приходила смерть. Собственной персоной. Холодный пот и дрожь, непередаваемый страх, и где-то в глубине души страстная мольба: о господи, дай мне силы. Пусть меня душит страх, но внешне я должен казаться сильным. Я хватался за слова: любовь к родине, свобода для тех, кто придет после нас…
Непонятно откуда, но мы точно знали, что происходит обычно в камере смертников. Вечером накануне казни приказывают сдать ремень или подтяжки, шнурки от ботинок – тоже. Всю ночь не гасят свет, чтобы приговоренный к смерти до утра не сомкнул глаз. Исключалась любая попытка самоубийства.
Возможно, днем смертники в этой камере тоже не верили, что их ждет конец. А ночью? Какой была их последняя ночь?
Часто мы слышали стук сапог. Он раздавался рано утром, когда на дворе было еще темно и холодно. В такие часы почему-то всегда дрожишь от холода. А может, этот холод в нас самих? Мы слышали стук сапог, напоминавший барабанную дробь из фильма о Марии-Антуанетте. Мы знали, что этот стук сапог провожает кого-то на смерть.
И я представлял себе, как все это будет. Вечером предупредят, что на следующее утро – моя очередь.
Как поступят остальные? Их пока еще не трогают, они еще надеются. Наверное, постараются скрыть свой страх.
– Выше голову, Людо.
– Дорогой Людо, мы еще сыграем в картишки в аду.
– Не успеешь и глазом моргнуть, как все кончится. Это гораздо быстрее, чем уломать девушку.
Найдется и такой, кто скажет:
– Они ответят за это, Людо! Рано или поздно эти сволочи получат сполна.
А что скажешь ты сам? Скорее всего, промолчишь. Улыбнешься и попытаешься довести до конца свою роль.








