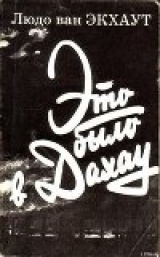
Текст книги "Это было в Дахау"
Автор книги: Людо ван Экхаут
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Глядя на этих узников, мы как бы смотрелись в зеркало. Мы уже видели и самих себя в состоянии крайнего изнеможения. Открытые рты… Открытые невидящие глаза…
Нас привели к блоку № 17. Все блоки имели номера: четные слева, нечетные справа. Между блоками с четными номерами проходы просматривались насквозь. Мы видели внутренние дворы и за ними – колючую проволоку. Но проходы между блоками справа были загорожены грубыми заборами и завешены мешковиной.
Первое знакомство с лагерем показалось мне, узнику, еле передвигавшему ноги, целенаправленной шоковой терапией. Человека сразу же превращали в животное, заменяли фамилию на номер, лишали надежды и доводили до отчаяния. Я считал, что немцам эта шоковая терапия в какой-то степени удалась.
Но самый страшный удар ждал нас во дворе блока № 17. Эсэсовцы остались на улице, а мы с этой минуты становились узниками карантинного блока. Блоки в Дахау были рассчитаны на 400 узников, но в тифозные, или карантинные, блоки загоняли до двух тысяч.
Карантинные, «тифозные» или «закрытые», блоки, как их называли заключенные, находились на нечетной стороне. Первоначально все новички поступали в один блок. Но в хаосе 1944-1945 годов, когда германский рейх быстро шел к гибели, лагерь уже не справлялся с потоком заключенных, и все нечетные блоки стали служить карантинными блоками. Позднее они получили название тифозных из-за вспыхнувшей страшной эпидемии тифа.
Узники блока ни о чем нас не спрашивали и вообще не проявили к нам ни малейшего интереса. У всех были худые, изможденные лица, безучастные глаза, бескровные губы.
Я подумал, что никогда не буду похожим на них.
– Таким я никогда не стану – сказал я Жаку ван Баелу.
Он посмотрел на меня и покачал головой:
– Да мы и сейчас уже почти такие же.
Нас расселили по четырем боксам. Я попал отдельно от Жака ван Баела. Наверное, потому, что в строю мы стояли плечом к плечу, нас нарочно разъединили. Огорчаться по этому поводу не приходилось. Пока кого-то выталкивали из строя, другой уже заступал на место ушедшего. У тебя сразу же появлялся новый друг, а если и его уводили, то ты забывал его и старался вцепиться в следующего. Вместе с нами в барак загнали и старых заключенных. В жилом боксе топилась большая кирпичная печь и было тепло. Вдоль стен стояли скамьи, посредине – длинный стол и табуреты. Но оказывается, нас вели не сюда, а в спальню, где ужасно воняло и было холодно. Воспользовавшись тем, что прибыли новички, старожилы заняли лучшие спальные места. Странно было видеть, как они, тяжело дыша, взбираются на верхние нары. Я хотел было лечь внизу, но один из заключенных схватил меня за руку. Он смотрел на букву «Б» на моем красном треугольнике.
– Фламандец или валлон? – спросил он.
– Бельгиец,– раздраженно ответил я.
– Не злись,– сказал он.– Я тебе добра желаю.
И я безропотно полез за ним – в его близоруких глазах чувствовалась какая-то сила.
Я назвался ему, и он сказал, как его фамилия. Я не запомнил ее, но этот человек – он оказался врачом – сыграл важную роль в моей жизни в Дахау, поэтому в своем рассказе я буду называть его Другом. Он действительно был моим другом. Если он когда-нибудь прочтет эту книгу, то без труда узнает себя. Многое стерла проклятая война из памяти, но есть вещи, которые не забудутся никогда. Может быть, он не считает, что сделал для меня что-то важное. Я же думаю, что он спас мне жизнь.
– У тебя плохое зрение,– сразу заметил ДРУГ
– Неважное,– признался я.– У тебя тоже.
– У меня были очки,– сказал он.– Минус пять. Я сам растоптал их, когда нас переводили сюда из Бухенвальда.
– Рас-топ-тал?
– Да,– подтвердил он. – Побудешь здесь и многое поймешь. Эсэсовцы, например, не терпят «очкариков». Если ты в очках, тебя сразу посчитают интеллигентом, а к интеллигентам у них особое отношение. В Польше они в первую очередь расправились с интеллигенцией. Они называют нас очковыми змеями. Я предпочел, чтобы меня считали обычным заключенным. Интеллигентов, художников эсэсовцы мучают вдвойне. Они понимают, что уступают нам в образовании и культуре, и поэтому стараются на нас выместить свою злобу. Чем ты занимался до войны, какая у тебя профессия?
– Собственно, еще ничем. Учился до сорок второго, потом бросил, чтобы… Я замолчал, потому что пока еще опасался его. Он понимающе улыбнулся.
– Чтобы участвовать в Сопротивлении, – сказал он. – Здесь нечего опасаться шпиков. Их нет в тифозных бараках. Вот в свободных блоках – дело другое. Там можно заработать пачку сигарет или буханку хлеба, выдав саботажника или раскрыв план побега. Но здесь у людей нет сил даже думать о саботаже или побеге. Ты скоро сам убедишься, как нелегко здесь выжить. Лагерного персонала опасайся. Эти, чтобы сохранить свое место, готовы на все.
– Как здесь кормят? – поинтересовался я.
– Тебе не повезло. Вчера мы получили по двести пятьдесят граммов хлеба, а с сегодняшнего дня, говорят, будут выдавать только по двести. Наверное, так оно и есть. Хорошие слухи никогда не подтверждаются, плохие – всегда. Нас привезли сюда из Бухенвальда, там выдавали по триста граммов, и все вспоминают тот лагерь как рай – по сравнению с этим.
– А хлеб дают утром или вечером? – спросил я.
– Вечером,– ответил он.
– Очень хорошо. А то со вчерашнего утра мы ничего не ели.
– Сюда приходили эшелоны с пленными, у которых дней десять ни крошки во рту не было. Выжили единицы.
– Ты хорошо знаешь лагерь? Он кивнул.
– Я заболел тифом в карантине. Поправился и меня ненадолго перевели на ту сторону. Сюда я попал как штрафник. Но для меня большой беды в этом нет, я перенес тиф, а он не повторяется.
– У меня в детстве был брюшной тиф, – сказал я.
– Он не дает иммунитета. Здесь свирепствует сыпняк. Но не волнуйся раньше времени. Может, и не заболеешь…
– А есть ли какие-нибудь меры профилактики?
– Почти никаких. Заболеешь, как только у тебя появятся вши. Опасно также пить воду. Но вши страшнее всего. От них нет спасения. Они здесь есть у всех. Самое главное – воля к жизни. И пока эта воля сильна, тебе ничто не страшно. Если хочешь жить – будешь бороться, каким бы слабым ты ни был. Ты же еще молод!
– Двадцать два. В следующем месяце исполнится двадцать три.
– У тебя больше шансов, чем у меня. Чем моложе человек, тем больше у него шансов выжить. Нельзя сдаваться. Прекратишь борьбу – тогда конец.
– Я хочу бороться,– сказал я. – Но одна воля – не очень-то сильное оружие при двухстах граммах хлеба.
– Надо бороться с самим собой. С собственным малодушием. С тоской по дому. Нельзя думать о доме, надо думать о дне возвращения домой. Нельзя думать о войне, надо думать о победе. Надо верить в это, верить, что мы победим и вернемся домой. Только не думать о том, когда это будет. Нельзя намечать срок. Я знал некоторых, назначавших сроки. «На пасху мы будем дома», – говорили они. И когда прошла пасха, они умерли. Нужно бороться, чтобы остаться человеком. И тогда во всех товарищах ты всегда будешь видеть людей, а это трудно – сам скоро убедишься. Умирающие в последние дни доходят до ужасного состояния, и очень трудно заставить себя видеть в них людей. Но если ты не видишь в них людей, ты и сам перестаешь быть человеком. Очень трудно выразить все это словами. Но ты пройдешь эту школу. Держись ближе ко мне. Я научу тебя, каким должен быть узник Дахау.
– Почему ты выбрал именно меня?
– Из-за того, что ты бельгиец. Мне уже давно не доводилось говорить на родном языке.
– В нашей группе было несколько фламандцев и один голландец.
– Непременно найду их за ужином. Жуй медленно. Это очень важно. Не ешь весь хлеб сразу. Отламывай по маленькому кусочку и медленно пережевывай. Ничего не оставляй. Многие «организовывали», то есть крали, воду. Они размачивали в ней хлеб. Но скоро у них открывался понос, от которого они умирали. Главное правило – не бросаться в глаза и не жаловаться. Помни всегда, что эсэсовец не может быть гуманным. Эсэсовец может пошутить с тобой или показать фото жены и детей, может даже пустить слезу. Но через пару минут он даст тебе пинка под зад или отпустит двадцать пять палочных ударов. Даже в хорошем настроении они не перестают быть подлецами. Их шутки так же грубы, как и их лексикон. В блоке № 25 несколько человек однажды пожаловались эсэсовцу на еду. Он засмеялся и сказал, что на следующий день им принесут бутерброды. Они сидели в своем блоке и дрожали – думали, что их ждет коллективное наказание. Но на следующий день он действительно явился с бутербродами. Они были намазаны нечистотами.
– Не может быть,– сказал я.
– Может. И большая часть бутербродов была съедена. Впрочем, нам эсэсовцы пока не угрожают. Они не подойдут к тифозным блокам, пока не кончится эпидемия тифа. А я не представляю, как она может прекратиться, если в лагерь ежедневно прибывают битком набитые эшелоны.
– И многие умирают? – спросил я.
– Тебе надо посмотреть на покойников,– ответил он.– Это тоже очень важно. Надо не бояться смотреть на мертвецов. Если ты выживешь, это тебе пригодится. Тот, кто боится смотреть на покойников, сам умрет. А теперь давай спать, не то нас выгонят на улицу. У нас еще будет много времени для разговоров.
Одним из страшнейших зол в тифозных блоках действительно оказались паразиты. Тут были все их виды: и вши, и клопы, и блохи. Их были мириады, и они рьяно помогали эсэсовцам в их деле: уничтожать, как можно быстрее уничтожать человеческую нечисть в тифозных блоках, чтобы освободить место для новых изгоев из становившейся тесной Германии. По мере приближения Красной Армии на востоке и союзников на западе проводилась эвакуация лагерей.
Изредка нашу одежду дезинфицировали, а самих гнали в баню. Вещи сбрасывали в кучу, а нас, раздетых, гнали по снегу мыться. В бане повторялась операция бритья, потом мы мылись горячей водой и «обсушивались» на ветру. И каждый раз это стоило кому-нибудь из заключенных жизни. Умирали прямо на снегу или в бане. Но вши не погибали. Их было такое множество, что во время одной из дезинфекций капо с ревом пустился в бегство – он увидел, как зашевелилась груда одежды.
После бани мы надевали старую одежду. Выбирали что получше. Однажды я нашел куртку с двумя отворотами и брюки с поясом. Но когда я надел брюки, то оказалось, что они порваны сзади. В чужой одежде, да еще прошедшей дезинфекцию, мы выглядели безобразно.
Мне неизвестно, каким составом дезинфицировали вещи, но я точно знаю, что вши и блохи успешно выдерживали эту обработку. Единственным результатом дезинфекции являлось то, что приходилось натягивать на себя влажную одежду. К угрозе заболеть тифом добавлялась еще угроза подхватить воспаление легких.
У меня нет слов, чтобы передать чувства, которые испытывает человек, истерзанный насекомыми. Среди нас были разные люди: священники, адвокаты, офицеры. И всех изводили блохи и вши. Зуд был невыносимый. Все тело в укусах. Постоянное ощущение, что ты весь в грязи. И даже после бани оставалось такое чувство, что ты такой же грязный, как и до мытья. Испытывая мучительный зуд, мы постоянно чесались, и от этого на теле появлялись ранки и царапины – нечто вроде парши. Когда я вернулся домой, на моем теле не нашлось сантиметра чистой кожи: я весь был в укусах, тифозной сыпи и расчесах.
Не было средства против вшей, но старосты блоков регулярно проводили проверку на вшивость. Затея эта была совершенно бесполезной, и единственная цель ее состояла в том, чтобы позабавить немцев и унизить нас. Каждый должен был явиться на осмотр раздетым, держа рубашку в вытянутой руке. Два «контролера» усердно просматривали рубашки под бдительным оком старосты блока, который рядом с собой клал дубинку. Он тщательно записывал против наших номеров в списке цифры, обозначающие количество обнаруженных паразитов… Этой цифре соответствовало количество ударов дубинкой, полагавшихся в наказание.
Первую процедуру контроля мне не забыть никогда. Я находился тогда в блоке всего дня три. Я видел, как скребутся и ищут в рубашках отощавшие люди. Я сам чесался без конца, так как меня облюбовали клопы. Раньше я ни за Что бы не поверил, что у меня могут оказаться паразиты. Я думаю, любой культурный человек считает себя застрахованным от этой пакости. При первой проверке я счел излишним просмотреть свою рубашку и со спокойной совестью встал в очередь. Но каков был мой ужас, когда староста бокса с победным видом поднес мне под нос белое насекомое.
– Вошь! – крикнул он.
Без крика в таких случаях не обходилось. Эсэсовцы без конца орали, и, если им отвечали недостаточно громко, в ход пускалась дубинка. И в тифозных блоках, где эсэсовцев не было, их приспешники действовали точно так же.
Поэтому, вытянув руки по швам, я громко и отчетливо выкрикнул:
– Это не вошь, господин староста бокса! Моя выправка, думается мне, понравилась ему, но ответ, видимо, пришелся не по вкусу. Он заорал, вскочил на ноги, повернул меня кругом и дал такого пинка под зад, что я пролетел мимо массивной кирпичной печки в другой угол комнаты. Он в бешенстве ринулся за мной.
– Так это не вошь? Я покажу тебе, что это такое! Навек запомнишь, что такое вошь.
Он прижал меня к стене и растер вошь на моем лице. Потом стал бить по щекам. Его лицо было совсем близко – слюна брызгала мне в лицо.
– Теперь знаешь, что такое вошь?
– Так точно, господин староста бокса! – крикнул я.
В нашем блоке находился бельгийский полковник по фамилии Беквефор. Высокий подтянутый аристократ, который держался замкнуто и общался только с офицером, которого у нас прозвали «командиром». Если «командир» вступал в разговор с кем-либо из заключенных, полковник тут же отходил в сторону, явно недовольный поведением «командира». Полковник Беквефор сохранял аристократизм даже в грязи тифозного блока и не опускался до того, чтобы искать вшей.
Он был уже немолод, мне казалось, что ему под шестьдесят. Когда он стоял в очереди с грязной рубашкой в руке, грязный, искусанный и исцарапанный, то держался очень прямо и пристально смотрел перед собой.
В одну из проверок контролеры сбились со счета, проверяя его рубашку. Староста бокса выругал их, схватил грязную рубашку и хлестнул ею Беквефора по лицу.
– Проклятый вонючий француз! Грязная свинья!
Полковник продолжал стоять неподвижно и молчал. Он не смотрел на старосту бокса, он по-прежнему смотрел прямо перед собой. Еще удар по лицу.
– Ты что, не можешь открыть свою пасть?
– Ye ne comprends pas l'Allemand,– сказал полковник.
– Что за тарабарщина! – заорал староста бокса.
– Он говорит, что не понимает немецкого, – услужливо пояснил контролер.
– Ах, вот оно что! Не понимает немецкого, дрянь? Сейчас я научу его немецкому.
Староста бокса схватил полковника за шиворот и, осыпая бранью, поволок к Двери. На улице уже лежал снег, было холодно. Староста поднял всех на ноги. Кто-то притащил скамейку, на которую поставили полковника. Собирались медленно, и староста побежал по боксу, размахивая дубинкой.
– Всем на улицу!
Не помню, сколько времени стоял на скамье полковник. Может быть, час, а может быть, три или четыре. Он стоял все так же неподвижно и прямо и смотрел поверх голов. Я никогда не видел более печального зрелища. Его гордость казалась почти комической, гордость человека, одетого в грязное арестантское рубище. Но никто не смеялся. Никто не испытывал удовольствия от того, что издевались над человеком, который считал себя выше других. Это был человек особенный. Человек, который даже здесь продолжал оставаться самим собой и был не в состоянии приспособиться к концентрационному лагерю.
Староста бокса бесновался, раздавая направо и налево пинки и оплеухи.
– Вот полковник бельгийской армии, у которого больше всех вшей, – орал он.
Староста не поленился сходить к писарю, чтобы посмотреть карточку полковника Беквефора.
– Повтори, вонючая собака, что ты величайший неряха двадцатого века.
Полковник молчал. Я чувствовал, как напряглись его плечи. Он старался выглядеть твердым и спокойным. И все-таки было заметно, что он теряет силы.
– Повтори, что ты самая грязная тварь двадцатого века. Будешь стоять здесь, пока не
– Ye ne comprends pas l'Allemand, -снова произнес полковник.
В конце концов староста устал. Полковник тоже опустил плечи, уронив голову на грудь.
– Можешь считать, что он уже мертв,– сказал мне вечером Друг.
– Кто?
– Полковник. Теперь они будут мучить его. И староста блока, и старосты боксов, и остальные. Эсэсовцы сделают все, чтобы убить его. И их прислужники здесь, в блоке, постараются им помочь. Люди, командующие здесь, привыкли действовать по примеру эсэсовцев. На той стороне лагеря все иначе. Там заключенные нужны для работы. И поэтому эсэсовцы терпят, что «красные» командуют в тех блоках. Но здесь распоряжаются идиоты и уголовники, которые в жестокости не уступают эсэсовцам. Они и считают себя почти эсэсовцами. Когда я прибыл сюда, один из их ораторов сказал: «Здесь запрещается смеяться. Здесь может смеяться только дьявол, а дьявол – это я». Неделю спустя эти слова повторил староста бокса. Эти типы во всем подражают эсэсовцам. Они убьют полковника.
Его действительно убили. Иезуитски. Они поняли, что унижение для этого человека страшнее физического наказания. Полковник умер одним из первых среди прибывших в байретском эшелоне.
Мы спали по девять человек на двух нарах шириной по девяносто сантиметров. Метр восемьдесят на девятерых. Если поворачивался один, то должны были поворачиваться и остальные, поэтому мы старались не шевелиться. Некоторые группы укладывались валетом. Мы же всегда спали голова к голове, лежа на боку.
Если кому-то ночью требовалось выйти, то потом он никак не мог втиснуться на свое место. Поэтому мы старались не вставать.
Мисок для еды тоже не хватало, на две тысячи заключенных в блоке их имелось сотни три-четыре. И когда днем раздавалась команда: «Выходи на раздачу супа», все бросались к двери бокса, расталкивая локтями соседей, чтобы поскорее подобраться к выходу.
Суп раздавали на улице. Его подвозили к тифозным блокам и в котлах разносили по боксам. Голодные люди, сдерживаемые кулаками и пинками охранников, рвались к котлам. Миски первыми получали те, кто оказывался ближе к котлу. Староста бокса наливал в каждую миску половник супа. Торопиться, собственно, было глупо, так как суп был очень жидкий и только на дне котла оставалось немного гущи.
Староста не трудился размешивать суп, так как персонал ел из того же котла и гуща на дне доставалась ему. Но у заключенных не хватало терпения ждать. Запах супа манил и подгонял их. Иногда раздача супа проходила спокойно – каждый выкрикивал свой номер и писарь ставил в списке против номера крестик. Но обычно суп выдавали просто по очереди, и казалось, что в таком случае его можно получить дважды. Но не тут-то было: старосты отличались безукоризненной памятью, и если кто-то рисковал подойти второй раз, то получал удар черпаком по лбу. Впрочем, этот черпак гулял по бритым головам и без всякого повода. Старосты привыкли бить заключенных всем, что попадало под руку.
Получившие суп должны были молниеносно выпить его (ложек, конечно, не давали) и передать миску следующему в очереди. Миски обычно передавали, основательно вычистив их пальцами. Ни одна собака не могла бы вылизать свою миску так чисто, как это делали мы. Однажды мне за это здорово досталось. Немец отчитал не только меня, но и всех стоявших в очереди.
– Совесть у вас есть? Что за сборище грязных свиней! Неужели вам приятно, что вашим товарищам придется жрать из мисок, которые вы лизали? А может быть, у вас тиф! Откуда такие берутся! Неужели в вашей свинской стране никто понятия не имеет о гигиене?
Это был сильный, сытый мужчина, он с наслаждением раздавал удары и пинки. И мы не сопротивлялись, покорно отдавали свои миски. Я посмотрел на Друга. Он кивнул мне. Да, мы и в самом деле начинали дичать.
Порция супа равнялась примерно четырем стаканам жидкости. Вечером нам давали двести граммов хлеба. Утром мы получали только пол-литра тепловатой жидкости, именовавшейся кофе. Вместо двухсот граммов хлеба стали выдавать сначала по сто семьдесят пять, потом по сто пятьдесят, по сто и, наконец, по восемьдесят граммов. В хлеб добавляли опилки.
Голод… Описать, что такое голод, так же трудно, как трудно передать, что такое вши. Голод – это не ощущение, это состояние. Это болезнь, от которой умирали. Голод ощущался не только в желудке, вы чувствовали его во всем теле. И в мозгу, так как голод лишал человека способности здраво мыслить. Приходилось постоянно бороться с апатией, которая здесь, в лагере, была смертельно опасной. Голод ощущался в ногах, которые спотыкались на каждом шагу, в цвете кожи, которая стала серой и подолгу не заживала, если на ней появлялась царапина. Голова кружилась, и руки висели как плети. Иногда приходили мысли о смерти как о спасении. И это тоже было страшно. Ибо смерть на каждом шагу подстерегала нас. У меня еще не хватало мужества посмотреть на мертвецов, как мне советовал Друг. Вообще-то мы все видели их. Они лежали на снегу, в проходе между бараками. Я видел их, но старался не смотреть в ту сторону.
Случалось, что заключенные крали друг у друга хлеб. Слабый выхватывал у более слабого его кусок и уходил, жадно глотая хлеб. Он понимал, что получит за это двадцать пять палочных ударов, и все-таки шел на воровство. Воров бойкотировали. Мы даже не осуждали немцев за эти двадцать пять палочных ударов. Вор мог стать и убийцей из-за еды. Однажды в Дахау был случай такого убийства.
Голод… Он душил нас постепенно. К рождеству 1944 года я уже был в его власти. Но он еще не добрался до моего мозга, моих рук и ног.
В тот день мы не услышали команды выходить за супом. Был праздник, и нам разрешили оставаться в боксе, на нарах. Это было великое благо, так как изголодавшиеся люди на улице мерзли невыносимо.
В ясные дни из Дахау можно было видеть вершины Альп. Зима была исключительно суровой, с сильным снегопадом. Снег шел и в тот рождественский день. В последнюю неделю мы перебрались спать в жилой бокс. Барак был настолько забит людьми, что нары поставили даже в жилом боксе. Другу, мне и еще двум товарищам из Лира удалось занять там местечко.
Мы сидели на нашем «третьем этаже», свесив ноги с нар, когда появился староста со своим штабом и остановился посреди бокса, расставив ноги и поигрывая, как обычно, своей дубинкой. Он что-то пробормотал одному из своих подчиненных, и тот распахнул дверь в спальный бокс.
– Требуются десять добровольцев для работы.
Вышли двое. Они еле передвигали ноги. Остальные сидели тихо, избегая смотреть на старосту. Двое добровольцев стояли плечом к плечу, опустив глаза. Они думали о еде, когда согласились работать, но они стыдились своего поступка.
– Еще восемь! – крикнул староста бокса.– Что, тут одни лентяи собрались? Еще восемь добровольцев. Имейте в виду, вам предлагают в первый и последний раз.
Вышли еще двое. Потом трое. После новой порции нотаций в комнате стояли все десять. Вдесятером они держались более уверенно, чем двое первых. Они чувствовали наше презрение, но смотрели с вызовом. На одном из добровольцев не было ботинок, и он стоял босиком.
– Так вы все решили работать на Германию?– спросил староста.
Они утвердительно кивнули, вызывающе посмотрев на нас. «Мы хотим есть»,– говорили их глаза.
– Эй ты,– сказал староста.– Ты же без ботинок.
– Для работы нужны не ноги, а руки. Староста кивнул. Он говорил елейным тоном.
Я еще ни разу не слышал у него такого голоса.
– Вы вызвались работать добровольно. Мы покажем вам, как высоко это ценится в Германии. Немцы – трудолюбивый народ. Германия всегда симпатизировала честным труженикам, которые любят работать. И так как вы вызвались добровольно, то вам не обязательно работать, мы хотим вознаградить вас за ваш поступок.
Солдаты внесли большой котел с едой.
– Это только для вас. Можете есть.
Все десять сразу набросились на еду. Они вели себя, как голодные волки, спешили, чтобы другим не досталось больше, руками лезли в котел; не успев прожевать кусок, хватали новый и вызывающе смотрели на нас.
Мы, разумеется, тоже смотрели. Сидели растерянные и злились на самих себя и на этих обжор. Запах пищи раздражал. Староста бокса был доволен. Заметив, что котел опустел, он приказал принести второй. Его опустошили он сам и его свита.
Нам же на обед не дали ничего.
На следующий день, второй день рождества, староста бокса повторил свой спектакль. Он вошел в сопровождении своих подручных и снова приказал открыть дверь в спальный бокс.
– Нужны тридцать добровольцев для работы. Он был поражен – с нар мгновенно повскакали и бросились к нему, отталкивая друг друга, десятки голодных людей. Около меня сидел товарищ из Лира, и я, чувствуя, как он напрягся, схватил его за куртку.
– Не поддавайся на эту удочку. Разве тебе не ясно, что это какое-то новое издевательство?
– Если я еще раз увижу, как эти парни обжираются, я сойду с ума, – сказал он.
Он вырвался. Я попытался схватить его снова, но он спрыгнул с нар и присоединился к группе «добровольцев». Их было гораздо больше тридцати, наверное, около сотни.
– Порядок,– сказал староста бокса.– Следуйте за мной.
На улице в тот день было очень холодно. Я встретился взглядом с товарищем из Лира, когда «добровольцы» выходили из помещения.
– Он проходит школу Дахау,– заметил Друг.– Будем надеяться, что не слишком дорого за это заплатит.
Расплата оказалась довольно тяжелой. Вечером, когда стемнело, группа вернулась назад. Они несли нескольких совершенно обессилевших товарищей. У нашего лирского знакомого оказались обмороженными руки, ноги и уши. До сих пор они дают себя знать. Он рассказал нам грустную историю.
Их включили в команду по уборке снега. На закрытые блоки немцы не обращали внимания, но на остальной территории лагеря эсэсовцы не терпели и сантиметра снега. Добровольцы из блока № 17 работали вместе с командой снегоуборщиков, но те выглядели не такими изнуренными, они были в носках и в рукавицах. Лопатами они сгребали снег в огромные кучи, а оттуда перетаскивали и сбрасывали в канал, пролегавший вдоль западной границы лагеря. Для этого использовались тележки, в которые впрягались заключенные.
Добровольцам из блока № 17 было приказано накладывать снег голыми руками на широкие доски, утрамбовывать его и вчетвером переносить эти тяжелые глыбы на досках, подняв их на плечи. И при этом их беспрерывно подгоняли: «Быстрее, быстрее, проклятые лентяи!» На них сыпались удары кнутов и пинки, гуляла по спинам резиновая дубинка, вовсю работали кулаки. Через час все выдохлись, через два группа имела жалкий вид. Эсэсовцы только и ждали этого момента, чтобы ускорить темп и поиздеваться над несчастными. «Бегом, проклятая банда лентяев!» Если один из четверых носильщиков падал – доска переворачивалась и глыбы утрамбованного снега сползали. Подскакивал эсэсовец и наказывал не только того, кто упал, но и всех остальных – за то, что не удержали груз. И тогда трое носильщиков ругали упавшего, плача от усталости и боли. Уничтожение чувства солидарности и товарищества являлось целью эсэсовской системы.
Руки, уши, ноги мерзли, а тело покрывалось потом от напряжения. Бесконечные часы непрерывного бега и тяжелого труда довели людей до полного изнеможения.
– Эсэсовцы снова вернулись к своей первоначальной системе, – сказал Друг, закутывая несчастного товарища из Лира в одеяла. – Вначале они заставляли заключенных делать бесполезную работу. Давали тяжелые, но бессмысленные задания. Главное – изнурить людей и сделать их посмешищем. Им важно было сломить нас физически и морально. Поэтому люди заменяли инструменты, животных, технику. Заключенных, например, заставляли голыми руками ломать камень в каменоломне.
Потом эсэсовцы вдруг решили более целесообразно использовать труд заключенных. Это случилось, когда дела у немцев на фронте пошли хуже. В 1942 и 1943 годах пленных стали направлять для работы в промышленность. Кажется, охранникам-эсэсовцам было запрещено издеваться над заключенными на работе, но они не считались с этим. И теперь, когда близится поражение Германии, они снова вернулись к старым методам. Тогда они заставляли голыми руками копать картофель на полях, теперь приказывают голыми руками убирать снег. Тогда заключенные толкали тележки с камнем из каменоломни, теперь людей впрягают в каток, заставляют тянуть «мор-экспресс».
– «Мор-экспресс»? – переспросил я.
Друг знал все. Он был энциклопедией концлагерей. Он мог рассказать в подробностях о жизни и в других лагерях. Впоследствии я решил, что он входил в состав подпольной организации лагеря.
– Ах да,– ответил он.– Вы же прибыли из тюрьмы и еще ничего не видели здесь, кроме этого барака. На той стороне каждый знает, что такое «мор-экспресс». В лагере имеются тяжелые повозки различного типа. На них перевозится все, что угодно. Вместо лошадей – заключенные. Повозки для определенного вида груза получили название «мор-экспресс». Впереди у каждой оглобли встают два человека. По обе стороны повозки прикреплены три-четыре рычага, за которые тянут еще по двое заключенных. Повозки эти очень тяжелые и неповоротливые, но капо заставляют «лошадей» бежать галопом. В лагере всегда один из капо играет роль погонщика – орудует кнутом так, словно погоняет настоящих лошадей. За воротами лагеря «мор-экспресс» сопровождают эсэсовцы с собаками.
– Что же они перевозят? – спросил я, хотя уже и сам догадался. Я понял это по внезапно посуровевшему лицу Друга, впервые я прочитал на нем ненависть.
– Если тебе когда-нибудь придется увидеть этих людей, ты никогда уже не сможешь забыть их: согбенные спины, опущенные головы, отекшие руки и ноги. Изо дня в день они тянут, толкают этот «мор-экспресс». Летом они изнемогают от жажды, глаза, нос и рот горят от пыли. Зимой они валятся на снег, обмораживают ноги или утопают в грязи. Они голодны, как и все мы. В глазах пустота. Они грязные. Мы тоже грязны, но не так, как они. Они действительно превратились в животных, разучились думать. Они словно срослись с этой повозкой, ставшей их врагом и единственной целью существования. Обычно на повозках перевозят котлы, муку, хлеб, одежду, камни, цемент, песок, но «мор-экспресс» возит трупы – только трупы, и ничего иного. А трупов здесь хватает. Не берусь сказать, сколько человек умирает ежедневно. Но и раньше, когда смертность была ниже, эту повозку употреблять для других целей не разрешалось – только для доставки трупов в крематорий. Было время, когда в лагере умирало сравнительно мало людей. Тогда в свободные часы заключенные с «мор-экспресса» перевозили другие грузы. Иногда эсэсовцам хотелось позабавиться, и они заставляли людей возить по лагерю «мор-экспресс», груженный двумя пустыми ящиками из-под сигар. Это было еще хуже, чем возить повозку с тяжелым грузом. Унижение подрывало волю к сопротивлению. Работавшими на «мор-экспрессе» овладевало глубокое отчаяние. Они знали все разновидности смерти: смерть от голода, самоубийство, убийство в лазарете.








