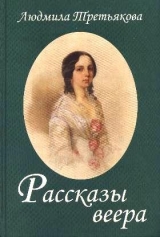
Текст книги "Рассказы веера"
Автор книги: Людмила Третьякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
* * *
Жизнь в Париже не только не приедалась, а каждодневно одаривала Любовь Ивановну головокружительными впечатлениями. Она чувствовала себя на палубе брига, мчавшегося по волнам на всех парусах все к новым и новым горизонтам.
Париж удивлял: интерес к титулам и гербам здесь явно пошел на спад. Во дворце Тюильри, где жил император Наполеон II, предпочитавший придворным красоткам простых и доступных актрис, снобизм и высокомерие стали немодными. Говорили, что на одном из балов даже видели некоего краснодеревщика с супругой. Это никого не скандализировало. Правила хорошего тона претерпели изменения, теперь ценились способность к разного рода импровизациям, оригинальность. На одном из маскарадов четверо «рыбаков» внесли в парадный зал на обозрение сотен глаз свою «добычу»: прелестная русская аристократка Варвара Римская-Корсакова, входившая в круг самых приближенных дам императрицы, изображала «золотую рыбку», завернувшись, совершенно обнаженная, в сеть из золотых нитей. Все были в восторге!
Церемонные менуэты уступили место незатейливым, жизнерадостным полькам. Отпрыски знатнейших фамилий, приняв вызов времени и отбросив предрассудки, до упаду танцевали с хорошенькими горожанками, частыми гостями Тюильри.
Разумеется, старая почтенная аристократия, резко усеченная гильотиной санкюлотов, все еще тянула свой грустный век среди обветшалой роскоши Сен-Жерменского предместья. Но и здесь то и дело выдавали юных принцесс за сыновей промышленников и банкиров.
За громкой фамилией могла скрываться всего-навсего оборотистая особа. К примеру, все знали, что девица Селеста Магадор совсем недавно служила наездницей в цирке и была подружкой многих знатных шалопаев. Но, прибрав к рукам одного из них, стала-таки графиней де Шабрийан.
Чертова частица «де»! Все-таки кое-кому она по-прежнему не давала покоя. Даже Бальзак, щедро обласканный славой, не устоял и самовольно присоединил этот знак избранности к своей невыразительной фамилии.
Какой магией обладает аристократическое имя, словно впитавшее аромат веков, событий и уже само по себе многое говорящее в пользу счастливого обладателя, – об этом хорошо было известно Любови Ивановне, бывшей Кроль, бывшей Голубцовой. И теперь, когда кое-где сохранившийся в богатых домах Парижа мажордом старательно выговаривал: «Граф и графиня Кушелевы-Безбородко», она испытывала необыкновенные гордость и волнение.
Однако больше раутов и званых ужинов ей нравились костюмированные балы, которые давали то в Тюильри, то в Опере и куда валом валила самая разношерстная публика.
Григорий Александрович хотя и сопровождал жену, но в танцах, ради которых все затевалось, не участвовал, а отсиживался обычно в компании почтенных отцов, привозивших сюда повеселиться своих дочек.
С открытых галерей Оперы, откуда были хорошо видны танцующие пары, граф пытался разглядеть Любовь Ивановну. Он быстро и безошибочно находил жену среди толпы, находил и любовался ею, одетой с необычайным вкусом в одно из прелестных платьев, на которые шла уйма шелка, тафты, кружев и прочего. Любовь Ивановна предпочитала ткани насыщенных цветов: желтого, лилового, густо-голубого – словом, такие, которые наилучшим образом оттеняли ее яркую красоту брюнетки. Вместо принятых здесь цветов и бантов голову графини венчала на русский манер уложенная коса, перевитая либо жемчугом, либо нитями, составленными из небольших сверкающих алмазов.
...Вечер начинался по традиции каким-нибудь медленным церемонным танцем. Это было узаконенной данью прошлому. Затем дирижер начинал все энергичнее махать своей палочкой, движения танцоров становились быстрее. И очень скоро танец превращался в сумасшедший вихрь, все неслось, кружилось и прыгало, стараясь удержаться на ногах, ибо печальна была судьба того, кто нечаянно оступался. Рассыпались идеально уложенные куафером прически дам и кавалеров, летели на пол, затаптывались запонки, пуговицы, бутоньерки, бархатные банты, драгоценности, рвались в клочья кружева. А руки танцующих сцеплялись так, что по окончании этой вакханалии их невозможно было разжать.
Любовь Ивановна веселилась до упаду, не жалея сил еще и потому, что было ясно: рано или поздно парижскому празднику придет конец, граф уже подумывал о возвращении в Россию. Она порой раздражалась, когда муж, отыскав ее в толпе, тихо и озабоченно спрашивал: «Ты не устала, Люба? А то уедем».
Обычно Любовь Ивановна не противоречила и выходила из зала под руку с графом, полная достоинства и спокойствия знающей себе цену женщины. Склонив голову к его плечу, она что-то тихо ему говорила. Григорий Александрович, ободренный ее вниманием, улыбался, что очень шло к его красивому, но почти всегда печальному лицу. На них, высоких, статных, элегантных, обращали внимание. Любовь Ивановна с удовольствием подмечала взгляды, устремленные на них.
Но стоило им сесть в экипаж, как она тотчас отстранялась от мужа, делалась рассеянной, думала о чем-то своем и, полуприкрыв глаза, еле отвечала на его вопросы.
* * *
В парижское житье-бытье графской четы внес свою долю сумятицы упавший как снег на голову братец Любови Ивановны. Николай Кроль совершенно преобразился, из чего можно было сделать вывод, что графиня оказалась хорошей сестрой и в своем возвышении не забывала родственников.
Одетый с иголочки, вальяжный, раздавшийся, он уже ничем не напоминал бедствующего труженика пера, который кое-как перебивался с хлеба на квас. Теперь денег хватало даже для отнюдь не дешевого удовольствия: Кроль со своим товарищем совершил путешествие по Италии. После Франции они собирались податься на туманный Альбион и там встретиться с Герценом, уже звонившим в свой «Колокол».
...Николай Иванович не скрывал левых убеждений. Покуривая дорогие папиросы, он мог часами рассуждать о язвах самодержавия, задавленном народе и паразитирующей буржуазии. «Стыдно, братец, стыдно», – укоризненно тряс он указательным пальцем перед носом смущенного графа.
Как всегда, голова господина Кроля была полна идей. Не один день он убеждал родственника основать журнал, которому уже придумал замечательное название – «Русское слово».
Григорий Александрович как мог отбивался от этого замысла: он не чувствовал в себе ни способностей, ни охоты возглавить такое многотрудное дело.
Но Кроль был неумолим: в качестве автора и члена творческого коллектива он, естественно, предлагал себя, понимая, что его хлопоты будут щедро вознаграждены.
Этому натиску, усиленному влиянием Любови Ивановны, противостоять было невозможно, решительно отказать – означало обидеть родственника. В очередной раз Григорию Александровичу навязывали роль дойной коровы. Он, понимая это, ругал себя и все-таки сдался.
...Компания литераторов, определивших себе немалые гонорары, приступила к подготовке первого номера, как только получили подтверждение Кроля: граф согласен, чек выписан.
Откровенно, не без цинизма, один из них писал: «Кушелевского журнала средства безграничны... Тут мне будет полная свобода, и болото велико – чертей будет много, то есть бездна денег...»
Как Григорий Александрович расплатится за свою мягкотелость и вечное желание сделать приятное супруге, того он еще и представить не мог.
* * *
Женщины разбойничьего нрава за версту чувствуют друг друга: из всех парижских знаменитостей Любовь Ивановну более всего заинтересовала Мария Калержи – дама польских кровей. Этот факт сам по себе достоин размышления. Кто, как не женщины, полон глубоко спрятанного, порой неведомого ему самому недоброжелательства друг к другу? Их видимой приязнью – не возьмемся называть это дружбой – не стоит обольщаться. Два-три неверных шага, и наступает охлаждение, хорошо, если не переходящее в откровенную вражду.
На такую метаморфозу у Любови Ивановны и ее новой парижской подруги времени не было. Дело шло к отъезду графской четы. Это объясняло быстрое сближение двух женщин и доверие, которое между ними возникло.
Мария была на семь-восемь лет старше Любови Ивановны. Впрочем, это не важно, потому что разница в возрасте вообще не играет роли в отношениях женщин: мешает несовместимость взглядов и характеров. Но если обе сходятся в том, что «брак без любви – это пожизненная каторга» и что «труднее хорошо любить, чем хорошо воевать», можно не сомневаться – этим дамам друг с другом скучно не будет.
У Марии Карловны Калержи и Любови Ивановны и помимо этого имелось много общего. Обе выросли в генеральских семьях, получили хорошее домашнее образование: языки, литература, музыка.
Очень схожими – и это, пожалуй, главное – оказались и характеры: постоянное стремление превозмочь обстоятельства, совершенно непреодолимые для других, желание устроить личную жизнь по собственному разумению.
Однако если осуществлению подобных намерений Любови Ивановне мешала нужда, то Мария такого несчастья не знала.
Понятно, что это обозначило разницу в их представлении о счастье. Мария грезила о прекрасном рыцаре. Урожденной Кроль, которую жизнь быстро лишила всех сантиментов, нужен был человек с большим карманом.
Немного забегая вперед, скажем, их история подтвердила известный парадокс: «Одни женщины плачут потому, что не получили мужчину своей мечты, другие – потому, что получили мужчину своей мечты».
Марию выдали замуж в шестнадцать лет за очень богатого торговца, грека Ивана Калержи. Тот был на тридцать лет старше невесты и ни на каких рыцарей совершенно не походил.
Перед венчанием со своей невестой, белокурым голубоглазым ангелом, Калержи сделал непростительную для опытного человека промашку: он подарил ей шестьсот тысяч золотых рублей и особняк на Невском под номером двенадцать. Сейчас на его месте стоит другое здание, постройки 1910 года. Наличие огромной суммы позволило мадам Калержи прикинуть: а стоит ли тратить жизнь на унылое существование с человеком, который ей совершенно не нравится? Это несчастье заставило ее подумать об изменении своей участи. Мария искала выход.
Твердый характер, которым судьба наградила ее вместе с красотой, так и подталкивал: полный вперед!
Справедливо подмечено: «Смелость одинаково часто проистекает от отчаяния и надежды – в первом случае терять нечего, во втором – можно выиграть все».
Мария уповала именно на второй вариант. Взяв с собой крошечную дочь и, разумеется, свадебное золото, она убежала в Париж. Надеясь, что жена одумается, супруг развода не давал. Мария оставалась мадам Калержи. Ей это не мешало. Умная, начитанная, говорившая на нескольких языках, Северная сирена, как называли в Париже красавицу блондинку, сразу обратила на себя внимание общества. Однако жизнь ее в прекрасном городе на Сене никак нельзя было назвать беспутной и неупорядоченной.
Во всем давало себя знать строгое воспитание. Мадам Калержи была светской штучкой, femme mondaine – придворной дамой во всех отношениях, аристократически непринужденной в обращении. Каждый жест, высказывание свидетельствовали об ее искренности и непосредственности – редкие качества в светской женщине.
У ног «высокой, белокурой, веселой, бесконечно обольстительной и отчаянной женщины» поочередно, оспаривая ее друг у друга, перебывали люди, чьи имена были на устах у всей Европы: Виктор Гюго, Теофиль Готье, Генрих Гейне, Альфред Мюссе, Эжен Делакруа, Александр Дюма-сын...
Выдающийся польский поэт Циприан Камиль Норвид, посвятивший Марии Калержи цикл своих произведений, довел себя до смерти из-за неразделенной любви к ней.
В ее салоне на улице Анжу собирались не только гении пера, но и высокого ранга чиновники, члены дипломатического корпуса, разговоры которых, о чем ходили слухи, мадам Калержи исправно передавала российскому послу.
Но не это в конце концов оставило ее имя в истории. Еще в Петербурге, получив великолепное музыкальное образование, которое развило природные способности пятнадцатилетней девушки, Мария часто выступала в аристократических гостиных.
И вот страсть к музыке, как будто утихшая в клокотании парижской жизни, вдруг снова с неодолимой силой заявила о себе.
Мастерство пианиста не может держаться только на таланте и вдохновении: это огромный, каждодневный труд. Долгие часы теперь Мария проводила за роялем. Несомненно, ей очень помогли уроки, которые она брала у Шопена и Аиста. Эти наставники и собственная одержимость сотворили чудо: из одаренной дилетантки Мария за короткий срок превратилась в виртуозную пианистку.
...К тому времени, как Кушелевы-Безбородко прибыли в Париж, артистическая слава Марии Калержи была в самом зените. «Она играла, как никто, – утверждал бог на музыкальном Олимпе того времени Ференц Лист, в исполнительском искусстве, как говорили, признававший только Паганини. – Кому довелось слушать ее, тот, конечно, этого не забудет, потому что это была не игра, но единственное в своем роде воссоздание творчества».
Мария играла по-своему, придавая музыке оригинальные интонации. В знакомых меломанам произведениях зазвучал голос женщины, за внешним благополучием которой скрываются душевное одиночество, страх перед будущим и робкие надежды на возможное счастье. Бунт и смирение, меланхолическая грусть и яростные вспышки гнева против судьбы – все это слышалось в водопаде звуков, державших слушателей в напряжении.
Любовь Ивановна все поняла и, не привыкшая прилюдно обнаруживать свои чувства, плакала на концерте Калержи.
...Они познакомились и очень привязались друг к другу. Все прочие знакомства и связи Кушелевых-Безбородко сразу отодвинулись на второй план. Теперь все вечера, когда у Марии не было концертов, они проводили втроем, более никого не допуская в свое общество.
Большой любитель музыки, человек с тонким вкусом, Григорий Александрович оказался очень интересен для Марии. Любовь Ивановна была свидетельницей самых горячих споров, которые порой разгорались между ними. Полем боя оказывался рояль. Каждый, оттеснив другого, старался сыграть какой-то пассаж или отрывок из партитуры по-своему. То и дело слышалось: «Помилуйте, это вовсе не так». – «Нет-нет, мадам, совершенно не согласен с вами. Позвольте мне!» И так до бесконечности, пока Любовь Ивановна не восклицала: «Все, конец! А то вы поубиваете друг друга». И тогда они, довольные и усталые, в согласии пожимали руки.
В творческой обстановке граф весьма оживлялся. Он был готов музицировать часами. Любовь Ивановна просила мужа сесть за рояль и спеть Марии сочиненные им романсы. Тот не отнекивался, и его небольшой, но приятный тенор проникновенно исполнял положенные им на музыку вдохновенные строки о любви, ее рождении и потере, вечной, не уходящей из сердца памяти о ней.
– Посмотрите на него, – шептала Мария на ухо Любови Ивановне, – как он прекрасен! Не просто хорош, а прекрасен. А глаза! В них свет и доброта, бесконечная доброта.
– Что я слышу! – также шепотом, чтобы не мешать мужу, отвечала Любовь Ивановна. – Я даже не ожидала, что вы, милая, способны на такие восторги. Уж не пришла ли к вам в голову мысль соблазнить их сиятельство графа Григория Александровича?
Марии, видимо, не понравился ироничный тон подруги, и она резко ответила:
– Нет, не пришла. Я никогда не берусь за невыполнимые задачи, мадам. Ваш муж для меня не составляет загадки – он любит вас. Что ж, таково его пожизненное наказание! Никто не в состоянии вызволить несчастного из вечного плена. Даже вы сами. Чем больше любовь, тем меньше она требует.
8. Возвращение
Граф и графиня Кушелевы-Безбородко выехали из Парижа в конце лета. Обратную дорогу, по желанию Любови Ивановны, предполагалось проделать как можно быстрее. Через Кельн и Берлин путешественники добрались до Штеттина, где пересели на пароход, взявший курс на Кронштадт.
Здесь пограничная служба внимательно изучила паспорт человека, прибывшего с графской четой. Это был английский подданный Даниэль Юм двадцати семи лет, высокого роста и со светлыми волосами. Графу стоило немалых трудов быстро получить для него в Париже российскую визу, что очень заботило Любовь Ивановну.
...В милом Полюстрове приезд графской четы после долгого отсутствия был обставлен с традиционной русской церемонностью и теплотой. Дом, который без хозяев, ясное дело, – сирота, как будто облегченно вздохнул, стоило экипажам миновать въездные ворота. На вершине шеста над главным домом радостно затрепетал на невском ветерке поднятый по этому случаю стяг с графским гербом.
«Мы остановились перед большой виллой, два крыла которой полукругом отходили от главного корпуса, – писал один из спутников Кушелевых-Безбородко. – На ступенях подъезда выстроились слуги графа в парадных ливреях. Граф и графиня вышли из кареты, и началось целование рук...
Потом поднялись по лестнице на второй этаж в церковь. Как только граф и графиня переступили порог, началась обедня в честь благополучного возвращения, которую достопочтенному священнику хватило ума не затягивать. По окончании все обнялись...»
Парижские успехи совершенно преобразили Любовь Ивановну. Она обзавелась всеми повадками большой барыни: на радость мужу, который был совершенно чужд всяким домашним заботам, взялась хозяйничать, твердо, но справедливо спрашивала с прислуги и научилась снисходительно и устало говорить своей горничной: «Пошла прочь, негодница».
* * *
Возвращение Кушелевых-Безбородко, которых за время их долгого отсутствия вроде как будто и забыли, все-таки не укрылось от глаз петербургского общества. Так, в письме своей жене поэт и дипломат Ф.И. Тютчев среди прочих петербургских новостей сообщал об очень быстро свершившейся свадьбе свояченицы графа Александры Кроль с «привезенным ими из-за границы» спиритом Даниэлем Юмом.
При этом Федор Иванович весьма язвительно давал понять, что такая решимость со стороны англичанина объясняется приданым в двести тысяч рублей серебром, которое давал граф за своей родственницей.
Что же касается Любови Ивановны, то она в очередной раз продемонстрировала, как выразился один из внимательных посетителей графского дома, «какое-то щегольское умение играть жизнью, своей и чужой».
Что ни говори, мистер Юм был далеко не из разряда обычных людей. Он считался человеком сверхъестественных способностей, зарабатывал этим хорошие деньги, кроме того, был красив. Так быстро женить его на неказистой, по слухам, девице – это нужно было уметь.
С подачи Любови Ивановны граф не только обеспечил свояченицу приданым, но и подумал о ее будущем. В качестве свадебного подарка он преподнес ей расписку: «Я, нижеподписавшийся, даю денег Алекс. Ив. Кроль пятьдесят тысяч рублей, которые ей должны быть выданы по прошествии 10 лет, а до того времени обязуюсь производить ей выплату ежегодно по две тысячи четыреста рублей».
Что и говорить – щедрый дар! Для сравнения: содержание пятидесяти престарелых бедных женщин в доме призрения со всеми служителями и медицинским персоналом стоило Кушелеву-Безбородко одиннадцать тысяч в год. Причем это благотворительное заведение считалось одним из самых комфортных и солидных в городе.
Несомненно, такая необычная форма обеспечения Александры Ивановны была подсказана графиней, которая все хорошо продумала. Англичанин-спирит не мог при таких условиях самовольно попользоваться деньгами жены: ежегодная выплата шла непосредственно ей, это были, так сказать, карманные деньги, а на капитал, положенный на ее имя, набегали изрядные проценты.
...После свадьбы Юм начал свои петербургские гастроли. Как и везде, публика на его представления собиралась отнюдь не балаганная. В Париже, например, он устраивал сеансы спиритизма во дворце Тюильри для Наполеона III, его жены и их ближайшего окружения. Среди зрителей сеансов «шотландского мага» Конан Дойл называл германского императора Вильгельма I, королей Баварии и Вюртемберга – «все они уверовали в спиритуализм благодаря его сверхъестественным способностям».
На берегах Невы европейскую знаменитость приглашали в особняки знати, промышленников, банкиров: не зная, чем бы себя позабавить, господа жаждали острых ощущений. И мистер Юм сполна оправдывал эти ожидания. Чем же он удивлял богатых петербуржцев?
Говорили, что необычайные способности англичанин обнаружил в себе лет в восемнадцать, впервые приподнявшись над полом, а следом мягко коснувшись потолка и ногами. Случалось, что несколько человек, присутствовавших при повторении таких фокусов на публике, пытались, ухватив его за ноги, вернуть чудотворца на землю, но безуспешно. Летал он и под открытым небом, «хотя и не так высоко, как в помещении, но намного дальше».
Очевидцы свидетельствовали, что Юм мог удлинять или укорачивать свое тело «на целых 30 сантиметров», причем сам призывал наблюдателей держать его за руки и за ноги, так сказать, для чистоты эксперимента.
Выступал Юм и как ясновидец, но особенно интриговало публику то, что он силой своего взгляда мог отклонять в сторону стрелку весов, застывшую на нуле.
Писали, что самым эффектным номером Юма была игра на музыкальных инструментах, к которым он не прикасался. Клавиши гармоники, прогибаясь под невидимыми пальцами, исполняли венские вальсы, скрипка со смычком, который исправно двигался по струнам, тоже играла и в то же время как будто плавала в воздухе.
Слухи о чудесах достигли Зимнего дворца. Юм был приглашен выступить перед августейшей семьей во главе с Александром II.
«Стол поднялся на высоту полуаршина над полом, завертелся и застучал, выбивая такт гимна «Боже, царя храни» (видимо, Юм решил придать своему творчеству русский колорит. – Л.Т.), наклонялся вправо и влево, причем ни лампа, ни карандаш, ни другие предметы, лежавшие на нем, не двигались с места, даже пламя лампы не колыхалось», – так описывала спиритический сеанс, состоявшийся в Зимнем дворце, фрейлина императрицы Марии Александровны Анна Тютчева, дочь поэта.
О Юме много писали газеты. Горожане наперебой обсуждали творимые им чудеса, и мнения, как всегда, разделились. Одни говорили о нем как о человеке с «фантастическими, недоступными разумению способностями», другие – их было больше – вспоминали, что в Петербурге уже был один такой, граф Калиостро, которому умница-императрица Екатерина II предложила не дурачить публику, а побыстрее убраться из Петербурга.
Однако, отвечая требованиям времени, начальство теперь более терпеливо и лояльно относилось к тому, что явно выходило за рамки нормы. Юм с триумфом выступал в гостиных, залах, на эстрадах к вящей для своего кармана пользе: скрипки в воздухе пели, ледяные и огненные вихри метались над головами ошеломленных зрителей, а духи почивших в Бозе родственников «отстукивали» публике свои приветы.
«Пишут, например, что какой-то человек садится на кресло, поджав ноги, и кресло начинает скакать по комнате – и это в Петербурге, в столице!» – недоумевал Федор Михайлович Достоевский. А чему, собственно, удивляться? Столица, она столица и есть: что хочешь проглотит, не поморщится и еще скажет, что все это «направлено на развитие умственной жизни».
В быту, однако, иллюминат и спирит всех времен и народов, как стали называть Юма, оказался самым что ни на есть обыкновенным человеком: в положенный срок у супругов родился сын. Назвали его Григорием – в честь, разумеется, графа-благодетеля.
Забегая вперед, скажем, что молодой Юм пошел по стопам батюшки, который скончался в туманном Альбионе в возрасте пятидесяти трех лет. Григорий Даниэ-льевич предпочел жить во Франции и описывал в одном из интервью свой первый «выход из собственного тела»:
«Я подошел к самому себе, то есть к моему телу или, лучше сказать, к тому, что я уже считал своим трупом, и крайне удивился: тело мое дышало! Я, конечно, обо всем этом никому ничего не говорил, а то ведь сочтут за полоумного или скажут, что у меня был припадок белой горячки».
Напрасно Юм-младший опасался проявлений здравого смысла в человечестве: пройдет еще каких-то сто лет, и в 1993 году на прилавках российских магазинов появится книга американского бизнесмена Роберта А. Монро «Путешествия вне тела», которая будет пользоваться большим спросом.
...Увы, мадам Александре Ивановне Юм не удалось порадоваться успехам мужа и сына. Она скончалась молодой, со дня свадьбы прошло не более пяти лет.
Заметим мимоходом: после смерти госпожи Юм ее «наследники» в лице супруга-кудесника, ссылаясь на расписку, обратились в надлежащие российские органы с иском к графу – почему тот прекратил выплаты? Невероятно, но был дан ход специальному разбирательству.
«В настоящее время возбужден вопрос: обязан ли граф Кушелев производить ежегодные выдачи пособия наследникам умершей г-жи Юм?»
Дело, однако, решилось в пользу графа – надо думать, к весьма большому неудовольствию знаменитого «спирита и магнетизера».
...Однако вернемся к тому времени, когда очередная затея Любови Ивановны – свадьба ее сестры – блистательно удалась. Не все были от этого в восторге: снова пошли толки о бедном графе, окружившем себя, как выражались проницательные люди, «черт знает кем».
В глазах света «спирит и магнетизер» Юм не слишком отличался от клоуна и канатоходца. Но теперь он через Кушелева-Безбородко, формально говоря, состоял в родстве со многими представителями столичной аристократии.
Одна надежда была на то, что, поднабрав российского золота, Юм с супругой уедет с глаз долой гастролировать дальше.
* * *
Любовь Ивановна, весьма ободренная почтением, которое было проявлено к ней в Париже как к русской знатной даме, решила, что пришел момент заявить о себе и в Петербурге. Теперь уже не бедной просительницей, как некогда вошла в царский кабинет, а подтвержденной всеми российскими законами их сиятельством графиней Кушелевой-Безбородко она появится в столичных особняках.
При больших семейных связях графа для этого достаточно было наладить в первую очередь отношения с его родней, что означало бы получить признание всего Петербурга. И граф, понимая душевные стремления Любови Ивановны, совершенно был согласен с идеей устроить большой обед и пригласить не только родственников, но и тех, кто задавал тон в столице.
Любовь Ивановна решила сама развезти приглашения, использовав эту необходимость как повод для предварительного знакомства с великосветской родней и знакомыми мужа.
Не искушенная в тонкостях взаимоотношений людей, принадлежавших к большому свету, она не почувствовала никакой странности в том, что ее намерение то и дело срывалось. Куда бы она ни приезжала, дворецкий после вопроса: «О ком прикажете доложить?» – удалялся, а потом, воротясь, объяснял посетительнице: «Барыня уехали, а я-то и запамятовал», или, со вздохом разводя руками: «Больны-с!», или того хуже: «Господа сожалеют, что никак не могут принять сегодня». Любовь Ивановна оставляла визитку с загнутым правым углом – знаком своего посещения. Лишь в нескольких случаях ей удалось лично передать приглашение. Но общение выходило вялым, а длинные паузы в разговоре принуждали гостью быстро закончить визит. Цепкий глаз графини замечал, что при этом хозяева заметно веселели и просили ее передать поклон Григорию Александровичу.
А тем временем в особняке Кушелевых-Безбородко полным ходом шла подготовка к предстоящему торжеству. Однако супруги чувствовали себя неспокойно, и тому имелись причины. Те, кого графиня не застала дома, не отозвались ни письмом, ни визитом, как полагалось, в течение недели. Зато горничная то и дело принимала от швейцара конверты с записками примерно одного и того же содержания:

Александр Дюма-старший, знаменитый автор «Трех мушкетеров», тоже побывал в гостях у супругов Кушелевых-Безбородко в бывшем имении знаменитого канцлера. Его апартаменты располагались на втором этаже, над колоннами. Однажды ночью, выйдя на балкон, он был поражен красотой открывшейся ему картины. Сияла луна. Ее свет отражался на куполах Смольного собора, серебряная рябь играла на поверхности заснувшей Невы. Звездное небо, костры оставшихся на ночевку рыбаков, торжественное безмолвие... Дюма писал, что ничего не видел прекраснее этой петербургской ночи.
«Позвольте выразить Вам и Вашей супруге признательность за Ваше любезное приглашение... К моему искреннему сожалению, я не могу им воспользоваться потому, что...» Далее следовало объяснение причин с уверением «непременного почтения».
Несмотря ни на что, графиня продолжала который день держать всех в напряжении, терзать слуг, сбившихся с ног в наведении порядка в доме. Полотеры до зеркального блеска натирали паркет. Расставлялись кадки с цветущими растениями, привезенными из оранжерей. В который раз перемывался столовый фарфор и хрусталь, а возле громадной люстры, спущенной сверху на пол танцевального зала, суетилось сразу несколько людей. Они счищали застывший воск и крепили в бронзовых гнездышках специальные заказанные в Европе свечи, не дававшие чада.
На втором этаже, где находились апартаменты Любови Ивановны, царила суета, и девушки с озабоченными лицами бегали из комнаты в комнату. Платье, забракованное графиней буквально за несколько дней до назначенного торжества, заставило модистку, ее помощниц и пригодных к шитью крепостных мастериц снова засесть за работу.
Теперь, изучая свое отражение в зеркале, Любовь Ивановна в темно-лиловом с серебряным кружевом платье могла быть довольна. Что тут говорить, что описывать, к каким прибегать сравнениям, когда все укладывается в два слова: «Она прекрасна».
Рядом стояла горничная с раскрытым плоским футляром, откуда благородным блеском сияло бриллиантовое колье, которое Григорий Александрович купил для жены в Париже у княгини Мюрат – той надо было погасить свои громадные долги.
– А это? – спросила горничная, протягивая Любови Ивановне футляр.
Та, не отводя взгляда от зеркала и чуть склонив набок голову, равнодушно бросила:
– Лишнее. Убери...
* * *
В назначенный день и час никто так и не приехал. Некоторое время граф и графиня все-таки имели надежду. Но, постояв некоторое время на площадке беломраморной, украшенной гирляндами цветов лестницы, они удалились в примыкавшую к ней гостиную.
Сев в кресла напротив друг друга, супруги обменивались короткими фразами и даже вопреки обыкновению перешучивались. Однако было заметно, что Любовь Ивановна напряженно прислушивается, что делается внизу, у входной двери. Но оттуда не долетало ни звука.
Так прошел час. Все было ясно. Граф поднялся и стал прохаживаться, положив руки в карманы брюк.
– Сядь, – приложив пальцы ко лбу и поморщившись, сказала графиня.
Из громадной залы с накрытыми столами вышел дворецкий и, поклонившись Григорию Александровичу, спросил:
– Какие будут распоряжения, ваше сиятельство? Не отвечая, тот подошел к неподвижно сидевшей графине и церемонно предложил ей руку:








