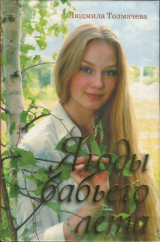
Текст книги "Ягоды бабьего лета"
Автор книги: Людмила Толмачева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
– Любовь Антоновна! Давайте вместе на «Кто без греха?» смотреть, а?
– Помоги мне, – Люба подала ей руку, – а то, боюсь, не подняться будет. Устала.
Аня помогла ей встать и, взяв ее под руку, подвела к картине.
– Какой он все-таки красивый! – восхищенно вздохнула девочка и с надеждой посмотрела на Любу, мол, согласись же со мной, раздели мое восхищение.
– А ведь ты права, Анюта! – услышали они за спиной голос Игоря, незаметно приблизившегося к ним. – Он божественно красив, как и полагается Христу. Но только ли внешними чертами, как ты думаешь?
– Я думаю, – серьезно отвечала Аня, – что не только внешними. Его украшает доброта души.
Игорь и Люба невольно переглянулись. Игорь кашлянул и отвернулся, сделав вид, что переключил внимание на другую картину. Люба знала за ним эту особенность: на людях он боялся выказывать сильные движения души.
А девочка уже теребила его за рукав:
– Игорь Алексеевич! Посмотрите, какой огромный дядька сидит на маленьком ослике! Ему же тяжело!
– Кому, дядьке?
– Нет, ослику.
Она почувствовала подвох и внимательно взглянула на Игоря. В его глазах мелькнул озорной огонек. Аня недоверчиво улыбнулась и перевела взгляд на Любу. Та подмигнула ей и тихо рассмеялась.
– А не пойти ли нам вниз – отдохнуть и перекусить? Как дамы на это смотрят? – галантно поинтересовался Игорь.
Дамы не возражали. В кафе Аня без умолку щебетала, делясь своими впечатлениями от просмотра. Игорь изредка поддакивал или подтрунивал со свойственной ему внешней невозмутимостью. Аня, уже разгадав эту его черту, весело отвечала на шутки. А Люба молча прихлебывала кофе, с удовольствием наблюдая за тем, как непринужденно вела себя девочка и как искренне, даже как-то по-детски веселился Игорь.
Они решили, что за один день все залы не обойти и остальное посмотрят в следующее воскресенье. А сейчас просто возмутительно пропускать прогулку по Москве, особенно в такую чудную погоду.
В седьмом «В» назревали серьезные события. Такой вывод напрашивался сам по себе – эти перешептывания во время уроков, записки, мелькающие в руках у девочек, эти многозначительные ухмылки и переглядывание мальчишек, а на переменах класс и вовсе превращался в пчелиный улей. Сначала информация просочилась к Татьяне Федоровне, а потом, естественно, об этом узнала Люба. Тим, он же Тимофей Алтуфьев, верный рыцарь красавицы Яны Крольчевской, оказывает знаки внимания новенькой! И это на виду всего класса, да что там! На виду всей школы! Вчера, к примеру, подал ей в гардеробе куртку, а позавчера на уроке математики, когда Аня мучилась возле доски с иксами и игреками, подсказал решение задачи. Додиков, тайно и безнадежно вздыхавший о Крольчевской, злорадно прокомментировал, когда Аня возвращалась на свое место:
– Да-а, блин! Мне бы такого помощника. Я бы задачки щелкал, как семечки…
Аня покраснела, а Крольчевская фыркнула и демонстративно отвернулась. Эта сценка не ускользнула от Татьяны Федоровны и на перемене была в красках передана Любе. Люба выслушала, но реагировать не спешила. Да и как тут, спрашивается, реагировать? Дело это весьма деликатное, как бы дров не наломать со своими советами да предупреждениями. Люба решила подождать и понаблюдать за ситуацией. На уроке литературы в седьмом «В» Люба объявила, что сегодня они будут читать басни Крылова по ролям. Она вызовет к доске ученика, читающего текст от автора, а тот подберет остальных действующих лиц по своему усмотрению. Класс оживился, зашумел. Первой была басня «Стрекоза и муравей». Люба вызвала к доске Додикова. Вальяжный Додиков Дарственно окинул взглядом класс и выбрал на роль Муравья Тима Алтуфьева. Класс замер в ожидании. Подмигнув своему дружку Грозных, Додиков пригласил на роль Стрекозы Аню Перевалову. По классу прошел невнятный гул. Люба обратила внимание на Крольчевскую. Яна, поджав губы и растянув их в едва заметной улыбке, опустила глаза и слегка подтолкнула локтем свою соседку, некрасивую Лину Горелик. Лина в ответ тонко усмехнулась и, близоруко сощурившись, проводила взглядом Аню. «Тут что-то нечисто, – встревожилась Люба. – Крольчевская по-другому бы себя вела, если бы…» Додиков начал читать басню. Он шутовски жестикулировал, изо всех сил стараясь насмешить класс, но хихикал один лишь Грозных. Остальным было не до неуклюжих ужимок Додикова. Все смотрели на Тима и Аню. Смотрела на них и Люба. Высокий, голубоглазый брюнет Алтуфьев, над верхней губой у которого пробивались темные усы, рядом с хрупкой Аней казался этаким гвардейцем или, наоборот, бравым мушкетером из романа Дюма. С высоты своего роста он изредка поглядывал на Аню, но Люба никак не могла понять, что выражали его голубые с поволокой глаза. А Крольчевская капризно кривила маленький рот и сквозь стиснутые зубы что-то шептала меланхоличной Горелик. Басня кончилась, а вместе с ней и представление, разыгранное Додиковым, смысл которого был понятен всем, за исключением Любы и скорее всего Ани. На следующую басню «Квартет» в качестве автора Люба вызвала Крольчевскую. Яна, гордо неся красивую голову на лебединой шее, грациозно вышла к доске и бросила томный взгляд на Макса Друнова, соседа Тима:
– Макс, ты будешь Осел.
Едва затих общий смех, как Яна продолжила:
– А ты, Грозных, будешь Козел.
И снова дикое веселье. Люба тоже рассмеялась. Насчет Грозных было точное попадание. Но слов для Козла в басне не нашлось. Грозных вертелся вокруг своей оси и показывал кулак особо развеселившимся.
– Мартышкой будет Марина Пронина, а Соловьем – Ваня Пестриков.
Ребята читали басню, а Люба задумчиво посматривала то на Тима, то на Аню, то на Яну. Тим старался не смотреть на Яну, Аня простодушно смеялась, глядя на одноклассников, изображавших неудачных музыкантов, а Яна, скользя глазами по классу, как бы невзначай ненадолго останавливалась на Тиме.
На перемене Люба заметила, как Яна сунула Тиму записку. Тот зажал ее в кулаке, ничем не выдав их маленькой тайны. «Все ясно. Крольчевская и Алтуфьев плетут заговор. Жертвой стала Аня. Но зачем им это нужно? – страдала от своих догадок Люба. – Я знаю, что жестокости детям не занимать. Но это какая-то совсем уж бессмысленная жестокость. Что она им сделала? Неужели только потому, что сирота и что из провинции? Сегодня же поговорю с Аней. Только как начать такой разговор?»
Вечером она так и не смогла поговорить с Аней. Сначала девочка делала уроки, потом они с бабушкой изучали новый рисунок на круговых спицах – Мария Владимировна решила тряхнуть стариной, ведь когда-то она неплохо вязала. А ближе к ночи у Любы так разошлась ее «любимая» мигрень, что о серьезном разговоре и речи быть не могло. Пришлось отложить его на следующий день.
А на следующий день все и произошло. У Любы не было занятий, и она, проводив Аню в школу, занялась стиркой и уборкой. Мария Владимировна неважно себя чувствовала, поэтому не вставала с постели. Она поглаживала Мартина, который мирно спал, свернувшись калачиком рядом с ней, и наблюдала, как дочь стирает пыль с мебели. Внезапно она заговорила:
– Анюта мне вчера призналась, что ей нравится один мальчик из их класса. Она…
– Что? Она сама тебе сказала? А кто он? – резко спросила Люба, повернувшись к матери, и застыла с тряпкой в руке.
Мария Владимировна не ожидала такой бурной реакции от дочери:
– Да что ты всполошилась-то? Подумаешь, девчоночьи секреты. У кого их не было в тринадцать лет?
– Мама, тут дело не такое простое, как тебе кажется, – Люба села к матери на диван. – Видела я эти секреты во время урока. Похоже, о них знает весь класс, кроме самой Ани. Мне показалось, что ее вовлекли в какую-то грязную игру помимо ее воли. Над ней хотят посмеяться или на нее поспорили, понимаешь?
– Ой, батюшки святы, за что такая напасть, что она им сделала?
– Вот и я не знаю. Это поветрие такое нынче – «школьная дедовщина» называется. Как в армии. Над новичками да над слабыми издеваются, требуя денег, полного подчинения. Или делают это от скуки, ради развлечения, чтобы покрасоваться перед одноклассниками, вот, мол, какой я «крутой».
– Так что же получается – они и тебя не боятся?
– Мама! Они сейчас никого не боятся. Странно другое. Ведь я для них была авторитетом, с которым они считались. Так по крайней мере я до сих пор полагала. С учителями, которых они не уважают, обращаются нечеловечески.
– Господи боже мой! Раньше ты мне ничего такого не рассказывала.
– А зачем? Только расстраивать тебя лишний раз. Я и сейчас пожалела, что сказала, не сдержалась из-за Ани.
– Что же теперь делать, Люба?
– Пока не знаю. Мне еще не все ясно в этой истории.
– Бедняжка, она же влюбилась в этого парня…
– Она не назвала его?
– Нет. Я спросила ее, но вижу, что застеснялась, думаю, не буду девчонку пытать, сама потом расскажет.
– Ладно, пойду, белье развешаю. Машина, похоже, отключилась.
Люба развешивала на балконе белье, время от времени посматривая на парк. Он до сих пор был красив, хотя листва почти вся облетела. В серо-голубой дымке силуэты деревьев были слегка размыты, их ажурные кроны будто парили вместе с прозрачными облачками в поблекшем октябрьском небе. Почему так тоскливо на душе? Люба провела рукой по щеке и, перегнувшись через перила, посмотрела во двор. На скамейке возле подъезда сидела Аня и плакала. Люба в халате и тапочках выскочила из квартиры и, рискуя сломать ноги, помчалась по лестнице вниз.
– Анюта, что случилось? – спросила Люба, выбежав из подъезда. Она задохнулась от бега и предчувствия беды.
Аня подняла голову и посмотрела на нее заплаканными глазами. Это были не глаза, а средоточие невыразимой боли. Разве может так смотреть тринадцатилетний подросток? Наверное, может, если обида, которую ему нанесли, так тяжела и неподъемна, что падают в бессилье руки и весь мир вокруг кажется черным и колючим.
– Анечка, девочка моя, что с тобой? – Люба присела на скамейку и взяла Анину ладошку в свою.
– Ничего. Я ушла из школы, – едва слышно и сухо, словно шорох опавшей листвы, прозвучал Анин голос.
– То есть как «ушла»? – уже зная ответ, похолодевшими губами прошептала Люба.
– Совсем. Я туда больше не пойду, – все так же тихо, но твердо произнесла девочка.
– Так. Понятно. Нам лучше поговорить дома. Пойдем, – как можно мягче позвала Люба.
– Я лучше здесь посижу, – возразила Аня и упрямо уставилась в какую-то точку на асфальте.
– Анюта! Ты прости меня за легкомыслие. Если бы я знала, что это произойдет именно сегодня… Ведь я еще вчера вечером хотела с тобой поговорить на эту тему, но отложила разговор из-за мигрени. Вечно она не вовремя…
– На какую тему? – покосилась на Любу девочка.
– Может, все-таки дома поговорим? Ну что мы на улице будем такое обсуждать?
– Хорошо, – нехотя согласилась Аня и первой шагнула к подъезду.
Дома они закрылись на кухне. Люба включила чайник, достала из холодильника вчерашние котлеты, масло, сыр, вишневый джем.
– Нарежь, пожалуйста, батон, а я пока салат сделаю, – попросила Люба, чтобы хоть как-то отвлечь девочку от горьких дум.
Вдвоем они быстро управились и сели за стол. «Пусть сначала поест», – решила Люба и пододвинула к Ане тарелку с салатом. А сама, с трудом проглотив пару ломтиков огурца, отложила вилку – есть не хотелось. Она медленно пила чай и тихонько наблюдала поверх чашки за девочкой. Аня ковыряла вилкой котлету и отрешенно смотрела в окно.
– У тебя нет аппетита? – спросила Люба.
Девочка кивнула, переведя задумчивый взгляд на Любу. У той зачастило сердце, пропустив один удар.
– Аня, тебя обидел Алтуфьев? – без обиняков начала Люба разговор.
Аня вздрогнула, покраснела и опустила голову. Люба подождала какое-то время, но Аня молчала.
– Анюта, вот увидишь, тебе сразу легче станет, как только ты все выскажешь. Я по себе знаю. Что он тебе сказал, какую-нибудь гадость?
Аня кивнула и заплакала. Слезы градом текли из ее глаз, но сама она молчала, лишь иногда чуть слышно всхлипывала. Люба нагнулась к нижнему ящику стола, вынула оттуда чистую ситцевую салфетку и промокнула мокрое Анино лицо. Пришлось накапать в чашку валерьянки и уговорить ее выпить. Нет лучшего способа успокоить человека. Девочка и вправду вскоре успокоилась.
– И все же, Аня, нельзя прощать Алтуфьеву того, что он сделал. Если он будет чувствовать себя безнаказанным, значит, он еще раз совершит низость, и еще. И не только по отношению к тебе, поняла?
– Да, – еле слышно прошептала Аня.
– Когда это произошло, на большой перемене?
– Да.
– В столовой?
– На лестнице.
– На какой, на главной или черной?
– Возле физзала.
– Значит, на черной. Там, как правило, никого не бывает. Это он выбрал такое место?
– Да.
– Что он тебе сказал? Не стесняйся, Анюта, говори. Я многое слышала от своих учеников за тридцать лет. Меня ничем не удивить.
– Он… Он сначала сказал: «Я знаю, ты влюблена в меня». А потом показал мне «резинки» в разных упаковках и говорит: «Выбирай, какая больше нравится». И еще спросил: «Где ты предпочитаешь – в раздевалке или на чердаке?» Я сначала не поняла, а потом… Потом я хотела уйти, но он не отпускал. Зажал в углу и…
– Ну-ну, продолжай, не бойся.
– И говорит: «Чего ты строишь из себя недотрогу, сирота казанская? Думаешь, не знаю, чем вы, детдомовки, у себя там занимаетесь?» А потом предложил мне пятьдесят баксов. Я его толкнула и хотела убежать, тогда он схватил меня за руку и прямо в ухо прошипел: «Вякнешь хоть слово, покажу всем пленку, где ты на физру переодеваешься».
Люба вспомнила, что видела недавно семиклассников с видеокамерой. Выходит, все это может быть правдой, отвратительной, гнусной, не укладывающейся в рамки ее представлений об учениках, и все же правдой. В самом деле, она многое повидала на своем веку, но такого… Люба страдала так сильно, что у нее началась головная боль. Неужели для таких издевательств она привезла сюда девочку, и без того обделенную судьбой, беззащитную, слабую? Как она могла допустить такое? Почему не вмешалась сразу, как только заметила неладное? Люба даже тихо застонала – такой непереносимой была ее боль. Аня вдруг встала, подошла к Любе, прижалась к плечу, погладила по голове:
– Не переживайте из-за меня, ладно? Я придумала: в школу я больше не пойду, а стану работать. Дам объявление в газету и буду на заказ вязать. Я могу такие костюмы вязать, вы и не представляете…
– Погоди, Аня, что ты говоришь-то? Что ты придумала? Ведь тебе всего тринадцать – еще учиться и учиться. Какая работа? Нет! Я даже слышать не хочу. Вот что! Садись и будем вместе думать, садись, садись! На твоем месте я бы тоже убежала без оглядки оттуда, где меня обижают. Я представляю, каково тебе войти в класс и вновь увидеть этого подонка. А если предположить, что за тебя вступятся, что Алтуфьев будет наказан?
– Вы его потащите к директору?
– Хм. Значит, я, по-твоему, только на это способна?
– Не станете же вы с ним драться…
– Нет, конечно, хотя по морде бы дала с большим удовольствием. И это не исключено.
– Нет, я не хочу, чтобы вы марали об него руки. Все равно я в школу не пойду.
– А если мы поручим это дело Владу?
Аня встрепенулась, в ее глазах мелькнул интерес, но тут же погас.
– Он не захочет связываться с семиклассником, – неуверенно сказала она.
– По дороге в Сергино он мне говорил, как жалел в детстве о том, что у него нет братьев и сестер. А теперь у него есть ты, поняла? Разве ты ему не сестра? И разве он не обязан заступаться за тебя? Погоди-ка!
Люба пошла в прихожую, взяла с тумбочки свой сотовый и набрала номер Владислава.
– Владик! Здравствуй. Как дела? Нормально? А папа? Все так же? Спрашивал о нас? Почему бы ему не приехать к нам? В воскресенье, например. Ага. Я вот что звоню: ты сегодня сильно занят? Нет? Мы с Аней очень хотим поговорить с тобой. Да. Ладно. Ждем.
Люба вернулась на кухню. Аня испуганно зашептала:
– Любовь Антоновна, я Владу не буду рассказывать. Мне стыдно.
– Хорошо, хорошо. Я сама ему расскажу, не волнуйся, я постараюсь это сделать в деликатной форме. А ты в это время посидишь с бабушкой, ладно? А теперь иди, позови ее обедать.
Михаил Григорьевич Ложкин нервничал. Лабораторная работа в седьмом «В», к которой он так тщательно готовился, шла из рук вон плохо. Не помогало даже новое, сверкающее свежей краской, лабораторное оборудование. Ребята то и дело отвлекались: шушукались, смеялись, кидались записками. В конце урока учеников ждал очень эффектный опыт на специальном макете, который бы наглядно продемонстрировал действие изучаемого закона. Но и опыт, похоже, в этом хаосе будет смазан, не произведет должного впечатления. Учитель ходил по классу, делал замечания, возмущался, подсказывал, объяснял, угрожал двойками, но все было напрасно. На пятерку с работой справились лишь двое из класса – вдумчивая Лина Горелик и серьезная не по годам Аня Перевалова. Михаил Григорьевич похвалил девочек, не преминув поставить их в пример, после чего Марина Пронина громко фыркнула, а Додиков, как всегда, съехидничал: «Женщина должна быть либо красивой, либо умной». Грозных заржал, как будто прозвучала очень остроумная шутка, остальные не обратили на это внимание, так как каждый был занят своим делом.
За три минуты до звонка в класс вошел Владислав Чащин. Он едва заметно кивнул Ложкину, который ответил ему тем же.
– Внимание, ребята! У нас гость, Владислав Игоревич Чащин. У него небольшое заявление. Послушайте! – громче, чем обычно, произнес Михаил Григорьевич и отошел к окну.
– Я буду краток, – сдержанно начал Владислав, кашлянув и задержав пристальный взгляд на Тиме Алтуфьеве.
Алтуфьев побледнел и потупился. В классе наступила та вожделенная тишина, о которой так мечтал сегодня учитель физики.
– Я тоже учился в школе и помню многие неписаные законы, – продолжил Владислав, окидывая взглядом класс. – Один из них, особо популярный среди мужского населения, гласит примерно так: «Сила есть – ума не надо» или, как удачно выразился Крылов: «У сильного всегда бессильный виноват». Не скрою – на собственной шкуре испытал действие этого закона, и сам, увы, применял его в отношении своих противников. Но ни разу – против девчонок. Потому что в моем кругу, в отличие от присутствующих здесь вьюношей, незыблем был еще один неписанный закон – с девчонками не драться и силу свою на них не испытывать. Мы это считали западло! Прошу прощения за сленг, но лучше не скажешь. И в конце хочу предупредить – у меня черный пояс по каратэ, так что, если кому приспичит, – могу устроить спарринг. А вы, девчонки, обращайтесь, если что… Надеюсь, мы еще увидимся.
Не успел Владислав подойти к двери, как раздался ехидный голос Додикова:
– А вы черный пояс за спарринги с семиклассниками получили?
Грозных загоготал безумным смехом, но, увидев лицо Владислава, примолк.
– С семиклассниками, которые беззащитным девчонкам руки выкручивают в укромных местах, я справлюсь и без каратэ, – едва сдерживая гнев, медленно проговорил Владислав. – Просто размажу сопли на морде и дам хорошего пинка под зад, причем на виду у тех же девчонок. Как вам такое зрелище?
Он в упор посмотрел на Додикова, который не выдержав его взгляда, покраснел и потупился. Улыбнувшись самой очаровательной улыбкой, на какую был способен, Владислав вышел из класса.
Спустя четыре дня после разговора с Аней Люба шла по школьному коридору с кипой тетрадей в руках и классным журналом под мышкой. Она уже повернула направо, к учительской, как заметила в конце коридора стоящую возле окна Лину Горелик. Девочка кивнула ей и как будто сделала движение навстречу, но в нерешительности остановилась. Люба подошла к ней сама.
– Здравствуй, Лина! Ты что-то хотела сказать или мне показалось?
– Да, то есть нет. В общем… – замялась Лина, но Люба терпеливо ждала. – Любовь Антоновна, можно мне сесть с Аней?
– Пожалуйста, но почему ты меня спрашиваешь, а не Татьяну Федоровну?
– Я думала… Мне казалось, что вы не позволите Ане со мной дружить.
Люба задумчиво смотрела на девочку. Лина всегда отличалась не по годам развитым интеллектом. А характер ее был спрятан за семью замками, хотя главную его черту – независимость – Люба заметила давно. Лина никогда не шла на поводу ни у кого, даже у своей подруги Яны Крольчевской. Девочки дружили с первого класса, так как жили в одном доме и даже ходили в один детский сад. Но трудно было найти более не похожих друг на друга подруг, чем Лина и Яна. Яна – капризная красавица, избалованная родителями и повышенным вниманием одноклассников, вся на виду со своим тщеславием, стремлением к лидерству и ярким впечатлениям, ждущая от жизни только праздников, не терпящая рядом с собой конкуренток. Она и училась на пятерки только потому, что не хотела ни в чем уступать своей подруге Лине, которой учеба давалась легко в силу природного ума и воспитания. Лину растили мама и бабушка. Мама, редактор на телевидении, была занята с утра до вечера, поэтому главной в семье была бабушка. Педагог на пенсии, она отдавала всю свою нерастраченную любовь долгожданной внучке, появившейся на свет, когда ее маме было далеко за тридцать. Добрая, но требовательная, Софья Захаровна Горелик привила внучке любовь к книге и независимость мышления, умение отстаивать свою точку зрения и быть выше суетных мещанских интересов. Люба хорошо знала Линину бабушку, преподававшую много лет назад русский язык и литературу в их школе. Позже, когда Софья Захаровна была уже на пенсии и появлялась в школе из-за внучки, Люба, встретив ее в коридоре, обязательно беседовала с ней об учениках, школьной жизни, современных проблемах педагогики. Ей нравился живой, острый, парадоксальный язык старой женщины, ее не совсем обычные взгляды на жизнь, полное отсутствие бабьей тяги к сплетням, жалобам и лицемерному сочувствию.
– Вот что, Лина. Пойдем в мой кабинет и поговорим, – предложила Люба.
Они вошли в пустующий класс и сели друг против друга.
– Ты поссорилась с Яной? – напрямик спросила Люба.
– Я с ней не ссорилась. Просто мы… Мы давно уже не подруги.
– Когда ты это поняла?
– Давно. Еще в пятом классе.
– Почему же ты не рассталась с ней раньше?
– Я жалела ее.
– Ты ее жалела?!
Люба не ожидала услышать такое от семиклассницы. Впрочем, от Лины можно услышать и не это.
– Можно я задам тебе не очень приятный вопрос? Ты не обидишься?
– Нет, ведь вы уже как бы извинились за него.
– Лина, мне показалось, что на моем уроке, помнишь, где читали басни по ролям, ты была на стороне Крольчевской. Это так?
Лина опустила голову. На ее смуглом лице проступил едва заметный румянец. Люба поняла, что попала в самую точку, причем очень болезненную.
– Да, это так, – тихо ответила Лина и виновато посмотрела на свою учительницу.
– Может быть, я поступаю не вполне этично, расспрашивая тебя об этом… Но я сейчас не просто твой учитель. Для меня Аня, как родная дочь, понимаешь? Если бы ты знала, что она пережила из-за Алтуфьева…
– Я знаю.
– Откуда?
– Мы с Аней говорили об этом.
– Когда?
– Вчера после уроков.
Любу слегка задело, что Аня не рассказала ей об их разговоре с Линой. Она забыла, что и сама когда-то была не до конца откровенна с матерью, что и у нее были свои девчоночьи тайны, скрываемые от всех, кроме закадычной подружки. И все же мудрость педагога взяла верх над материнским эгоизмом.
– Я рада за тебя, Лина. И за Аню тоже, – просто сказала Люба. – Конечно, будет лучше, если вы сядете вместе. Мне кажется, что Пронина плохо относится к Ане…
– Да к кому она хорошо относится, эта подлипала и завистница? – резко спросила Лина. – Янка вечно уши развесит, слушая дифирамбы Прониной, а та потом ее же грязью обливает на ушко Жанке Сомовой. Я Крольчевской несколько раз говорила, чтобы не верила таким, как Пронина. А! Бесполезно!
– Мне кажется, они стоят друг друга – Пронина и Крольчевская.
– Да нет… – нехотя возразила Лина. – Янка дура, любит лесть. Ее хлебом не корми, лишь бы кто-то хвалил ее да по головке гладил. Она не может без этого и дня прожить. Ее так воспитали. Еще в детском садике она была королевой, единственной и неповторимой. Не подумайте, что я завидую…
– Я так не думаю. А ты разговаривала с ней на эту тему?
– Конечно. Много раз. Она сначала слушает, а потом начинает кричать: «Чего ты меня грузишь? Тоже воспитатель нашелся! Вы все от зависти полопались. С вашими фейсами помидорами на рынке торговать, вот вы и злитесь». Короче, я устала от нее. Пусть живет, как ей нравится.
– Лина, а кто придумал этот зловещий план?
– Насчет Алтуфьева?
– Да.
– Янка.
– А для чего? Ведь Алтуфьев влюблен в нее.
– Кх-м, – кашлянула Лина и покраснела. В этот раз густо, до корней волос.
– Погоди, я, кажется, догадалась сама. Яна решила расстаться с девственностью? Но и Алтуфьев в этом деле новичок?
– Да. Вы угадали.
– Господи, какая подлость и мерзость! Значит, Аню хотели использовать в качестве учебного пособия?
Люба даже встала и начала ходить по классу, чтобы выплеснуть распиравший ее гнев. Наконец успокоившись, она села и посмотрела на притихшую Лину.
– Лина, прости меня за несдержанность. Я надеюсь, что повод для таких разговоров больше не появится. Знаешь, в воскресенье мы снова собираемся в Третьяковку. Поедешь с нами?
– Можно. Хотя я там была несколько раз…
– Мне думается, что туда можно ходить всю жизнь. Но такие мысли приходят лишь с возрастом, – грустно улыбнулась Люба.
На большой перемене в учительской собралось человек десять. У Татьяны Федоровны был день рожденья, и она приготовила угощенье. Все сидели за большим столом, пили чай с тортом и разговаривали о быстротечности жизни. Вдруг дверь распахнулась и стремительно вошла Нина Николаевна, учительница химии, женщина несколько эксцентричная, с визгливым голосом. Она остановилась посреди учительской и, подбоченясь, крикнула:
– Дожили, господа! Приехали, дальше некуда!
– Что случилось? – спросила Татьяна Федоровна.
– Иду мимо черной лестницы, а в закутке, где уборщицы тряпки свои держат, Алтуфьев с Крольчевской целуются.
– Ну-у, Нина Николаевна, «удивили»! Да они на дискотеке еще не то вытворяют, – с ироничной улыбкой сказала учительница биологии Скворцова.
– Я что-то не пойму – вам все равно, что ли? Семиклассники скоро сексом под всеми лестницами будут заниматься, а мы спокойно чаи распивать?
– Нина Николаевна, садитесь, я вам чаю налила, – пригласила Татьяна Федоровна. – А родителей Крольчевской я уже вызвала в школу.
– Нет, вы как хотите, а я не могу успокоиться, – садясь за стол, продолжала возмущаться Нина Николаевна.
– Боже мой, святая наивность! – хохотнула Скворцова. – Вот если бы вы, Нина Николаевна, под лестницей застукали, к примеру, меня с Михаилом Григорьевичем, вот была бы сенсация.
– Это верно, – поддакнул Михаил Григорьевич, чуть не подавившись тортом.
– Я вчера записку в раздевалке с полу подобрал, – подключился к разговору физрук Лопасов. – Нина Николаевна, вам лучше уши чем-нибудь прикрыть, а то как бы чего…
– Ну, и что там, не томите! – Скворцова от нетерпенья подалась вперед.
– Текст такой: «Ленка, ты уже трахаешься или еще целиной нераспаханной ходишь?»
Скворцова захохотала так, что задребезжали ложки на тарелочках с тортом. Нина Николаевна, закатив глаза, издавала невнятные междометия и махала руками, а Михаил Григорьевич крякнул и покраснел. Люба, молчавшая до сих пор, поинтересовалась:
– А в каком классе вы проводили урок?
– В девятом «А».
– Уж не Воропаевой ли Елене вопросик адресован? – блеснула глазами энергичная Скворцова.
– Может, и Воропаевой, – пожал плечами Лопасов. – Интересно другое: кто написал эту записку? И вообще…
– Вот именно! Вообще! Если посмотреть на это явление в целом, то жить не хочется, – мрачно изрек трудовик Колбасенко.
– Ой-ой-ой! – ирония Скворцовой перешла в ядовитый сарказм. – Давайте устроим коллективный суицид, а в предсмертной записке напишем: «В нашей смерти просим винить сексуальную революцию в седьмых классах». Дурдом!
– Да вы не поняли, Наталья Леонидовна! – одернул Скворцову трудовик. – Я имел в виду, что нас, в нашем возрасте, списывать пора на пенсию, в утильсырье. Если кто-то из семиклассников узнает, что мы все еще занимаемся любовью, нас засмеют.
– Это как посмотреть, Илья Сергеевич, – не согласилась Скворцова. – Если вы только о сексе говорите, так сказать, не в контексте любви, то надо смотреть на него как на спорт. Держи себя в хорошей спортивной форме – и никакой возраст не помеха. Занимайся этим хоть до ста лет. Кстати, сейчас импотентов среди молодежи гораздо больше, чем среди, как вы выразились, «утильсырья».
– Ну пошли-поехали! – проворчала Нина Николаевна. – Туда же, куда и ученики. Ваша бы воля, Наталья Леонидовна, так вы бы еще один физзал оборудовали, для этого вида спорта. Зачем же ютиться под лестницами, давайте, вперед – и флаг вам в руки!
– Но нельзя же закрывать глаза на их сексуальную озабоченность! – возмутился Колбасенко. – Надо что-то делать! Получается, что мы, педагоги и наставники, абсолютно беспомощны в жизненно важных вопросах и не умеем направить их на путь истинный. Только и можем талдычить новый материал и ставить двойки.
– А я согласна с Ильей Сергеичем. Мамонты и динозавры нам имя. Если смотреть с колокольни наших учеников, – вздохнула Татьяна Федоровна.
– Вот это вы и скажите родителям Крольчевской, – сострил Михаил Григорьевич.
– Я бы нашла, что им сказать, – серьезно сказала Люба. – Когда они должны прийти?
– Придет скорее один отец, завтра после занятий, – ответила Татьяна Федоровна.
– Еще бы! – фыркнула Нина Николаевна. – Разве мадам Крольчевская соизволит снизойти до какой-то там школы? Эта крутая бизнесвумен в евро оценивает свое время, не иначе.
– Что же эта крутизна в обычной школе держит свое чадо? Денег жалко на частную гимназию? – поднял кустистые брови Колбасенко.
– Да что вы! – махнула рукой Татьяна Федоровна. – Мать два года воюет с ней из-за этого. Ведь дочь ей имидж ломает своим упрямством. Как же! В ее кругу все по Англиям да Америкам, а эта уперлась – не пойду в другую школу, и все тут! В Алтуфьеве все дело.
– Да-а. Любовь. Высокое чувство, – мечтательно произнес Колбасенко. – Ради него Крольчевская, можно сказать, в декабристки подалась. А мы ее склоняем на все падежи…
– Не торопитесь поднимать их на пьедестал, – сухо возразила Люба. – Знали бы вы всю подноготную этой любви…
Прозвенел звонок. Все зашевелились, вставая и направляясь к двери. Нина Николаевна, взяв Любу за локоть, удержала ее в учительской:
– Любовь Антоновна, не знаю, что вы имели в виду, говоря про «подноготную любви», но я сегодня на уроке заметила, как Крольчевская шушукалась с Прониной, а та бросала записки Додикову. Этот Додиков буквально не дает покоя Ане с Линой Горелик. Девочки сейчас пересели на средний ряд, как раз перед Додиковым с Грозных…








