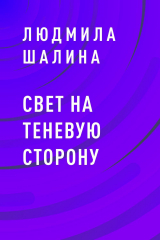
Текст книги "Свет на теневую сторону"
Автор книги: Людмила Шалина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Туман рассеялся. Заголубела ветошь дачных заборов и сарайчиков. Птичками в пространстве качалось детское белье. Вот и Белев.
Вячеслав гостил у матери, спал в узкой комнате на раскладушке. Над ним ширился ковёр с подвернутой наверху каймой, – не хватило места распластать покупку «во всю ивановскую», – Гулов усмехнулся.
В комнате стоял перед трюмо арабский пуфик. Вынести его в другую комнату, поставить комбайн с красками Вячеслав не решался. Сел на пуфик, подстриг бороду, провел пальцами по вискам и настороженно глянул в зеркало.
На летние каникулы приехали в Белев дети Вячеслава. Ездил с ними на велосипедах в лес. Ходили втроём на рыбалку. Вячеслав нырял с Алёшей в воду, хотел поднырнуть глубоко, а там оказалось мелко, – набил себе на лбу шишку.
Отчим приходил с работы, садился уплетать курятину с лапшой и добродушно подсмеивался : «На вас не наработаешься». Родной отец, убитый на войне, так не попрекнул бы, подумал Вячеслав и решил отшельничать на дачном участке.
Там устроил мастерскую. Тринадцатилетняя Катюша в белой панамке, сидела у цветущего куста сирени, наблюдая за отцом. Одна, другая, третья кисть, – как инструменты точного хирурга, ложились в этюдник и надобились вновь, чтобы высвободить во вторую жизнь излом губ, свежесть розовых ноздрей, прописать в растекшихся ресницах тревожный и серьёзный взгляд. Ткал и ткал упругими мазками световоздушную цветоплоть и твердил наболевшее, – «искупить»…
Алёша стоял за спиной отца, но брать кисть при нём стеснялся.
Гулов закончил через две недели портрет, и проводил Алёшу с Катей на вокзал. Дома упаковал ещё сырые холсты, приложился к вялой щеке матери, ощутив убывающую жизнь: «Прости, мама, надо ехать». И отправился в Энск.
Тем временем Раиса в отсутствии Вячеслава решила ловить жар-птицу. Взяла отгул на три дня. Валилась на диван от усталости, кидая на валик начинавшие отекать ноги. Но все же хватило сил угостить друзей за помощь.
Когда Вячеслав вернулся, своей квартиры не нашёл. Там жили чужие люди.
Помыкавшись с вещами по медгородку, побрёл по названному адресу. Открыла Рая. Обвёл глазами квартиру, завешенную его этюдами, недоконченными холстами. Прошёл во вторую комнатушку и завалился спать на свой диван. На другой день приступил к работе.
В полдень зашёл в ординаторскую выпить чаю.
Перед Гуловым сидел молчаливый патологоанатом Петя Рубов. Гулов ждал, пока остынет чай, и захотелось ему выговориться:
–…Приезжаю из отпуска, ключ от квартиры не подходит. Звоню в дверь. Открывают: «Солодовникова обменялась». «Адрес, я надеюсь, мне дадите»? «Отсюда третий дом».
– Шел бы в общежитие, – подсказал Петя Рубов.
– Может сразу в бомжи?
– Бери пирог, благоверная пекла.
– Нахожу дом, звоню. Раиса глаза накрашенные прячет, чуть не прыскает от смеха. Думаю, опять тут вакханалия. На ней платье новое, другая стрижка и косметика. Картины мои развешены, цветы повсюду, как юбиляру. Сними картинки-то, – говорю, – не позорь! И всё приводила доводы, что у меня теперь мастерская. А с долгами рассчитается сама.
– Мастерская-то хорошая?
– Ага, вагончик на семь квадратных метров. – Вячеслав допил чай и сбил щелчком пальца муху с сахара. – Хватит с меня анонимок. А там поживём, увидим…
................................................................................................................................
Ветлова сдала заказчику работу по реконструкции завода. Сходила в магазин. Стояла и ждала перехода. У железнодорожного переезда скопились люди. Над головой сквозь листья тополя бродили звезды. Образуя крону, листва шевелилась, как извилины в мозгу и глянцевая сторона их загоралась светом.
…Предупредительный звоночек, какой-то странный. Как на поплавке звонок, – осторожно вытягивал из переулка, из мглистой сырости листьев влажный товарняк. Что там, звёзды? Уголь! Товарняк, как жизнь назначенная, длинный, длинный и пустой. Раскрыты жадно все засовы, и неотвратимо ползет косой голодный свет от фонарей по дощатому настилу вагонов. Доски высвечены в ощерившихся, как пасть, воротах, – все прощупаны, проверены наперечет.
Всосался темнотой в мокрую листву Кащей товарняка. Умчались по желтушной улице заждавшиеся машины, перемигиваясь красными сигналами. А звон остался в ушах, в снующих живыми щупальцами листьях…
Отдохну, – решила Ветлова, – съезжу завтра в Москву.
Электричка была почти пустой.
Из окна в окно гулял свободно ветер.
Состав раскачивался, проминая шпалы,
Был ощутим до самого последнего вагона
Своей инерционной тяжестью и силой,
Устраняя горечь на душе.
Портьерой с кистями провисла бахрома на ели.
И ветки мягко развела, – утешила вдогонку.
Закрутились, закружились кутерьмой по ходу поезда
Нежные стволы берез, перебегая друг за друга.
Их много, масса бестолковая, легкая, вся в пачках – кипит, бушует.
И меняются кулисы, остывает пыл хоровода, уходящий в рощу.
В глубину той чистой, как классический танец, рощи,
Землей, цветами, травами идёт из электрички к ним.
В фосфорически-зелёной глубине кружение всё тише, тише.
Удержи слезу – в Малоярославце сейчас сядут люди.
И повезет её состав по длинной жизни дальше…
Мама встретила Веру в знакомом платье из поплина, на груди всегда её родонитовая брошка. …Опять ведь мама, недоучившийся искусствовед, начнет толковать своё: «Люди стремятся…» Мама теперь молчит.
На другой день Ветлова пошла в Третьяковку. Андрей Рублёв. Отец, Сын и Дух святой любовно склоняются над чашей Святых даров и в тишине сердечной находят между собой согласие. «Троица». …Мне бы так.
Возвращалась домой, встретила Колю Сергучёва. В переулках у метро была его мастерская.
– Слышь, мне кто-то говорил, ты из Москвы уехала? Это липа?
– Береза.
– Березовым веником значит шпарили? Ну и как, заработки и все прочее? …Усек. Давай теперь в нашу шарашку! Люди стремятся, люди стараются! Но без знакомств сюда не сунешься. Боцман меня сюда устроил. Без него я бы пропал. А таких, как ты, шебутных, жизнь в два счета облапошит.
– А что за шарашка? – вспомнив прежнего «слона».
– Оформительский комбинат!
– Архитектурой занимаешься?
– Она теперь и даром не нужна – много чертиловки.
– Фанерные стенды с рекламой делаешь?
– Коля Сургучев высокими понятиями не спекулирует. У меня дело точное и чистое! Технические проспекты разных марок станков, автомобилей.
– Ты же на защите горой стоял за архитектуру!
– Волки архитектуру съели. Она дама капризная, благородное уважение к себе предпочитает, хорошие туалеты. Такие заказы у нас иногда бывают, но их надо брать, как рака за усы. Боцман это дело разучил основательно.
– Он защитил диплом?
– И без диплома башковитый. Кого хочешь, наколоть может, хоть заказчика, хоть исполнителя, а своего не упустит. Помнишь Грету Козлову? Козочка теперь у нас! Большим успехом пользуется. Вся в мехах, и заказы хорошие ей перепадают. Найдешь себе покровителя, будешь, как она – на пару. А без «этого самого» работать у нас трудно. Запиши телефон мастерской.
Оценив строгий вид Ветловой, Коля признался:
– Знаешь что… – почесал висок, – собираюсь в Бога уверовать. Давай на пару.
– Я подумаю. – И они расстались.
Дома заводила пластинку «Stabat Mater» Перголези. Мама слушала о муках Богоматери сквозь закрытые двери, не приставая к дочери с вопросами. Когда Вера появилась на кухне, предложила взять внука к себе в Москву.
– Я подумаю. Прости, я должна ехать, – и отправилась в незабвенный Энск.
33. Ничего общего – таково решение.
Было воскресенье. Юра пришёл домой рано. Кошка гуляла на улице, не успев своим изящным появлением оттянуть домашний конфликт. Юра набросился на жену, грубо оттолкнув за плечо от раковины:
– Спиной-то не стой! Слышь! Подними лицо, – держал её за подбородок. – Сам вымою, смотри в глаза. Прихожу к твоей Раечке в новую квартиру, а там и без меня уже клиенты… «Заходи, – говорит, – новоселье отпразднуем, мой в отпуске. К мамочке уехал». Сидят, вороты распахнуты: «Мы, – говорят, – медбратья из прозекторской. Ты третий будешь»… – Юра пригнулся, будто хотел поймать у Веры в глазах птичку. – Нехорошо там у них, – и покачнулся довольно рискованно.
– А сам?
– Был хороший! – заверил с готовностью, схватив стакан, как поручень.
– Кто ей вещи таскал?
– Что, я мебель должен ей таскать?! …Пи-ить дай! – оттолкнул от раковины, пустил с шипением и брызгами воду. Чувствовал себя теперь героем, так как очередная бредовая идея Ветловой не удалась. – …У-ух, всех бы вас автоматной очередью! – стукнул стаканом по краю раковины. И тут начался такой дебош с битьем посуды, которого в доме Жилкиных ещё не бывало.
Вера не заметила, как на пороге появилась Серафима Яковлевна с мужем.
На Симе было цветастое платье, в руках цветы. Для дружных пожилых супругов прогулка с дачного участка это, что идти из театра. Однако лицо у Симы было усталое, шея обгорела, на носу выступил пот.
Фрукты и овощи, часть их приходилось через два-три дня выбрасывать. На помощь Ветловой надежда бесполезная. Да и в кладовке у Серафимы было ещё полно законсервированного нечто с прошлого года.
Вера не была пристрастной дачницей. Но всё же вскапывала весной вместе с Жилкиными огород, осенью обирала ягоды.
Серафима Яковлевна сняла туфли, положив в них сырые подследники, надела тапочки, которые припасла в квартире сына, прошла в кухню.
– Опять у вас скандалы? – потемневшие глаза недобро пропечатались на сыровато-мучнистом лице. Из корзины, которую Иван Аристархович тихо поставил сзади жены на скамейку, невинно благоухала клубника.
– Приехала тут свои порядки наводить, – сказала Сима. – От твоих порядков любой, кто хочет, сопьётся.
– Чё ты, ма, мы о Раечке мирно беседуем. Жена сватать за неё хочет.
На этот счёт у Серафимы Яковлевны имелись свои соображения.
– Где был с утра? Обещал на дачу с нами идти. Всё отец да мать за тебя делают.
– Работу заканчивал. Потом в гости к одной мадам наведался.
– Вы ещё вчера к обеду хотели закончить, – напомнила мать.
– Вчера не успели. Севка подвёл. «Вставай, – говорит, – закуривай, снизу поглядел, подправить хочу маленько! Ты от эскиза отошёл!» – забрал колера и давай переписывать. Мука с ним, будто эти плафоны кто разглядывать снизу будет.
– Как же Пересев может переправлять сделанную тобой работу и тебя не слушать? А ты ему даёшь! Сам с высшим образованием, он без высшего. Почему ваш начальник за вами плохо смотрит?
Отец прислонился к стене, заложив руки за спину, послушал жену и, не решив составить о предмете суждения, прошёл в комнату. Сел на тахту, стукнулся пяткой о скрипичный ключ и вежливо пересел на стул. Мать заглянула следом:
– До сих пор от своей обузы не избавились. Квартиру новую захламили. Делает никому не нужные работы.
Сима вернулась на кухню, села перед Верой и не знала, как начать деликатный разговор, – то ли прилюдно, то ли один на один.
Но дольше держать на душе Сима не могла. Отец остался сидеть в комнате. Иван Аристархович охотно бы поговорил с сыном, например, о Чехове, которого недавно перечитывал. Но сын был навеселе. А с невесткой беседовать стеснялся. Вера стала собирать в ведро осколки. Отец удивился звону и пришёл попросить стакан холодной воды. Вера подала.
– Медицине всё известно, – начала Сима заготовленную речь, невольно приглашая в свидетели собственного мужа, – …всё ведомо, как ты мужа своего, сына нашего позорила в доме Гуловых, что он у тебя пьяница, плохой художник. Так не сватают. Руки-ноги Рае целовала, свидания с Гуловым в доме у неё выпрашивала, когда Раиса пойдет дежурить в ночную смену.
Вера вспыхнула от удивления…
– Медицинским работникам всё известно, – спокойно продолжала мать. – Я сама медицинский сотрудник, – у меня там жен-чина знакомая работает.
Вера заметала веником битые остатки у ног Юры.
– …Хотя бы извинился, Жилкин, за свое хулиганство.
– Чаво?! – возмутился Юра.
– А что он должен извиняться перед тобой? – не вынес Иван Аристархович такого человеческого свинства. – …И сын наш тоже любит выпить, это правда, Сима. – Отец стоял, потупив взор, смотрел на благоухающие ягоды, будто в корзине лежала не клубника, а очковая змея.
– Бери клубнику, – уже не зная, что сказать, произнесла Сима, в какой-то степени сама заинтересованная хозяйской жилкой Раи. – Бери сколько надо для варенья и поесть свежего мужу и ребенку. Остальное с отцом домой возьмём.
– Спасибо, мне клубника не нужна. Миша, пошли! – обняла сына за плечи и повела сникшего в его комнату. Хотела закрыть за собой дверь, но Юра двинулся за ними, хлопая босыми ногами, решительно схватил дверь за ручку:
– Слышь, пигалица, извинись перед матерью, что клубнику не берешь! – веселился Юра, не придавая теперь ничему серьёзного значения, а главное, что Гулов был ему теперь не страшен. – Есть подай! – приказал жене через дверь.
– Дам, когда мать с отцом уйдут…
Или Ветлова всерьёз собирается его кормить? – пьяно соображал Юра. – Что он, сам заправиться не может? – стал дергать дверь.
– Михаил, иди к нам. Твою мать надо в психушку на Бушмановку, она от клубники на крючок запирается, – и поставил под дверь блюдце с ягодами.
Миша начал плакать.
– …Она и за Юру-то нашего пошла, что он такой у нас в роду парень, и заработать горазд, хоть и выпьет иногда по службе, а деловой, и в производстве видный. Фото делает хорошие. Машину скоро свою водить будет, – напомнила Сима. – А супруга твоя ничего видного из себя не представляет, дома своего, как полагается, не ведёт, – с осуждением посмотрев на блюдце, поставленное под дверь, как бездомной кошке.
– Одно из двух, или будешь меня кормить, диз-зяйнер, или перед матерью извинись, – Юра стал дергать дверь все настойчивей.
Крючок сорвался с петли. Вера метнулась подпереть дверь плечом, волна давно сдерживаемого гнева поднялась по всем капиллярам, разрывая отчаянием сердце. Хотела что-то им крикнуть, объяснить, чтобы не захлестнуться яростью:
– Уходи! Уходите отсюда немедленно! Все! Все уходи… – гнев перекрыл дыхание, и она внезапно упала в откатившей волне, как рыба, вышвырнутая на песок.
Шторм утих. Юра распахнул дверь:
– Глупая ты баба, тебе клубнику положили на тарелочку, а ты в обморок от неё падаешь. Иди есть! Не нужны мне твои вчерашние щи! – стал собирать рассыпанную клубнику, давя её от растерянности ногами.
Вера встала, держась за стену, вышла на подъезд. Села на ступени ждать, когда отец и мать уйдут и заберут с собой Юру. …Слезы полились, как в затишье дождь.
В квартире плакал Миша. Он боялся идти к ней, потому что мама его была в чём-то не права, и понять этого он не мог.
Вера опасалась, что соседи застанут её в таком виде, и стала приводить себя в порядок.
Дверь открылась из её квартиры, Миша сел рядом.
– Рыжик, принеси попить, туфли, сумку, и пойдем с тобой куда-нибудь.
– А туда к ним не пойдешь?
Миша вынес, что она просила, и они спустились вниз..
– Поехали к дяде Славе в Анненки, – предложил Миша.
– Он уехал к матери.
– Тогда пойдём к Плюшевым и к его котам. А потом поедем к дяде Севе и к его псу Дружку.
34. Визит к Бурлаковым.
Дверь к Плюшевым была не заперта.
– Кто?! – спросил Гриша. – Проходите, сейчас оденусь.
Всё у них было по-прежнему, продолжался ремонт. Плюшевый сидел на диване, накинув на голое тело розовую рубашку, и читал Маркеса «Сто лет одиночества». Рядом спали три сиамских кота. На полу лежала кипа растрепанных журналов «Творчество».
– А где Зоя?
– А…, – махнул рукой, – у неё депрессия.
Вера поняла, что Зоя опять в больнице. Надо бы к ней сходить.
– Каким ветром? – спросил Гриша. – Давно тебя не видел.
– Да вот, с Жилкиным развожусь.
– Ясное дело… Я на днях тоже собираюсь разводиться.
– Не жаль Зою?
– А тебе Жилкина твоего не жалко? Ты никогда этого не сделаешь, потому что тобой руководит инерция порядочности. Для благонравных шаг рискованный.
– А что ты имеешь против инерции порядочности?
– У человека нет смелости, дерзаний, скучный, он становится – решил испытать серьёзность её намерений Гриша. – Покусывает, да и только. Не можешь, как я, например, подпалить свой дом, заодно весь царапкоп, а потом ахнем с тобой куда-нибудь в новое место. – Маленький колючий зрачок заблестел, испрашивая у неё иную цену земных истин.
– Мам, пошли! – сказал Миша, наигравшись с котами.
– Что за человек Гулов?
– …Можно я тогда подожду тебя внизу? Только давай поскорее, а то к Дружку опаздаем.
– Гулов-то? – переспросил Гриша. – Не живой.
– Как?
– У Юрки твоего есть ещё возможность переступать и переступать черепашьими шажками своё соображение. – Гриша показал по журнальному столику двумя пальцами, как Юра идет, не твёрдо, но настырно. – Этим движением он жив, этим ведом. Ему не всё ещё доступно, перед ним не всё «бито», верит в чепуху. Посредственность, – она более живуча, и нравственной силы у неё больше, – так называемая основная народная масса. А такие как Гулов делают в своей башке размашистый шаг, а поле деятельности уже засеяно придурками. …И привет!
– А ты? – спросила Вера.
– О, мне ещё добирать и добирать. Я ничего истинного в жизни пока не испробовал. Мне многое недоступно.
– Как добирать собираешься? Черепашьими шагами?
– Зачем, людскими, с народом заодно. Я в них вливаюсь, и отлиться мне некуда. Разве что в монастырь? Теку попутно, а они меня пока не слышат. – Гриша вздохнул и продолжил, – Зойка талантливей меня. Дочь вся в мать, но тоже хроник. Женщины вообще живучей. Их естество не подлежит инфляции. А от меня одно название осталось, Плюшевый.
– Ты самокритичен слишком.
– Раньше, может быть, и не таким был, когда ещё верил в возрождение, …хотя бы год назад. Опыт на тебе поставил с «воинственным ангелом». А теперь главная задача, чтоб нам не умереть где-то посередине, продолжая передвигаться. Помер раньше тела своего, и никто не чует, как от твоей души тухлятиной прет, будто запах вполне обычный. И даже на похороны никто не пришёл, не всплакнул, не помянул …хотя бы проклятьем душу твою угасшую. Живи дальше, не отметив дня, месяца и года, когда окачурился. – Гриша передохнул, распаляясь всё больше:
– Может у нас тот факт загнивания на корню ещё в детстве произошёл. Не так родители цветок свой поливали, обильно слишком, – изучая Ветлову. – Ну как, Вера, балована подливками, к ним в Москву теперь подашься? Страшен я тебе? Но ещё надеюсь на воскрешение. Воскреси! – в глазах блеснул дерзкий вызов. – Губы у тебя слишком безвольные. Не с ними тебе воевать. – Встал с дивана, зашел сзади неё за стул. – Дай, поцелую хоть раз! – разнимая от лица её руки.
– Гриша, ты с ума сошел!
– Почему? Ты разводишься, я развожусь. Семейная жизнь для женщины главная опора. Что дальше делать думаешь?
– Ударю тебя по лицу, чего бы мне очень не хотелось.
– Для такого поступка ты слишком добрая. Брось меня дурачить. Ты же не святая. Со своим Юркой давно, наверное, не живешь. – Он ловко, с неожиданной силой поднял её подмышки и хотел перетащить на диван. – Женщина, воскреси!
– Гриша, ничего подобного я не ожидала! Хотела бы тебя уважать! Слышишь, отпусти, …я люблю Гулова.
– А…, – Гриша сразу сел. – Я бы тоже хотел уважать всё человечество.
Ошарашенная новым конфликтом, не в силах идти, Вера села перед ним на стул, желая убедить себя только в одном, что Гриша, человек не такой уж скверный.
– Люби его! Что передо мной сидишь? Что ж не к нему пришла, а ко мне? Люби! Где он? А я могу хоть завтра все мосты сжечь и капитальный ремонт забросить. Поехали в Москву! …Только я тебе не нужен, – он поморщился и закурил. – А тебе острастка впредь, – с Жилкиным не разводись. Ещё не на такого лохматого, как я, напорешься. И не отпустит.
– Григорий, кто пришёл? – раздался голос Зои из соседней комнаты.
– Разве она не в больнице?!
– Спит третий день, – сделав скучное лицо.
Зоя в ночной рубашке и с котенком на руках появилась на пороге. Пыталась улыбнуться отечными глазами, но лучики вокруг глаз пошли усталые:
– Я тут приболела немного. Сейчас чайник поставлю…
– Нет, нет, меня сын ждет внизу. Может тебе что помочь?
Зоя села на стул, запахнув халат, и закурила:
–…Выгони его! – указав на Гришу. – Плюшевый меня обворовывает. Этого ещё никто не знает в фонде, как он всю жизнь меня использует. Лишил всего – собственного имени, мастерской. Сказал, что мне ни к чему вступать в союз, потому что все мои лучшие работы приписал себе. Незачем, говорит, мне лезть в это пекло, воевать с «императором». Достаточно его собственного участия в худсовете. – Она сделала глубокую затяжку сигаретой и закашлялась. Раньше Вера не видела, чтобы Зоя курила.
– Теперь Гришку из худсовета выгнали… Когда-то он подавал большие надежды, был талантливей меня. Теперь занимается ремонтом. А мне сидеть с ним в бесконечной разрухе, – не ад? Он будет неизвестно где шляться, неизвестно кого водить в мастерскую, а я сиди дома и эскизы ему готовь!
– Ты же сама хотела оригинальничать в пошлейшей производственной халтуре.
– Вот ты какой, вот какой стал! Всю черновую работу делаю за него, а у меня даже пенсии хорошей не получится.
– Пошли, Ветлова, провожу тебя до троллейбуса, – сказал Гриша.
– Я не собираюсь с тобой идти!
– Иуда! Никто не знает твоего истинного лица. Но я всю жизнь молчала из-за своей болезни. Боялась тебя потерять. – Зоя ясными глазами смотрела на них. – Если бы я не верила Ветловой…
Мучительная неловкость и сочувствие к двум одарённым художникам не покидало Веру. Выручил Миша, появившись на пороге:
– Мам, ну, сколько тебя ещё ждать?
– Сейчас идём. Зоя, может тебе что помочь?
– А, – Зоя махнула рукой, – здесь никто и ничем не поможет! Вот лучше буду себя чувствовать, найму людей и сама закончу ремонт. От одного ремонта с ума можно сойти. – Потушила сигарету и вернулась к себе в комнату.
– Мы пошли, – сказала Вера.
– Иди, иди, голубка мира. – Гриша вышел на площадку и добавил в лестничный проем. – Ветлова, не бери в голову и умей прощать. Я их никогда не брошу. Без меня они…, а…, – махнул безнадёжно рукой и закрыл за собой двери.
– Мам, – Миша взял её за руку, – почему ты всегда молчишь?
…Вера не заметила, как они сели на автобус, миновали детский санаторий, в котором работала Серафима Яковлевна. Сошли на остановке, оставив позади городок Анненской больницы, и оказались под небом в высокой траве, где затерялся впереди ещё не снесенный деревянный домик.
– Мам, а про папу знаешь, что бабушка мне говорит, чтоб я не молчал, как ты, когда он выпивший, рассказывал ему что-нибудь…
От Веры отскакивали холодные искры, как от камня.
– Мам, почему всем плохо и никто ни в чём не виноват?! …Или обратно, все виноваты – и ты, и я, и папа, и даже бабушка и дедушка, и все молчат. Вот и получается, как вор – правду скрал.
– Скрыл.
– Я боюсь быть вором. Мне пионервожатая говорила, что я ехидный и скрытный. …А правда у всех точь-в-точь похожая?
Вера вдруг прислушалась к сыну:
– …Чтобы было точь-в-точь, надо подниматься по высокой-высокой лестнице и найти Правду Общую. Тогда пойдет от неё повсюду большой свет.
35. Пересеевы.
Потянуло влагой от Оки. В одном из домиков жили Пересеевы. Дорожки едва заметные в траве вытоптали они сами, их старый лохматый пес Дружок и давно нечесаный увалень кот.
Кто-то приоткрыл у дома калитку, и Дружок весело побежал их встречать.
Отец Севы был старый чекист, оставил молодым полуразвалившийся дом, чтоб они научились хозяйничать, уважать землю. А сам с женой получил квартиру в городе.
Вера и Миша, ведомые впереди Дружком, вошли во двор.
Жена Севы, миловидная Галя, в джинсах с декоративными заплатами мучилась над помидорами. Подняв лицо, улыбнулась и продолжила дело.
Сева, нагнув голову, появился на пороге своей пристройки-мастерской со стеклянным потолком. Грудь его была измазана глиной. Помолчал в знак приветствия, с довольным лицом нагнул голову под притолоку и вынес впечатление от гостей опять в мастерскую.
Вера присела на лавку ждать. Ходило за двумя немногословными людьми эхо, повторяя их дыхание, роились звуки от невидимых в траве предметов: вёдер, леек. Ветерок уносил их звяканье с лаем пса в сырую приокскую пойму.
Галя вымыла руки, надела юбку, прошла в комнату. Голосок у неё был как у карлицы, хотя рост высокий и сама стройная. Тоже была художницей, но заказы брала редко. Сева не разрешал лишний раз ходить в царапкоп и рыцарски берёг жену от пустой работы.
Сева был чеканщиком, скульптором, живописцем, хотя никаких специальных учебных заведений не кончал и не так мастеровит, как Юра Жилкин.
Недавно Севу избрали парторгом.
Отец приучил его к жизни простой, к разумному самоограничению, но не сказал, как ему воевать за правду, потому что раньше она была понятна и чиста, как новорожденный ребёнок. А сейчас правда-матка обросла бородой давних грехов. И сколько Сева не толковал отцу: «Жизнь – это не пафос, а здравый смысл, – оба делали вид, что друг друга не понимают. – Написал стенд или лозунг, – получай рубли!»
Однако по всем приметам семья Пересеевых была счастливой. Везде чувствовались руки Гали, расшитые куклы в цветастых одеждах, занавески в декоративных заплатах, лоскутные покрывала и абажуры. Кусочков ткани часто не хватало, чтобы сделать дом достаточно уютным.
Бывают такие семьи, которые живут, не страдая от излишков или недостатков ума, таланта, материальных благ, не задевая никого своим существованием, не задетые духом соперничества.
Долговязый Сева отложил работу, надел свежую рубаху, поднял белый воротник и сел как граф задумчиво пить с гостями чай.
Но в работе Сева был болезненно застенчив, кропотлив до самоистязания, – не доверял себе. Помочь бы ему профессиональным советом, – подумала Вера. Однако все невнятные варианты его эскизов казались жене гениальными.
– Сева, можно после чая мы посмотрим, что ты делаешь в мастерской?
Он отрицательно покачал головой.
Этот просмотр для него, – догадалась Ветлова, – как идти к зубному врачу. Вдруг зуб вырвут. Пускай уж болит.
Чай пили молча. Маленький сын Ефим тянул из блюдечка. На столе кроме пустой сахарницы было немного масла в керамической мисочке и свежий черный и белый хлеб, показавшийся Вере и Мише очень вкусными.
– Ой, у меня же молоко есть! – спохватилась Галя. – Будем пить чай с молоком, – неестественно пискнула Галя. Наделала у стола всяких мелких заботливых движений, будто играла в премилые куклы, где песок, это – сахар, вода – молоко, и принесла настоящее вкусное молоко.
Худышка Ефим налил молоко в блюдечко, чуть подлил из чашки чаю:
– Чтоб горячей было! – и, нагнувшись, стал с удовольствием пить из блюдечка.
Миша понял, что молока мало, сказал, что кипячёное не любит.
– А это не кипяченное. Пей! – и налила в стакан. – Надо пить, а то будешь худой, как Ефимка. Мы молоко любим, но здесь деревни теперь нет, – худо.
– Наверное, у вас заварушка в доме? – догадался Сева по невесёлому виду Ветловой.
– Тогда оставайтесь у нас до утра! – предложила с подъёмом Галя. – Места много. Отдохнете, у нас тут дача. Можно и к Оке сходить. А завтра на Полотняный завод в пушкинские места съездим.
– Жилкин без вас не пропадет, – заверил Сева. – Крепче любить будет. Выпил, наверное, малость? А вообще, сказать на чистоту, Жилкин твой, надежный и тебя не предаст! Я людей на расстоянии чую, как мой пес Дружок.
– Верно, Сева мой никогда с дурным человеком в дом не придёт, – сказала Галя голоском карлицы. – У него особый нюх на людей.
– А помнишь, – возобновил Сева, – как ты из Москвы приехала с сыном. Стояла во дворе с вещами, думала, что у тебя в квартире бандиты наверху. Запомни, твой муж с бандитами дружбу не водит, – тогда у вас в доме будет всё окей. Поняла?
– Поняла, – кивнув уныло.
– Филипп тоже не бандит, хотя, делец порядочный. Но он старается не только на свою выгоду, а ещё на пользу фонда, в этом есть здравый смысл. – Потом…, – Сева решил сейчас принципиально во всем разобраться, – Жилкин как-то мне говорил, что ты не уважаешь его работу. Говоришь, что он у нас не творчески работает. Почему?
Вера пожала плечами.
– …Я бы тоже хотел заниматься сто лет творчеством и в одиночестве, а не производственной работой. Были бы условия.
– А стеклянный потолок? Ты же его для творчества создал!
– Вот-вот… – Вот Галина моя уже третий год пишет портрет Пушкина в собственной интерпретации. А я создаю ей условия.
Сева в раздумье поскреб подбородок:
– Знай, Юрка твой самый сильный здесь художник. Он приехал к нам сюда одним из первых с высшим образованием. Суриковец. Как же он может не творчески работать? А что выпивает, это ты виновата. Вот Галка моя, например, на меня пожаловаться не может. Галь? А?
– Сева, ты же у меня вообще, самый-самый…, – Галя, скрестив на груди руки, привалилась бюстом к столу и, чтоб не сказать ничего лишнего, держала себя ладонями за локти, зажав переполненную вздохом грудь. – Когда он выпьет…, – проронила Галя, чуть раскачиваясь от смущения, – он такой паинька, ласковый, что я и не сержусь. …И от него крабами пахнет.
Сева докончил:
– А ты, Ветлова, вообще хочешь сухой закон среди художников издать. К своему Юрке принципиальная слишком, если говорить по-житейски.
– А если не по-житейски? – пытаясь подавить раздражение.
– А как? Разве женщина может не по-житейски рассуждать? У нее мозги, – сделал он ударение на букву «о», – мозги по-другому устроены. Или она тогда не женщина вовсе. А когда говорит с трибуны, это вообще противоестественно, потому что реванш хочет взять. Только Юрке своему навредила. – Сева тяжело вздохнул и продолжил:
– Ведь ты сама на своего Юрку узко смотришь, – для семьи, для дома, чтобы был портативный, хорошо складывался в твою трехкомнатную квартиру. А он художник, человек вольный, должен жить впечатлениями. И вы подходите к друг другу, могли быть хорошей парой. А житейские неурядицы, прежде всего, от женщины зависят. Вот я свою Галку в фонд раз в месяц пускаю, и у нас в доме мир, тишина, порядок и всё по-житейски. – А мы будем воевать с императором, – Жилкин, я, Григорий Бурлаков. Им надо непременно возвращаться в худсовет.
– Они вовсе того не хотят, – напомнила Вера.
– Будем ждать, будем убеждать. Ты как мой отец – «одним махом – семерых». В фонде надо уметь делать политику, а не раскрывать себя разом всю.
– А почему надо замалчивать своё мнение о работе в фонде?
– Нескромно, – всерьёз ответил Сева. – Ты человек здесь пока что новый, не обжившийся. Зачем раньше времени получать врагов? Во всем должен быть здравый смысл. Счеты они теперь с тобой сводить будут. Какая-то мелкая грызня пойдет у нас в фонде. А нам о планах выработки забывать нельзя, и чтоб качество на высоте. – Сева, будто зажмурившись, очень хотел, чтоб все мерещилось так, как он говорил.
– Жилкин вполне мог быть председателем худсовета, – убеждал её Сева, – а со временем и творческим директором. Плюшевый, тот горлопан, Юрка знающий человек, более покладистый, с ним можно сработаться. А пить он бросит. Это говорю тебе я, если ты веру в него вселишь. Ты в людей не веришь, а я в них верю. – И, обдумав, выдал нечто неожиданное:








