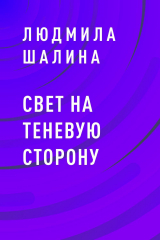
Текст книги "Свет на теневую сторону"
Автор книги: Людмила Шалина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Книга первая «СУХИЕ ЗВЁЗДЫ»
С
благодарностью киевлянину
Петру Петровичу Алексееву -
кандидату филологических наук.
Часть первая. «Общие решения».
1. Цветные пёрышки.
Улица Сретенка. Здание дореволюционное, резная дверь с зеркальными стеклами, медная ручка. Привычных две ступени. Всё время открывают и закрывают дверь. После окончания занятий дверь запрут, отлавливая студентов на политучёбу.
Окна первого этажа в белых занавесках. Здесь идут просмотры. На втором этаже в аудиториях светло от снега, мягко оседавшего на крыши приземистых домов. Сегодня Ветлова пришла пораньше, сняла с самовара глухаря, – кто-то посадил его туда ради шутки.
Тем временем комната заполняется студентами. Прозвенел звонок.
– Отойди отсюда! – Малкову нужен был глухарь, чтобы его «отштукачить».
– Не трогай драпировку, она т а к лежала! – Вера прикрыла натюрморт спиной.
– Отойди, нудь! – пытаясь попасть кистью с белилами Ветловой прямо в глаз. Эта девица постоянно его раздражала.
– Художник, который разменивается на халтуру… – рискнула высказать своё мнение, как тут же большие чёрные ресницы Ветловой стали заклеены белилами.
– Так её, самоваром, гухарём оглушай, – потешался Борис. – Мне сон был, как я Ветлову бил табуреткой по голове.
Анатолий Малков занимался левыми доходами «себе на харч», иногда опаздывал на постановки. Жил в пригороде, приходилось рано вставать. От матери брать подачек не хотел. Позади армия. Остался ещё один вираж, чтобы стать настоящим художником. По праву старосты не принимал всерьёз всякую путающуюся под ногами шушеру, обеспеченную папашей и мамашей:
– Э-эх, была бы ты из другого теста, не поделикатничал, врезал бы тебе по пятой точке. А с бабы что возьмёшь?
Вера долго потом отмывала глаз холодной водой. Студент Юрий Жилкин решил проявить к ней сочувствие:
– Давай тебе разбавителем глаз протру…
– Чтоб я ослепла?
В группе было два лагеря – одни такие, как Малков, Петров, Жилкин, – сугубые реалисты. Эти ребята старались исполнять свои обязанности так, чтобы получать за них стипендию: «Главное харч, тогда и живопись пойдёт».
Кое-кто занимался «подпольным делом», пытаясь сбывать через комбинат свои пейзажики. Будущие художники подделывались под Левитана, Коро, под импрессионистов, и торговали своей продукцией прямо на ступенях художественных салонов.
Другая группировка Кожиной-Кочейшвилли не спешила делать из своего ремесла товар быстрого потребления. Неистовая ищущая республика, запутавшаяся во всех стилях и течениях, увлекалась искусством театральных декораций, пантомимой, куклами. Их бросало во все стороны, кроме педагогики, которую они не уважали из принципа. Но здесь больше часов отводилось рисунку и живописи.
Между двумя группировками царило обоюдное презрение.
На перемене Борис Кочейшвилли засмотрелся в открытое окно, наигрывая на гитаре: «А я не сплю ночей, о ней мечтаю…» – музыкальная заставочка к валившему за окном обильному снегу, прохлада и запах которого плохо освежали аудиторию, накалявшуюся от софитов, пропахшую красками и разбавителем.
На колени Борису, забрав гитару, садится Алла Кожина:
– Ксюня, дай яблочко откусить. Е м у хватит, – кинув взгляд ниже Ксюшиной груди, где наметился её ребёнок.
– Не дам. Ксюша Филина была на восьмом месяце беременности, часто приходила на занятия заплаканная неразговорчивая. Кочейшвилли опять обругал её дурой, а больше никак, – жену надо теперь беречь.
– Дело в том, – Кожина качается на коленях у Бориса, перебирая лады гитары, – что Койчей-виллин не любит Ксюни. А я не люблю Кочейшвилли, потому что твой Боречка знаешь, Ксюня, кто?
Ксюша с досадой откинула русую прядь волос.
– Ка-ра-пет! – говорит Алла. – Это такой небольшой человечек, который всё время карабкается и карабкается, чтобы стать большим.
– Ты, блоха, расселась на моих коленях, да ещё кусаться будешь! Слазь давай!
– А ты, Ксюня, знаешь, что ответь: «Вот как вырастет мой сыночек, ещё не такими словами тебя ругать обучится».
Ксюша вдруг прислушалась к жизни малыша внутри себя. За нарушенное течение чувств нежных и невольных, за нелепую историю с замужеством и ребёночком в утробе, за эту зажатую в себе обиду Ксюша хотела сквитаться – задеть небрежением, словом, хотя бы Ветлову.
– Человеконенавистницей, как некоторые, – не стану!
Алла Кожина сошла от Бориса, чмокнув его в висок, и запахнула чёрный рабочий халатик, задубевший от краски. На колени Кожиной тут же уселась отяжелевшая Ксюша:
– Чей день завтра, а наш ноне! – Каждое лето она отдыхала с матерью-художницей на вологодчине, научившись окать:
– «Людской Семён, как лук зелён. А наш Семён из грязи свалён», – и отдала Борису кисть.
– «И без перца дойдёт до сердца!» – Борис уныло принялся уточнять жене рисунок.
Алла обхватила Ксюшу за тугую талию, положила подбородок ей на плечо, разглядывая потолок подведенными глазами, спросила:
– Ксюня, а где у него ножки?!
– Вот они! – кладёт её руку себе на живот и улыбается рахат-лукумовыми глазами.
– Это он брыкнул меня за папашу-карапета, – говорит Алла.
Прозвенел звонок. Сегодня кружок набросков. Натурщица встала на подиум и минут пять не могла скинуть свой халатик. Будущие художники скромно опустили глаза в альбомы, затачивая карандаши.
– …Ну! – щёлкнул «пушкой» с грифелем Борис.
Натурщица разжала у горла руки, уронив свой халатик. Её шея, лицо, грудь стали красными, будто прыгнула в кипяток. Рывком за халатом нагнулась…
– Не бросай халат! Стой так! Начали!
После сеанса набросков кто-то положил ей за ширму букет фиалок.
Закончился последний урок. Дирекция МОХУ закрыла гардероб и просила пройти в зал, под угрозой снятия со стипендии заставляли учить «молитвословы» нудных докладов, резолюций, партийных съездов, стараясь прикрыть духовный облик будущих художников идеологическими заплатками.
«Кто с кем съезжается?» – ёрничал Борис, обнаружив, что парторг блистательно умевший убеждать на собраниях в своём партийном мировоззрении, на досуге стал проявлять грешную любовь к мальчикам.
Была в группе ещё одна занятная фигура – Инесса Олеандрова. Природа наградила Инессу невнятным достоинством правильных форм, тонкой кожей, голубыми от природы веками и прекрасным цветом лица. На лбу мелкие классические завитки. Полусонная, с яркой ленточкой в курчавых волосах, она была похожа на стёртый слепок с древнегреческого юноши Диодумена. Но её почему-то прозвали Евпатием Коловратом.
Лучше всего её можно представить на летней практике. Крупная, широкоплечая, она сидела в центре выпуклой лужайки на маленьком складном стульчике перед раскрытым этюдником. Томная рассеянная она красовалась на лужайке в венке из ромашек, никого не замечая. «Слышит не ухом, а брюхом», – говорили о ней. Вынимала из кармана широкой юбки зеркальце и разглядывала себя со всех сторон. Зеркало вспыхивало, разбрызгивая вокруг неё лучи.
В Инне была такая ясность, которая не отбрасывала тени. Девушка не воспринимала критику, не боялась перегреться. Солнце как бы растворяло её, давая обладать одной лишь сутью, без теневой стороны: «Боречка, посмотрите, какой я написала прекрасный этюд!»
Написанный без усилия этюд был плохо организован. Но цвет творил чудеса, обнаруживая несомненную одарённость Олеандровой в живописи.
У Инессы был друг. Она часто обращалась к нему вслух или в помыслах. Вынимала карандашик из потайного кармана и, поискав там блокнотик, рассуждала:
«Мой дорогой друг и брат мой единственный». Заклинание освобождало её от тени сомнения в своих дальнейших литературных притязаниях. Писала чётким почерком о «друге», о натюрморте с кувшином, о пейзаже: «Птицы – мои мысли, мои голуби, летите к деревьям, цветам и травам, ступайте думушки к сестрам коровам, утоляйте духовный голод братьям пахарям…»
Прятала «друга» в карман, опять бралась за кисти, повернув стульчик на пятнадцать градусов к ушедшему за это время солнцу.
Бесхитростная ясность девушки лежала на поверхности. Тень – это приспособляемость, доказывает наличие света реального и поиск наиболее удобного варианта в жизни среди людей.
Но в Иннесе была расплавленная в чистом виде сама незащищённая доброта. Кротость характера естественно и неотразимо защищала её от вероломства среды. Олеандрова не нуждалась в дружбе, не страдала от этого. Росла независимая, как ромашка в поле, никому не причиняя зла.
Однако Вера её побаивалась, опасаясь обнаружить в Инессе некое с ней сходство. Ветлова, как и она, не принадлежала ни к одной из группировок. Но в отличие от Инессы, никакой уговор с собой или, ещё хуже, обращение к «другу» не помогали утвердиться в своеобразной отрешённости от людей фальшивых, неискренних. Инна, сочувствуя Ветловой, всегда её выручала кнопками, красками, даже кистью:
– Хочешь, эту возьми, пишу ею детали. Принесу тебе завтра новую кисть.
Чтобы Инесса не приносила кисть, Вера обходилась огрызком, чувствуя себя в чем-то виноватой перед странной девушкой. И сделала ей однажды сюрприз:
– Инна, смотри, какие я тебе пёрышки нашла от горлицы, охристое и лазурное.
Олеандрова взирала с недоверчивой полуулыбкой, бережно спрятала подарок в пенал для карандашей. На перемене, когда осталась в аудитории одна, примерила два пера за ленточкою в волосах, проверив себя в зеркальце.
Обе эти девицы стали потехой для группы на протяжении пяти лет.
После окончания училища новоиспечённые художники, иначе говоря, эти «цветные пёрышки» от неуловимой «Жар-птицы» творчества бескорыстного и неподдельного, разлетелись по свету.
Олеандрова поступила в Строгановку на монументальное отделение, – там работал её дядюшка. Затем стала добросовестным исполнителем мозаичных работ по чужим проектам. Окрестилась, нашла себе небесного Собеседника, и всю жизнь обращалась к Нему за советом и помощью.
Алле Кожиной разрешили предоставить в качестве дипломной работы макеты декораций к пьесе Шекспира. Впоследствии состоялась модельером и крупным предпринимателем в театральном мире.
Борис Кочейшвилли принёс на защиту холст с многоликой толпой людей, дожидавшихся на дебаркадере катера. Среди простого люда затерялись туристы-художники с этюдниками на плечах. Борис получил отличную оценку. Спустя несколько лет уехал за границу с группой авангардистов.
Юра Жилкин выставил на диплом почти ёрнический холст: студенты общежития столпились у газовой плиты, с диковатыми, почти узнаваемыми лицами, радея у конфорок себе «за харч». Работа Жилкина «Ужин у плиты» неожиданно была отмечена комиссией высоким балом. Возгордившись, Юра собрался поступать дальше в Суриковский институт.
Ксюша Филина исполнила к диплому картину с младенцем у груди. Второй раз замуж так и не вышла. Всю жизнь проработала в московском издательстве «Малыш» художником детской книги.
Вера Ветлова хотела передать на холсте ветер, приближение грозы: надвигаются тучи, женщина спешит снять с верёвки бельё. И кто-то зовёт её на лодке в промозглую даль, сложив руки рупором.
Но вернёмся к истокам…
2. «Труды и дни».
Поезд мчался в вихре снега с притушенными огнями, разметая перед фарами снежную пыль. Затормозил на полустанке. Проводник открыл тамбур, посветил фонарем во тьму. Сильный ветер метнулся под ноги.
– Вася, Васенька! – Вера в кроличьей шубке спрыгнула вниз.
– Я боялся, что проводник тебя не разбудит! – дядя Вася поцеловал девочку, подхватил на руки и понес.
– Пусти, я сама, – брыкалась Вера, обхватив руками шею дяди.
– Как Леля отпустила тебя в одних ботиночках? Сюда с лошадью и не пройти по снегу. Не забоялась одна ехать?
Кончался пятый час утра. Дядя Вася посадил племянницу в сани, укутал тулупами, повязал сверху пуховый Анин платок и повез в село Красное, где он был директором мукомольного комбината. Василию Степановичу минуло пятьдесят два года, Вере двенадцать.
– А где твой возница Яша?
– Зачем Якова в такую рань будить? У меня лошадка смирная, дорогу знает.
Продрогшая лошадь бежала быстро. Снег скрипел под полозьями.
– Дядя Васенька, можно я с тобой на твою мельницу пойду? …А на бричке летом меня покатаешь?
Ветер утих. Начало светать. Девочка задремала, не заметив, как подъехали.
Дом каменный, одноэтажный. Из трубы валил дым. Вера вошла на порог.
– Вот и приехали! Верочка! – Аня прижала к груди племянницу с раскрасневшимися от мороза щеками, Напольные часы пробили семь раз.
Сразу горячий украинский борщ, яркий как вино, жареная индейка, малиновый компот и – спать в перину. Начались каникулы.
В перине жарко, никто в этом доме на ней не спал. Но от птицы оставалось много пуху. Приходилось шить перины и подушки.
– Аня, нагнись.
Тётя склонилась над ней, вырез платья у Анечки стал тяжелым, девочка обняла её за шею, щёки Анны пахли пудрой, и шепнула ей на ухо:
– Я вас двоих очень-очень люблю.
– Спи, егоза, на новом месте приснись жених невесте.
– Зачем мне жених? Я подремлю немного, и мы всё будем делать вместе.
Вера была поздним послевоенным ребенком, единственным в семье военнослужащего. Николай Петрович хотел воспитать дочь по-спартански, «замачивал» до посинения в море, приучал ходить босиком, стрелять из ружья. А также умению признавать свои слабости и ошибки. Домашним каждый раз подавал шутливый пример: «Виноват, товарищ начальник, исправлюсь!»
«Такая стоеросовая дылда уродилась, – сожалел отец, – ни на что не будешь пригодной в жизни. Стране нужен труд, инженерно-технические кадры, – прежде всего по стратегическим соображениям! А замуж скакать, да мужей ловить – ума большого не надо».
…Сейчас Вера спит. Снятся ей на Анином огороде высокие цветы космеи, похожие на розовые, желтые, сиреневые ромашки. Отец находит её в этих зарослях, продолжает бить подтяжками за упрямство, дикость, непослушание. Вера плачет: «Ты сам разбил охотничий термос!» Ветки цветов щекочут ей шею, нос. Рядом сидит дядя Вася и водит перышком по её лицу. Вера чихает и открывает глаза…
Вздрогнув пружинами, часы отбивают час дня.
– Ты никак, атаман, во сне плакала? Сейчас пообедаем и пойдем с тобой на мельницу.
– Ура, нам задали в школе сочинение на тему «Труд»!
На фабрике яркий свет, жарко, пыльно, вертятся большие кастрюли с воронками на дне. В лаборатории наоборот холодно. Там проверяют зёрна на влажность, на всхожесть. Дядя Вася в рабочем ватнике, держит семена как цыплят на ладони и озабоченно заглядывает в микроскоп, смогут ли семена встать весной «на ножки».
Его сотрудники измазаны мукой. Василий Степанович что-то выговаривает нелепым людям. Нахмуренные лбы у них в муке. И у девочки начинается смех.
– Будущая журналистка, – оправдывается дядя и отправляет Веру домой.
– Анечка, у дяди Васи так смешно было, люди зачем-то бегают, суетятся, а носы и щёки у них напудрены как у клоунов.
– Не каждый труд во благо и во здравие, – говорит Аня – девочка, отдохни в каникулы. А сочинение на тему «труд» сама жизнь тебе напишет.
Вставала Анна Николаевна раньше мужа. Кормили кроликов, чистили клетки. Выпускали с Верой гусей во двор:
– Как начнут ещё затемно игогокать, так моей крылатой кавалерии скорей ворота распахивай! Гуси когда-то Рим спасли, подняв ночью крик. У гусей слух чуткий.
Девочка садилась на крылечке, подзывала птиц к себе, кормила с ладони и пела им романсы: «Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые…»
Белоснежная свита холёных красавцев в щегольских фуражечках удивлённо кивала в такт высокими тульями, теряя интерес к зерну.
3. Часы с боем и платье к выпускному балу.
В городах стали появляться первые телевизоры. Анна Николаевна оставила Москву, квартиру приемным детям и уехала за Василием Степановичем Меньшиковым (третьим мужем) в село Красное.
Анна Николаевна была слегка полновата, зашнурована в грацию, (шила их сама) очень подвижная, с классическим профилем и красивой посадкой головы. По утрам укладывала причёску горячими щипцами и уходила преподавать в сельской школе домоводство.
Дома ходила на небольших каблучках. На крыльях веселой шутки падала в кресло и разводила в комичном отчаянии руки: «Василь, не смеши людей!» – заходилась порой таким чистосердечным смехом, что от счастья сжимало грудь.
«Нюра с Васей живут, как старосветские помещики», – говорила о них мама Веры.
Своих детей у Анны Николаевны и Василия Степановича Меньшиковых никогда не было, только приемные от второго мужа, Артура Яновича Рапп.
Первую жену Артур нашел на фронтах гражданской войны. Она была почти вдвое старше его. В гарнизоне прозвали её «маркиза».
Девятнадцатилетний Артур оставил родителей, поместье в Латвии, пошёл воевать за Советскую власть.
Женившись на простой заблудшей женщине с двумя детьми, надеялся избавить себя, таким образом, от сословных пут, спасти «маркизу» от пьянства и беспутной жизни, вырастить приёмных детей здоровыми духовно и физически.
Замужество не спасло «маркизу» от дурных привычек, постоянно меняла поклонников. А дети играли в пьяниц.
Анна Николаевна, влюбившись в красного комиссара, развелась с первым мужем, фабрикантом и миллионером. В глубине души нередко называла его торгашом, лавочником. Взяла от маркитантки двух мальчиков, один из которых тяжело болел тифом, выгнала вшей, остригла ногти, волосы, вылечила шершавые от холода и грязи «цыпки» на руках. Нашила братьям свежих рубашек: «Гоша, Костик, на вас приятно теперь посмотреть и вдруг такие страшные слова. Или я ослышалась?» – отучая подростков от позорных слов.
Во время второго замужества Анна Николаевна продала много ценных вещей, чтобы выкормить детей. Не одну ночь просиживала Анна над чертежами мужа.
Артур Янович Рапп после гражданской войны был назначен директором первого в стране авиационного завода при ЦАГИ. В редкие часы досуга исполнял всю домашнюю работу. Становился художником, вышивал гладью, сотворил аппликацией удивительный коврик с летящими утками. Играл с детьми в жмурки, обвязав подушками углы тяжелого обеденного стола.
Овдовела Анна Николаевна рано. Артур Янович «сгорел» на работе от скоротечной чахотки.
«Пока не поставлю детей на ноги, замуж не выйду». Так она и сделала. В пятьдесят лет вышла замуж за Василия Степановича Меньшикова.
Вера уже взрослая помнит в селе Красном большую комнату с гравюрами Федора Толстого, как она и Аня сумерничают в потертых креслах. Между ними овальный столик на гнутых ножках покрыт кружевной вологодской скатертью. Рядом переносной столик для рукоделия. Ящики в нём раскрывались на обе стороны лесенкой.
В молодости Анна Николаевна издала два своих альбома по вышивке.
– Много образцов ручной работы досталось мне от мамы, – вспоминала Анна. – Вечерами вся семья собиралась за круглым столом. – У каждого дело в руках. А папа читал нам вслух священное писание.
Сейчас в комнате потрескивают дрова, отражаясь пламенем в «горке». Так Анна называла стеклянный медицинский шкаф с остатками уцелевшей после революции посуды и серебра. Попискивали в корзине гусята, родившиеся зимой, и слегка дымила печь.
– Вера, гусят в руки не бери.
– Я только одного из-под другого вытащу, – и забиралась в кресло. Начинала рисовать в альбоме замки с башенками, воздушными переходами. – А это Марк Волохов из «Обрыва» Гончарова. (Прочла «Обрыв» на год раньше школьной программы.) – Анечка, хочешь тебя нарисую.
- Вера, подойди скорей к окну, слышишь, как хорошо поют на той улице?
– Давай петь вместе.
…На порог явилась молодая женщина. Анна Николаевна притянула ей корзину с гусятами. Женщина укрыла их платком, поблагодарила и ушла.
– Анечка, зачем ты их отдала?!
– Вера, у неё трое маленьких детей. А ты всё равно скоро уедешь.
Кроликов Анна Николаевна тоже раздавала соседям. А плодилась эта живность от большой к ним любви как наказание.
Приходили к Анне Николаевне в дом учиться вышивке деревенские девчата:
– Хочу такой же коврик с утками, как у вас на стене!
– Пока рановато. – Анна вынимала свой альбом с филейными работами.
У девочки разгорелись глаза. Взяла пяльцы, натянула батистовый лоскут.
– …Дуняша, а на пальчик твой сейчас птичка сядет.
– Какая ещё птичка?! – убрала жеманно оттопыренный мизинец.
– …А под юбку воробей залетит.
Застеснявшись, девочка быстро сомкнула колени.
Явилась Полина, принесла парное молоко:
– Мой Ленька опять пьяный пришёл.
– В театр его свози, – ответила ей Анна Николаевна вполне серьёзно. – Мы с Артуром Яновичем хотя бы раз в месяц в театр ездили. Василю говорить об этом не приходится. …Хотя бы в храм теперь сходить. Он не хочет. Вот вышивка мне осталась, да кулинария. И однажды вырвалось у Анны Николаевны из души, – «высоко ворона летала, да низко села», – поминая незабвенного второго мужа Артура Яновича Рапп.
– Полина, сейчас угощу тебя по особому рецепту. Отнеси кусочек мужу. Всё достойно ему сделай.
– Глумитесь, Анна Николаевна? Вы нашей жизни не понимаете!
– Эту жизнь я вижу очень хорошо. – Помолчав, добавила некстати. – …Без пищи духовной наши дни становятся докукой.
–…А полы вы тоже в корсетах моете? – наблюдая за директорской женой.
– Мою, когда никого дома нет. …Полина, так привыкли считать, раз ты вышел из нерабочей среды, значит бездельник?! В институт учиться нас не брали. Муж мою сестру Ольгу до сих пор барством попрекает. А ей семи лет не было, когда революция свершилась. Девушкой поступила в ГИТИС на искусствоведческое отделение. Со второго курса её отчислили, обнаружив в анкете, что Ольга Николаевна Могилко дворянского происхождения. Брат Володя разыскал в архивах родословную, род наш по линии отца пошёл от митрополита Петра Симеоновича Могилы – деятеля украинской культуры. Он покровительствовал писателям, художникам, книгопечатанию.
Вера, притихнув, прислонилась к Аниным коленям.
– Анна Николаевна, вы потому не белоручка, что вас жизнь обломала.
– Полина, ветер в доме нашего детства свистел на четыре стороны! По нескольку раз на день город брали то белые, то красные, – сначала полки богунцев, потом таращанцев. Папа ушёл в белую армию, пропал без вести. В гараже у Володи мотоцикл стоял. Кто-то карбид оттуда выбросил, он шипит в снегу, воняет. Думали, что это мы так подстроили… Утром перед окнами дома покойник на дереве качался, – наш младший Коля. Семнадцать лет ему исполнилось. Солдаты не давали снять. Ворвались в дом, стекла прикладами перебили, диваны штыками пропороли, библиотеку на пол разбросали. Стали фотографии топтать. Один из них, – руки в боки, – сапогом прихлопывает: «А эту нам дадите?» Взяли под руки Катюшу, ей пятнадцати лет ещё не было, насиловать повели. Катя вырвалась, убежала. Потом нас девочек и маму садовник к себе припрятал. После ухода бандитов старшеклассницы полы в гимназии от кровавых луж и мозгов оттирали…
Мелодичную четверть пробили напольные часы. Пришёл Василий Степанович высокий, в лохматой шапке, совсем ещё не старый человек.
– Здравствуй, Полина. Почему твой Леонид Игнатич на работе сегодня не был?! Хоть прежние порядки заводи – штрафами да розгами. Строгача ему завтра всыплю!
– Приболел. Ничего не ест третий день…
– Ещё раз прогул – пусть увольняется!
Полина спрятала банку с кроликом и заторопилась уйти.
– А что Аня, не заходил к нам сегодня дед Мороз?
– Сама давно его кличу.
– Только что в сумерках на улице его повстречал, запоздал маленько. Делов-то у него – сама знаешь. Ну-ка, Вера, сбегай на крыльцо, может, что оставил нам?
– Валенки! Белые, пребелые! – запела девочка, возвращаясь с валенками в дом.
– Пошли дорожки чистить.
– Ура!
…В хорошую погоду Вера отправлялась за околицу. Сверкала снежная равнина. От Аниного дома вился слабенький дымок, как от парохода в океане. Аня, душечка, можно мне туда? Начало смеркаться. И скорее побежала вдаль, желая успеть до темноты вытерпеть всю эту необъятность…
Сумерки густели быстро. Уже, не отделяя земли от неба, она запела одними гласными, высоко и звонко, сочиняя на ходу синкопы, продолжала петь.
Впереди мелькнул заяц. Подобрал под себя ноги и прислушался. Она запела тише, чтобы заяц был ей рад. Небо заметалось быстрыми снежинками и обвалилось снегопадом.
Сквозь обильный снег мелькнул краешек луны. Кто-то позвал: «Вера, Ве-ра!» – Не успела открыть глаза, как дядя Вася уже подхватил её на руки и понёс.
Когда Вера будет засыпать в перине, она коснется Аниной щеки шершавыми губами и скажет хриплым голосом:
– Я з-зайца хотела приручить, – но во рту, будто вата, мешала. – …Весь з-засыпанный снежинками, з-зайчик слушал, как я п-пою. – Анечка, с тобой и дядей Васей мне тепло, хорошо и н-надёжно.
Анна Николаевна вздохнёт тревожно, принесёт Вере горячего молока с мёдом и незаметно перекрестит на сон грядущий. А ночью станет бегать маятник часов, как пойманная в дом луна, разбрызгивая блики по стене.
…Приходил с работы дядя Вася. Поужинав, садился в кресло и умолкал.
…– Васи-иль, ты-таки увидишь сон.
– Я не сплю, я сосредотачиваюсь…
– Тихо, Анечка, я его рисую. – И, захлопнув альбом, принялась завязывать платком дяде Васе глаза.
– Вот додумаю ещё немного… – ворчал уставший человек.
Мелодичное вибрато часов напольных принялось оповещать о времени.
– Бьют часы на башне – бим-бом, бим-бом. А стенные побыстрее – тики-таки, тики-таки. А карманные спешат – тики-таки, тики – таки, тики-таки-так! – Вера концом косички щекотала дяде нос и спрыгивала с его коленей:
Дядя, проснувшись, ловил племянницу двумя руками. От визга девочки дрожали стекла в «горке».
– Васенька, тебе водить!
Неуловимой партнершей в жмурки была Анна, заходила на цыпочках за шторку и старалась не дышать.
Наигравшись с племянницей, Василь Степанович носил Веру на плечах вокруг стола, и начал вдруг подпрыгивать:
– А бу-бу, бу-бу, бу-бу, – строгача тебе вкачу.
– Нам не страшен серый волк, серый волк! У нас папа целый полк, целый полк! – Вера ладошкой отбивала в медный таз. – Тары-бары, бары-вары, бум-бара, бум-бара-бумбия!
Пошатнулся овальный столик, поползла на пол вологодская салфетка…
– Боже правый, какой у нас Содом! – Анна схватила салфетку, упала в кресло и закатилась безудержным смехом.
…– Я стучу, а вы не слышите, – вошла Полина с банкой молока. Испуганный появляется сзади её муж:
– Василий Степанович, когда печь будем ладить?
– …А вот и Дуня, – весь наш колхоз теперь в сборе. Что у тебя, Дуняша? Платье к выпускному балу? – Анна Николаевна встает, накидывает ей на плечи кружевную салфетку, подводит к зеркалу.
Застенчиво откашлявшись, принялись бить напольные часы восемь раз. Баритон пружин медленно затихал в трепете потревоженных часами стен.
Каникулы закончились. Аня собрала Верины рисунки в папку:
– Вот твоё сочинение на тему «Труд». Девочка, начиная любое дело, помни, что царство Божье внутри нас, – и незаметно перекрестила её.
Василь Степановича нахмурился на этот жест, надел шапку и отвёз племянницу на вокзал.
В Москве на вокзале встречала Веру мама.
…Теперь каждый приезд в село Красное готовилось девочке судьбиной платье к выпускному балу, пропитанное бытом разных эпох. В платье из двух фактур, – ушедшего дворянского века и суконного полотна новой действительности Вера вступит во взрослую жизнь. По случаю совершеннолетия родители подарили ей золотую ящерку с бриллиантинами на спине. (Эту брошку – некий оберег её характера Вера стеснялась надевать всю жизнь.)
4. Преодолеть стыд…
После войны, потеряв в Москве жилплощадь, Ветловы жили первое время у маминой второй сестры Екатерины. Ночевать семье приходилось на полу под роялем. На крышке рояля спал их рыжий кот.
По выходным дням, стараясь не докучать маминой сестре, Ветловы забирали Рыжика и уезжали в Павшино. Отец работал там начальником авиационной ремонтно-военной базы.
Со временем семье дали большую комнату в квартире на Садово-Триумфальной улице в некогда доходном доме с луковичным куполом наверху. В доме обнаружилась после войны трещина. Над парадным подъездом навис балкон с узорчатой оградой, норовя обвалиться. Потолок в квартире протекал от дождя. Но комната была большая, светлая. Двустворчатые белые двери, медные ручки, высокие окна, резной бордюр и розетка гипсовая наверху.
Сразу купили под неё люстру бледно-зелёного стекла в виде перевёрнутых вниз крынок молочного цвета изнутри. Посредине люстры сверкала хрустальная шишечка, собирая все погодные фантазии за окном и преломляя в гранях суету города. Вера часто смотрела в эту шишечку.
А ещё любила большую картину в простой сосновой раме, висевшую над диваном. Подарили её вскладчину военнопленные немцы, работавшие у отца на ремонтной базе. Зная, что он охотник, вручили картину Николаю Петровичу на Новый год с благодарностью за хорошее к ним отношение.
Вера, засыпая, наблюдала вечером, как выходит из леса пара лосей. За ними спешит по глубокому снегу едва заметный в сумерках лосёнок. С каждым годом лоси подвигались к раме всё ближе. Однажды Вера откроет утром глаза, а лоси ушли… Но пейзаж кисти довольно известного среди передвижников живописца Тихменьева был неисчерпаем для глаза.
Первое время родители спали на двух ящиках для оружия, составленных вместе и окрашенных свежим суриком. Раскладушку дочери отгородили старинным буфетом. Мама уговорила мужа купить такой раритет в комиссионном магазине, потому что буфет очень уж напоминал ей тот, что был у них в детстве.
В семь утра подавали Николаю Петровичу к подъезду машину.
– Коля, ты занимаешь генеральскую должность и до сих пор в полковниках, – напоминала ему жена.
– Не место красит человека, а человек место.
– Люди стремятся, люди добиваются… У тебя есть право на трёхкомнатную квартиру.
– Простой народ в подвалах живёт! – и уезжал в воскресенье опять на работу.
– Мама, нам и здесь хорошо.
– Жить за шкафом? Мыться в общей ванне? На плите мыло из выварки течёт в компот! – С досадой откинула рыжий хвост, с которым играла дочь, и встала, собираясь идти готовить ужин.
Тогда Вера незаметно заправила маме лисий хвост под тесёмки фартука и двинулась следом проверить впечатление – пусть соседки улыбнутся!
Мама повернулась от плиты и споткнулась о хвост, упавший на пол:
– Вон отсюда! – вскрикнула мать.
– Мамочка, тише, нас в пионеры готовят. Вожатая написала, что я легко поддаюсь воспитанию. Давай хвостик тебе под фартук получше заправлю…
– Марш в комнату, малахольная!
Вера надела новые жёлтые ботиночки, (отец заказывал их каждый год у немца-сапожника, работавшего у него на базе) и отправилась во двор ожидать Фаину.
Подруги катались с горки, откусывали бордюр сосулек, прыгали с крыши сарая в глубокий снег. С наступлением темноты поднимались к Фаине на терраску и пели: «Каждый вечер вдвоём на крылечке твоём мы подолгу стоим, и расстаться не можем никак…»
– Пойдём, посмотрим в полуподвальное окно, – предложила однажды Вера.
Покосившееся окно было всё заставлено цветущими геранями.
На другой день Вера увидела, как по краю ступеней домика с геранями просачивается оттаявший ручеёк, скопляясь лужицей у двери.








