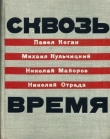Текст книги "Мы даже смерти выше..."
Автор книги: Людмила Логвинова
Жанры:
Военная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
придания городу имиджа не только трудовой, но и боевой
славы. А козырять», действительно, было чем: в крае, который
никогда не был театром военных действий, возникла группа
первоклассных поэтов, воспевших героизм советского народа в
годы Великой Отечественной войны.
Об этом должны знать все! В школах, фабричных цехах
проводились политчасы, посвящѐнные славным землякам. Их
именем называли улицы. В «литературном» сквере установили
бронзовые бюсты Лебедеву и Майорову. Дудин и Жуков
удостоены звания почѐтного гражданина города. Литературные
премии, различные фестивали в честь названных поэтов до сих
пор считаются важными событиями в культурной жизни края.
Но, скажем прямо, с исчезновением СССР массовый интерес к
этим легендарным в советские времена именам падает.
Кажется, ещѐ немного – и эта страница ивановской поэзии
будет сдана в исторический архив в силу еѐ курсивной
119
советскости. А вот этого допустить нельзя! Если такое случится,
то мы потерям нечто большее, чем отработанный миф. Мы
рискуем потерять какие-то важные ориентиры в понимании
сложности развития русской истории советского периода, без
которой не может состояться наша нравственно-духовная
идентификация в современном мире. То, что мы называем
современностью, тысячами нитей связано с недавним советским
прошлым. И оно, это прошлое, далеко не однозначно даже в той
его части, где советское выступает в рамках так называемого
большого сталинского стиля, литературы второй половины 30-х
годов, то есть в то самое время, когда будущие «фронтовики»
заявили о себе как новое поколение, воспитанное новой эпохой.
Казалось, всѐ в их первоначальном творчестве отвечало
нормам тогдашней советской жизни. Они сами творили миф о
людях, которые сильны, прежде всего, причастностью к стране,
где каждый может стать героем в силу того, что, благодаря воле
Сталина и большевистской партии, молодые живут в передовой
стране мира (вспомним знаменитое «я другой такой страны не
знаю, где так вольно дышит человек»). Их лирический герой,
как выразился однажды С.Наровчатов, включал в себя
типичность героического образа, запечатлѐнного в классике
советского искусства, на котором воспитывалась предвоенная
молодежь.
Павел Власов и Павел Корчагин, фильмы о Ленине,
Сталине, Щорсе, Пархоменко, песенное творчество тех лет,
прославляющее непобедимое сталинское государство, – всѐ это
впитывалось будущими «фронтовиками» в качестве основной
культурно-жизненной реальности.
Недаром тот же Наровчатов, вспоминая о Н.Майорове,
подчѐркивая его типичность для молодѐжи предвоенной
формации, сравнивал его с героем кинофильма «Юность
Максима» в исполнении Б.Чиркова. И далее автор статьи
«Улица Николая Майорова» говорит, что и в самой манере
держаться, и в одежде Майоров, как и многие его сверстники,
«ощущали себя внутренне сыновьям сотен Максимов
большевистского подполья и гражданской войны».
120
Нетрудно догадаться, в каком ракурсе должно было
предстать Иваново – родина будущих «фронтовиков» – в свете
такой социальной идентификации. Да, конечно, городом особой
пролетарской закваски, свято хранящим революционные
традиции. Критики, писавшие о них в советские годы, не
жалели слов, подчѐркивающих это обстоятельство. «Отец и мать
у Николая – ивановские рабочие, брат – военный лѐтчик. Семья
была типичной и в то же время образцовой»2.
Уже само «поколенческое» самосознание молодых поэтов
второй половины 30-х годов было в какой-то мере вызовом
«типовым» представлениям о времени. Поколение в их
понимании – не отвлечѐнное представление о советской
молодѐжи, а избранное эпохой живое братство молодых людей,
готовых совершить предназначенное только им. И это
предназначение они видели в спасении не только России, но и
всего мира от коричневой чумы фашизма. При этом будущие
«фронтовики» не только не исключали своей гибели, но
акцентировали внимание на этом, вольно и невольно вступая в
конфликт с массовой советской поэзией, с такими, например,
стихами, печатавшимися в поэтическом сборнике «Оборона»
(Л., 1940): «Реют соколы в лазури / безграничной вышины, / Ни
туманы и ни бури / Им, отважным, не страшны». Или: «Нависли
тяжѐлые, / Чѐрные тучи, / И если фашисты / Навяжут войну, /
Пойдѐм мы на битвы / И силой могучей / Врагов уничтожим, /
Восславим страну».
А теперь вспомним ключевые строки из программного
стихотворения Н.Майорова «Мы»:
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте...
121
Как не похоже «оборонное» массовое «мы» на «мы»
Николая Майорова! В первом случае оно не больше, чем знак
обезличенного большинства. В майоровских стихах «мы» –
трагическое обозначение поколения живых людей,
потенциальных творцов, растворившихся в героическом мифе,
но явно не реализовавших всех своих индивидуальных
человеческих возможностей. Обратим внимание на сам жанр
этого произведения Майорова. Это одновременно и гимн
героическому поколению, и реквием, и послание в будущее,
сродни знаменитому вступлению к поэме В.Маяковского «Во
весь голос». Суть обращения Майорова к потомкам можно
сформулировать так: мы хотим, чтобы наша жертвенность не
была напрасной; реализуйте то лучшее, что было в нас, идите
дальше, ведь боролись мы, в конечном счѐте, за сохранение
гуманистических основ мироздания.
Хорошо сказал о своеобразии вступления в мир
«майоровской» когорты поэтов А.Немировский, который сам
был причастен к этой когорте: «Чутко и напряжѐнно
вслушивались начинающие поэты в эпоху, улавливая раскаты
близкой грозы. Ощущение надвигающейся тревоги и беды для
себя и своего народа было чуждо многим из уже сложившихся и
печатавшихся поэтов того времени. Оно могло восприниматься
как неоправданный пессимизм и трактоваться как оппозиция
тезису, что победа будет быстрой и едва ли не бескровной. Вот
почему был рассыпан университетский сборник, и «Мы» не
вышло на страницы многотиражки».
Ещѐ раз подчеркнѐм: поэтическое «поколение 40-го»,
которое представлял Майоров и его ивановские собратья по
перу, пыталось осмыслить своѐ явление в крупно историческом,
социальном масштабе. При этом оно отталкивалось от
советской реальности, того лучшего, что было создано
человечеством. СССР в поэзии будущих фронтовиков – это
новая передовая цивилизация, центром которой является
московский Кремль (см., например, стихотворение Н.Майорова
«Ни наших лиц, ни наших комнат…»). И вместе с тем, в это
широкое государственное пространство врывается микрокосм
природного, личного существования, в результате чего
122
советский мир в восприятии «поколения 40-го года» перестаѐт
быть идеологически и художественно односторонним. Как
отражается это в «ивановском мифе»?
Снова обратимся к Н.Майорову, так как именно у него
рельефней всего запечатлено сочетание большого и малого,
общего и личного, «вселенского» и «родного». Сочетание,
обретающее определѐнную образно-стилевую направленность,
соотносимую с поисками в русской поэзии не только своего, но
и гораздо более позднего времени, а именно периода
«оттепели».
Формируясь как личность в пролетарском Иванове,
Майоров мыслил этот город точкой пересечения разных
исторических эпох, деревенского и городского существования
России, нового и старого уклада жизни. На языке поэтических
символов это выглядело в первую очередь как непростые
взаимоотношения между образом земли и образом неба.
Казалось бы, согласно общей направленности «культуры
Два», «большому сталинскому стилю», мы встречаемся здесь с
преобладанием вертикального начала над горизонтальным, с
устремлѐнностью в небо, означающим выходы за рамки
частной, «местной» жизни. Прошлое родного края жмѐтся к
земле, оно существует в тесном избяном пространстве, которое
давит на человека, лишая его возможности видеть «небо».
Процитируем первые две строфы из майоровского
стихотворения «Отцам»:
Я жил в углу. Я видел только впалость
Отцовских щек. Должно быть, мало знал.
Но с детства мне уже казалось,
Что этот мир неизмеримо мал.
В нем не было ни Монте-Кристо,
Ни писем тайных с желтым сургучом.
Топили печь, и рядом с нею пристав
Перину вспарывал литым штыком.
123
Здесь сливается воедино лирическое «я» и голос человека,
рвущегося из дореволюционного захолустья в простор большой
жизни. Тема малой родины таким образом начинает
приобретать эпическое звучание. Не только это стихотворение,
но и другие произведения Майорова являлись фрагментами из
большого незаконченного лиро-эпического повествования, где
переплетается история «отцов и детей». И «дети» в этой
истории, наследуя, прежде всего, революционное отношение к
миру, выходят в пространство «вечных исканий крутых путей к
последней высоте».
Отсюда и культ лѐтчика в стихах Майорова. Он гордится
тем, что его старший брат служит в военной авиации. Иваново в
его поэзии – город, где живут лѐтчики-герои, которые готовы во
имя высоты пожертвовать собою.
В.Жуков в своих заметках о Майорове вспоминает:
«Помнится, году в тридцать восьмом в наших местах (а жили
мы на окраине Иванова) разбился самолѐт. Весь личный состав
погиб. На зелѐном Успенском кладбище на другой день
состоялись похороны. В суровом молчании на холодный
горький песок первой в нашей мальчишеской жизни братской
могилы лѐтчики возложили срезанные ударом о землю винты
самолѐта.
А вечером Коля читал стихи, которые заканчивались
строфой:
О, если б все с такою жаждой жили,
Чтоб на могилу им взамен плиты,
Как память ими взятой высоты,
Их инструмент разбитый положили
И лишь потом поставили цветы.
Вроде бы полное совпадение с общими, типичными
особенностями героической модели того времени: советские
люди в едином порыве покоряют «пространство и время», и
жизнь их при этом целиком принадлежит государственному
делу, «инструменту», с помощью которого это дело вершится.
124
Но если внимательно присмотреться к стихам Майорова, то
окажется, что «лѐтчики», «небо» и многое другое далеко не
совпадает здесь с вертикальными образами массовой
предвоенной поэзии, исключающими мир отдельной личности.
Молодые романтики предвоенной поры из пролетарского
Иванова при всѐм стремлении к «высоте», означающей прежде
всего воплощение советского идеала, к счастью, чувствовали
себя живыми людьми. «Земля» для них была не менее важна,
чем небо». И сегодня, может быть, самое интересное в их жизни
и поэзии открывается не в гражданских декларациях, а во
внутреннем конфликте, порой тайном даже для них самих. В
конфликте между «общим», «типичным» и «самостью»,
неповторимостью их явления. Этот конфликт ощущается,
например, в следующих стихах, посвящѐнных лѐтчику-брату
Алексею:
Я за тобой закрою двери,
Взгляну на книги на столе,
Как женщине, останусь верен
Моей злопамятной земле.
И через тьму сплошных загадок
Дойду до истины с трудом,
Что мы должны сначала падать,
А высота придѐт потом.
Для молодых поэтов предвоенной поры важен сам процесс
жизни, поиск, падения и подъѐмы. И точкой отсчѐта становится
здесь детство, родной дом, природное начало мира. «В стихах
Майорова очень часто встречаешься с травами, с ливнями,
которые «ходят напролом, не разбирая, где канавы». А
постоянная нота «кочевья», вагонов, вокзальных расставаний –
как бы мост, соединявший ивановского юношу со столицей, с
университетом…». Критик Н.Банников, кстати говоря,
друживший с Майоровым, подметил в своих заметках о поэте
ноту кочевья. Продолжая наблюдения критика, можно говорить
и о нотах разлада и поисках нового лада, мотиве страстного
порыва к любви в майоровской поэзии. Между прочим,
125
последнее даѐт о себе знать в самом синтаксисе, порывистости
интонационного рисунка стихов.
И здесь уместным будет вспомнить ту сцену из
воспоминаний С.Наровчатова, где рассказывается о его первой
встрече с Майоровым на одной из литературных встреч в
Москве, где Николай представлял молодых поэтов МГУ: «И вот
на средину комнаты вышел угловатый паренѐк, обвѐл нас
деловито-сумрачным взглядом и, как гвоздями, вколотил в
тишину три слова: «Что – значит – любить». А затем на нас
обрушился такой безостановочный императив – грамматический
и душевный, – что мы, вполне привыкшие и к своим
собственным императивам, чуть ли не растерялись.
Идти сквозь вьюгу напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую,
Идти и падать. Бить челом,
И всѐ ж любить еѐ – такую!
«Такую» – он как-то резко и в то же время торжественно
подчеркнулСтихи неслись дальше:
Забыть последние потери,
Вокзальный свет,
Ее «прости»
И кое-как до старой двери,
Почти не помня, добрести,
Войти, как новых драм зачатье,
Нащупать стены, холод плит…
Швырнуть пальто на выключатель,
Забыв, где вешалка висит.
Две эти последние строки меня покорили, и я ударил
кулаком по столу. Майоров только покосился в мою сторону и
продолжал обрушивать новые строки. И когда, наконец, дойдя
до кульминации страсти, вдруг на спокойном выдохе прочитал
концовку, мы облегчѐнно и обрадовано зашумели, признав
126
сразу и безоговорочно в новом нашем товарище настоящего
поэта».
Ориентируясь на высокие гражданско-творческие цели,
будущие «фронтовики» порой выставляли себя суровыми
аскетами, готовыми пренебречь «слишком человеческими»
чувствами, якобы мешающими исполнить их главное дело.
А.Лебедев в письмах к матери неоднократно говорит о своѐм
желании разрубить гордиевы любовные узлы, в будущем «не
связываться с женщинами», отказаться от мысли о семейном
счастье. «Трата сердца, нервов и лучших чувств, – писал
Лебедев в письме от 22 ноября 1937 года, – не проходит
бесполезно, а истинное счастье, по-моему, не в семье и не в
личном уюте, а в неустанном выковывании в себе тех качеств,
которые имеют и имели большие люди на нашей земле». А в
другом письме, написанном накануне Великой Отечественной
войны, Лебедев говорит матери о своѐм желании: «высушить
свою душу так, чтобы осталась в ней любовь к тебе, родине и
службе…».
Такого рода ригоризм можно встретить и у Майорова. В
стихотворении «Тебе» читаем:
И в самый крайний миг перед атакой,
самим собою жертвуя, любя,
он за четыре строчки Пастернака
в полубреду, но мог отдать тебя!
И здесь то же: сначала атака, стихи и только потом ты.
Однако не будем забывать о том, что все эти декларации
принадлежат совсем молодым людям, которые просто в силу
своего возраста склонны были схематизировать жизнь. К
счастью, высушить душу они не могли. Внутреннее богатство
личности во всей еѐ сложной противоречивости определяла их
глубинное жизнетворческое поведение.
И снова, так или иначе, нам приходится приоткрывать
начальные, ивановские страницы жизни «фронтовиков», так как
именно здесь, в этом фабричном городе, скрывались многие
самые сокровенные тайны их личного существования. Для
127
Н.Майорова Иваново навсегда осталось городом первой любви,
и ему никогда не дано было забыть Московскую улицу,
связанную с этим его душевным потрясением:
Ту улицу Московской звали
Она была, пожалуй, не пряма,
Но как-то по-особому стояли
Еѐ простые, крепкие дома,
И был там дом с узорчатым карнизом.
Купалась в стѐклах окон бирюза.
Он был насквозь распахнут и пронизан
Лучами солнца, бьющими в глаза.
(«Апрель»)
Именно в Иванове (и это кажется на первый взгляд
странным) Майоров открыл «языческую» почву для своих
стихов, где человек предстаѐт вписанным в природу всеми
своими клеточками:
Лежать в траве, желтеющей у вишен,
У низких яблонь где-то у воды,
Смотреть в листву прозрачную
И слышать,
Как рядом глухо падают плоды…
(«Август»)
Своеобразным авторским комментарием к этим стихам
может служить письмо, написанное Н.Майоровым Ирине
Пташниковой в Иванове во время летних каникул 1940 года:
«…Спим с Костей (Константин Титов – земляк, ближайший
друг Н.Майорова, – Л.Т.) у него в саду под яблонями. Прежде
чем лечь, идѐм есть смородину и малину. Возвращаемся сырые
– роса. На свежем воздухе спать замечательно: смотришь в
ночное небо, протянешь руку – целая горсть холодной, влажной
листвы; кругом – ползѐт, шевелится, и кажется, что дышит
«свирепая зелень», бьющая из всех расселин и пор сухой земли.
И впрямь слышно, «как мир произрастает»! Изредка на одеяло
заползает какой-нибудь жучишко. Просыпаемся от солнца,
128
которое, проникая сквозь ветви, будит нас и заставляет
жмуриться… Вот она – жизнь. Как сказал Велимир Хлебников:
Мне мало надо:
Ковригу хлеба,
Да каплю молока,
Да это небо,
Да эти облака».
Показательны стихотворные цитаты в этом письме: кроме
Хлебникова, здесь цитируется стихотворение Э.Багрицкого
«Весна» («И вот из коряг, / Из камней, из расселин / Пошла в
наступленье / Свирепая зелень»). И здесь же автоцитата из
вышеуказанного стихотворения «Август»: «И слышу я, как мир
произрастает / Из первозданной матери – воды». В связи с этим
цитированием стоит вспомнить меткое наблюдение
Л.Аннинского о молодых поэтах предвоенной поры: «…В той
книжной сокровищнице, из которой черпали они вдохновение,
три имени овеяны особой любовью: Маяковский, Багрицкий,
Хлебников. Это значит: трибунная мощь слова, плюс его
языческая сочность, плюс его артистическая утончѐнность. То
самое сочетание напора и изящества, которое годы спустя –
целую войну спустя! – дало у их поэтических
соратников…уникальное сочетание «барокко и реализма»,
мощной символики и «грубой» реальности деталей».
К выстроенному критиком поэтическому ряду, имея в виду
именно Н.Майорова, надо бы добавить ещѐ одно имя: Павла
Васильева с его потрясающим природно-чувственным напором.
Не забудем, как однажды в полемическом запале, отвергая
обвинения в излишней натуралистичности его стихов, Майоров
воскликнул: «Я чувствую так, как чувствует здоровый человек
со всеми его инстинктамиЯ хочу идти от природы…».
***
Чем неотвратимей становилась война и напряжѐнней
звучала тема возможной гибели поколения в «поэзии 40-го
129
года», тем в большей степени ощущали молодые поэты цену
товарищества, земляческого братства. «Незнаменитая» финская
война, этот своеобразный «Афган» в преддверии Великой
Отечественной, стала тем событием, когда это братство стало
осознаваться ими как жизненная необходимость преодоления
«скорбного бесчувствия» смерти.
Первым из ивановцев, кто на себе почувствовал весь ужас
военных будней, стал самый младший их них – Владимир
Жуков. В боях на Карельском перешейке он получил
тяжелейшее ранение и был начисто списан из армии.
Впоследствии, вспоминая «финскую», Жуков писал в
стихотворении «Дорога мужества»:
В сороковом в пургу на перешейке
от финских скал она брала разбег.
Мороз был лют. Коробя телогрейки,
нас облетал, свистя, колючий снег.
В лицо наотмашь бил железный ветер,
срывая с лыж и сваливая с ног…
Вернувшись из госпиталя в Иваново, Жуков первым делом
идѐт к Майрову, с которым дружил со школьных лет.
Встретились в майоровском доме на 1-ой Авиационной. Далее
слово Владимиру Семѐновичу: «…Похлопали друг друга по
плечу, присели на изрядно побитый диванчик да и проговорили
до полуночи… И о том, страшно ли на войне. И что чувствуешь
за пулемѐтом, ведя прицельный огонь?... И не мѐрзнет ли вода в
кожухе?... И не загремит ли опять?.. И что я теперь намерен
делать, поскольку правая рука едва ли разработается?.. И как
здорово проявился Дудин: и книгу выпустил, и в толстых
журналах публикуется. И что он, Майоров, из семинара
Сельвинского перешѐл по Литинституту к Антокольскому
А из семинара Сельвинского ушѐл после того, когда он записал
на доске два слова для рифмы и время засѐк, чтобы мы сложили
по сонету… Это же тренаж для мальчиков!
А после паузы добавил:
130
– И всѐ-таки, если не обойдѐтся, а загремит – не миновать и
мне пулемѐтной роты…».
То, что судьба младшего товарища взволновала Майорова,
свидетельствует и цитированное выше письмо Николая Ирине
Пташниковой, где воспроизводится эпизод встречи друзей в
городском саду. Жуков характеризуется здесь следующим
образом: «…Хороший приятель, он учился со мной в одной
школе, писал стихи (и сейчас пишет), печатался в местных
изданиях. Он года на 2–1 моложе, пожалуй, меня. Только что
прошедшей осенью был взят в армию. Попал в Финляндию. Там
он пробыл всѐ время, пока длилась война. За несколько дней до
заключения мира он получил две пули, обе в локоть правой
руки. Сейчас, после лечения, прибыл из Крыма в 2-месячный
отпуск. Парень похудел, короткие волосы, глубокие и как-то по-
особенному светлые глаза».
И дальше идѐт рассказ о том, что, собственно и побудило
Майорова к такому обширному повествованию о «хорошем
приятеле»: «…Он грустно смотрел на проходящих по аллее
девушек. Одну из них он окликнул. Это – его первая любовь,
Галя. Она подошла к нам, увидев Володьку, изобразила на лице
удивление. И тут же, словно спохватившись:
– Почему ко мне не заходишь?
– Я только с поезда.
– Да, но ты зайдѐшь! (Это – с повелением.)
– Может быть.
– А я говорю – ты ко мне зайдѐшь, – это она произнесла,
как женщина, привыкшая встречать одобрение своих капризов.
Мне стало страшно жаль Володьку. Парень измучен, только что
зажила рана, он, как выразился, «всю Финляндию на животе
прополз», а тут – повелительные восклицания пустенькой
девушки, умеющей делать только глазки. Да надо бы человеку
на шею броситься, взять его, зацеловать – он так давно всего
этого не видел! А она вместо этого спокойно пошла по аллее,
бросив на ходу:
– Ты зайдѐшь, слышишь!
И меньше всего думая о происшедшей (такой
неожиданной!) встрече, больше любуясь тем, как она сейчас
131
выглядит. Есть же такие сволочи. Володьке сделалось неловко
передо мной. Он долго после этого молчал. Так его встречает
тыл! А ведь хороший и славный парень он! Всѐ это меня очень
тронуло».
В этом майоровском письме замечательно выражено то, что
можно назвать чувством необходимости найти себя в другом,
близком тебе человеке, разделить с ним все радости и горести,
слить разные жизни в одну судьбу. Так ещѐ до Великой
Отечественной закладывалось нравственно-духовное основание
фронтового поколения, то братство, которое станет его
охранной грамотой не только в годы войны, но и после еѐ
окончания. Доказательством тому служит жизнь и творчество
тех, кому посчастливилось уцелеть в военном лихолетье и
рассказать горькую правду о «времени и о себе» не только от
своего имени, но и от имени тех, кто «ушѐл не долюбив, не
докурив последней папиросы». И здесь нельзя не вспомнить о
таких верных хранителях памяти поколения, какими оставались
до конца жизни Михаил Дудин и Владимир Жуков.
Виталий Сердюк
Страницы жизни Николая Майорова (отрывок)
На летние каникулы в Иваново Николай приехал уже
четверокурсником. Можно было вновь спать в саду или на
сеновале в сараюшке слушать, как шуршит на крыше дождь или
плутает меж деревьев ветер, как лают на задворках собаки, а
где-то далеко-далеко, словно в заоблачном мире, играет радио...
Казалось, Николай и Костя дня не могут прожить друг без
друга. И днѐм и ночью – всегда вместе. Иногда Костя, не
оставлявший мысли поступить в театральное училище, просил
друга послушать, как звучит в его исполнении отрывок из
Гоголя или стихотворение Лермонтова. А потом Николай читал
другу свои стихи.
132
Но чем дальше катилось лето, тем все чаще Николай
вспоминал об Ирине. Иной раз, не успев отправить одно письмо,
он уже садился за другое.
Однажды он попросил друга, собравшегося укатить на
велосипеде домой – надо и родителям показаться, – бросить
свое очередное послание Ирине в почтовый ящик. Однако
Костю по пути настиг сильный ливень, и письмо не было
отправлено.
Наутро было солнечно. А под окном у Титовых уже
позванивал велосипедный звонок. Николай имел привычку не
слезать с седла, пока не удостоверится, что друг дома.
Пристроится у липы и позванивает.
Едва Костя вывел из калитки свой велосипед, как Коля
предложил:
– Слушай, Костюха, давай двинем в парк. Там сейчас
тишина, может, и искупаемся... – И друзья покатили на другой
конец города, перекидываясь на ходу шутками. Настроение у
Николая было приподнятое, и Костя, как бы между прочим,
заметил:
– Письмо, что ли, получил?
– Точно. Почему догадался?
– Да у тебя же на лице оно отпечатано... Вчера квелый
был, задумчивый, а нынче, как это вот солнышко сияешь
– Чудесное письмо написала Иринка... Да, а мое-то ты
вчера отправил?
– Побойся бога, дождище же какой был... Так в книге и
лежит.
– Ты изорви его. Я уже другое отослал.
К счастью, Костя просто-напросто забыл о письме. Долгие
годы оно лежало в книжке, ждало своего часа. Вот оно, письмо
из 1940 года.
"Милая Ярынка, здравствуй!
Пишу одно письмо вслед другому. Прости, что я так долго
заставил тебя ждать моих писем, но раз я уже начал – значит,
жди длительной и планомерной бомбардировки вашего
почтового ящика.
133
Ну, живу плохо. Особенного буйства не проявляю. И не
только потому, что абсолютно, отсутствует "целебный" напиток,
а просто, видно, годы отошли. Становлюсь мудрым и
молчаливым, как Будда. Часто бывает страшно ск-у-чно. Но, как
ответил у Пушкина Мефистофель скучающему Фаусту:
Что делать, Фауст?
Таков вам положен предел,
Его ж никто не преступает.
Вся тварь разумная скучает:
Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот насладился через меру,
И всяк зевает да живет —
И всех вас гроб, зевая, ждет.
Зевай и ты.
Вот как – видишь! Мефистофель человеческий род на
вечную скуку обрекает. И всех нас он именует вежливо словами
– "разумная тварь".
Очень соскучился по тебе – скоро ли опять увидимся, моя
коханая? Хочется увидеть тебя, обнять и крепко – так, чтобы
губам было больно – поцеловать. Чувствую, что одно спасение –
в работе. Когда занимаешься чем-либо, то меньше думаешь.
Ярынка, ты хоть почаще, милая, пиши: ведь когда прочитаю
твое письмо, такое чувство, будто я только что возвратился от
тебя. Вот жду все твоего письма, как ты приехала, и что думала,
не застав дома писем от меня, – но нет, ты все почему-то
медлишь с письмом. "Когда ж конец трагедии!?"
Вчера был в саду (летний сад отдыха молодежи. – В. С.),
видел некоторых знакомых своих. Когда-то с ними в таком саду
жили, а вот сейчас чувствуется какая-то разобщенность,
отчужденность. Некоторые из друзей уже пожелали "жизнь
ограничить семейным кругом" (Пушкин!).
Вчера же в саду наблюдал следующий интересный эпизод.
Со мной сидел хороший приятель, он учился со мной в одной
школе, писал стихи (и сейчас пишет), печатался в областных
134
изданиях. Он года на 2–1'/2 моложе, пожалуй, меня. Только что
прошедшей осенью был взят в армию. Попал в Финляндию. Там
он пробыл все время, пока длилась война. За несколько дней до
заключения мира он получил две пули, обе – в локоть правой
руки. Сейчас, после лечения, прибыл из Крыма в 2-х месячный
отпуск. Парень похудел, короткие волосы, глубокие и как-то по-
особенному светлые глаза. Видать, что человек давно не имел
лирики, – он грустно смотрел на проходящих по аллее девушек.
Одну из них он окликнул. Это – его первая любовь. Галя. Она
подошла к нам, увидев Володьку (Владимир Жуков. – В. С.),
изобразила на лице удивление. Но тут же, словно
спохватившись:
– Почему ко мне не заходишь?
– Я сегодня только с поезда.
– Да, но ты зайдешь! (Это – с повелением).
– Может быть.
– А я говорю – ты ко мне зайдешь, – это она произнесла,
как женщина, привыкшая встречать одобрение своих капризов.
Мне стало страшно жаль Володьку. Парень измучен, только что
зажила рана, он, как выразился, "всю Финляндию на животе
прополз", а тут – повелительные восклицания пустенькой
девушки, умеющей делать только глазки. Да надо бы человеку
на шею броситься, взять его, зацеловать – он так давно всего
этого не видел! А она вместо этого спокойно пошла по аллее,
бросив на ходу:
– Ты зайдешь, слышишь!
И меньше думая о происшедшей (такой неожиданной!)
встрече, больше любуясь тем, как она сейчас выглядит. Есть же
такие сволочи. Володьке сделалось неловко передо мной. Он
долго после этого молчал. Так его встречает тыл! А ведь
хороший и славный парень он! Все это меня очень тронуло.
Недавно получил письмо от Сергея Дружинина. Пишет, что
он приобрел путевку на Кавказ (с 26 июля по 13 авг.)...
Сергей после Кавказа, наверно, приедет ко мне, в Иваново.
Обратно в Москву мы поедем уже вместе. Я зову Сергея в
Иваново, чтобы познакомился с "сим" городом и его
135
достопримечательностями, среди которых первое место,
несомненно, занимаю я – "сплошная невидаль"...
Спим с Костей у него в саду, под яблонями. Прежде чем
лечь, идем есть смородину и малину. Возвращаемся сырые –
роса. На свежем воздухе спать замечательно; смотришь в
ночное небо, протянешь руку – целая горсть холодной, влажной
листвы; кругом – ползет, шевелится, и кажется, что дышит
"свирепая зелень", бьющая из всех расселин и пор сухой земли.
И впрямь слышно, как "мир произрастает"!' Изредка на одеяло
заползет какой-нибудь жучишко. Просыпаемся от солнца,
которое, проникая сквозь ветви, будит нас и заставляет
жмуриться...
Вот она – жизнь. Как сказал Велемир Хлебников:
Мне мало надо:
ковригу хлеба,
да каплю молока,
да это небо,
да эти облака.
Иногда страшно хочется написать хорошие стихи, но
почему-то не пишу.
На днях приезжает в Иваново Колька Шеберстов. Заставлю
его писать маслом с меня портрет. Благо, хоть время незаметно
убьем.
Милая Ярынка, почему нет от тебя писем. Я могу
"серьезно" рассердиться. Тогда на тебя обрушится гнев
Ахиллеса!
Пиши, как живешь, скучно ли, как дела обстоят дома, что
вообще интересного в Ташкенте.
Я пока кончаю до след. письма...
Глаза целую, губы, волосы твои хорошее. Ну, просто,
Ярынка, чудесные волосы!
Твой "Колябушка" (так она меня называла – да простит ей
бог!)
25 июля 1940 г.
За подпись прикладываю свой правый перст".
136
Лев Аннинский
Николай Майоров:
–Возьми шинель – покроешь плечи…‖
Год рождения – все тот же: незабываемый 1919-й.
Место рождения: деревня Дуровка…
Если держать в памяти ту поэтическую отповедь, которой
ответил Майоров ―свинцовым мерзостям‖ деревенской жизни,
то название может показаться не чуждым символики. Но это
ложный ход: в деревне этой он оказался почти случайно: отец,
отвоевавший в Империалистическую, переживший немецкий
плен и вернувшийся домой покалеченным, не сумел
прокормиться с земли, которой наделила его Советская власть,
и, по обыкновению, отправился плотничать в отход. Сошел с
товарняка где-то между Пензой и Сызранью, дошел до
Дуровки… и тут жена, не отлеплявшаяся от мужа, разрешилась
третьим сыном…
Место это и нанесли на литературную карту, когда стало
ясно, кто погиб двадцать два года спустя.
Место гибели тоже выяснилось не сразу: в похоронке было
– Баренцево. Какое Баренцево на Смоленщине?! Потом