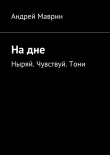Текст книги "Мы даже смерти выше..."
Автор книги: Людмила Логвинова
Жанры:
Военная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
астронома, загнанного в бомбоубежище, небо. Но сам поэт не
отдал ей, уже подступавшей к нашим границам, неба и звезд
своей родины, «зеленого зелья тополей», пенившегося на ее
просторах, «лебединой повадки» волжской волны – всего мира,
который:
… зовет тебя и дразнит,
Как женщина с ума сводящим ртом…
Ему мечталось десятилетиями:
… ходить землей, горячею от ливня,
и славить жизнь…
Ему пришлось пройти землей, горячей от взрывов и
пожарищ, и отдать за нее жизнь, отдать жизнь ради миллиона
жизней. Он с любовью вглядывался в посуровевшее лицо
родины:
Бурлаками с звонкой бечевою
шли отлогим берегом вязы.
76
… Дымом потянуло из ложбины,
Ветер дол тревожил горячо.
Кисти окровавленной рябины
Тяжело свисали на плечо.
«Звон» этой туго натянувшейся бечевы слышен в
последних стихах поэта, подставившего свои молодые плечи
под тяжелый груз, легший на его поколение и на весь наш народ
в годы войны с фашизмом.
В одном из стихов Майоров мечтал, «чтобы смерть застала
у высот».
Он погиб во время первого большого наступления
советских войск – 8 февраля 1942 года. Могила его затерялась,
место гибели точно не установлено.
Я не знаю, у какой заставы
вдруг умолкну в завтрашнем бою…
Могли бы в огромных событиях этих и последующих лет
затеряться и сами стихи молодого, почти еще не печатавшегося
поэта, известного по большей части лишь своим ивановским
землякам и московским студентам, многие из которых
разделили его судьбу. Но нашлись у него друзья, которые если
не смогли вынести с поля боя его самого, то вынесли память о
нем, разбросанные строфы его стихов, не дали им «умолкнуть».
Одни из них влюблено следили за ним еще со школьной
скамьи, как его ивановский товарищ, поэт Владимир Жуков,
другие принимали участие уже в его первых печатных
«дебютах», как тогдашний редактор литературного отдела
многотиражки Московского университета (а ныне журнала
«Наука и жизнь») Виктор Болховитинов.
Им в первую очередь обязан читатель тем, что может
прочесть эту книгу, взволнованно и благодарно войти в
поэтический мир Николая Майорова,
В тот мир простой, как лист тетрадный,
Где я прошел, большой, нескладный
И удивительно прямой.
77
Ирина Пташникова
Студенческие годы
ЦСГ – знаменитое общежитие на Стромынке, Огарѐвка –
студенческая столовая на улице Огарѐва, Горьковская читальня
под куполом – места, памятные и дорогие не одному поколению
студентов.
После лекций, которые бывали обычно с утра, в первой
половине дня, университетское студенчество, мы, историки в
частности, шли обедать в какую-нибудь из ближайших
столовых, чаще всего в Огарѐвку. А после обеда занимались до
позднего вечера, обычно до их закрытия, то есть часов до 10-ти,
в читальном зале на мехмате – на 3-м этаже старого здания
университета или в Горьковской читальне под куполом – там
же, на Моховой.
Вот здесь, на мехмате, я и познакомилась с Колей
Майоровым: наши места в читальне оказались случайно рядом.
Впрочем, «познакомились» сказано не очень точно: мы с
Николаем знали друг друга и раньше, были в одном практикуме,
в одной языковой группе и к тому же были соседями по
общежитию, но знали друг друга внешне, со стороны, не
проявляли интереса. А тут нашли общие интересы, как-то легко
разговорились.
И возвращались из читальни домой уже вместе. Темой
нашего разговора были чьи-то стихи, напечатанные в
университетской газете. Позднее эта тема – поэзия – никогда не
могла иссякнуть, хотя появилось и много других интересных
для обоих тем.
Поражала его удивительная работоспособность. Несмотря
на то, что по учебной программе нужно было перечитывать
буквально горы книг, что приходилось просиживать в читальнях
и по воскресеньям, Коля успевал очень много писать. Почти
каждый вечер он читал новое стихотворение.
78
Коля легко запоминал стихи и любил на память читать
стихи любимых поэтов. Помню его увлечение Блоком и
Есениным и в то же время – Уитменом. Помню период
особенного увлечения Маяковским. Он даже подражать ему
начал (эти стихи не сохранились). Из современников очень
любил Твардовского.
* * *
…Война подступала всѐ ближе и ближе. Коля очень
глубоко переживал судьбу товарищей, побывавших на финской
войне. Помнится, он рассказывал о ранении Сергея
Наровчатова, гибели Арона Копштейна. Их он знал по
Литинституту (тяжело ранен был его школьный друг Володя
Жуков, тоже поэт). Мне кажется, что именно под влиянием
этих событий и переживаний создано одно из самых сильных
стихотворений Коли Майорова – «Мы».
* * *
Наступила последняя наша студенческая мирная зима 1940-
1941 года. Опять лекции, занятия в читальне, посещения
литературного кружка. Нагрузка у Коли была очень большая:
ведь он учился в Литинституте, да и на истфаке в этот год
работы было много.
В этот год Коля особенно много писал, и именно стихов
этого периода почти не сохранилось. В конце 1940 года он
закончил большую и, пожалуй, лучшую свою поэму «Ваятель».
Судя по письму, которое я получила от него (подписано 19
июля), замысел поэмы возник у Коли в поезде, по дороге в
Иваново – на летние каникулы. Он писал:
«Приятно лежать на спине и пускать кольца дыма в потолок
вагона… Кончил курить. Голова чуть кружилась. Медленно
нащупывались какие-то отдельные строчки, потом сон брал
своѐ, слова куда-то проваливались, а память их снова
возвращала… Снова навязывались целые строфы. Полез за
записной книжкой, а то забуду. Записал. Писать было трудно –
вагон качало. Получилось вот что.
79
Творчество
Есть жажда творчества, уменье созидать,
На камень камень класть, вести леса строений.
Не спать ночей, по суткам голодать,
Нести всю тяжесть каждодневных бдений…»
И дальше – тот самый кусок (без четырѐх последних строк
и с некоторыми разночтениями), который печатается теперь как
стихотворение «Творчество».
Припоминаю ещѐ несколько строк поэмы, которые, мне
кажется, я не видела среди стихов, собранных В. Н.
Болховитиновым:
…А небо будет яростно и мглисто
Пылить с боков
Снежком голубизны…
Быть может, ты
Неопытным туристом
Сорвѐшься с той
Проклятой крутизны,
Но ты не трусь!
Назад тебе – ни шагу!
Грозит обвалом
Каждый поворот.
И не убив –
Не прячь обратно шпагу,
И падая,
Ты сделай шаг вперѐд!
. . . . . . . . . . . . . . .
Ведь сущность жизни
Вовсе не в соблазне,
А в совершенстве форм еѐ и в том,
Что мир грозит,
Зовѐт тебя и дразнит,
Как женщина с ума сводящим ртом…
Пришла зрелость, стихи становились всѐ своеобразнее и
отточеннее. Его стихи этого периода трудно спутать с чьими бы
то ни было – он говорил собственным голосом, только ему
одному присущими словами. Но тут грянула война…
80
* * *
Окна Горьковской читальни на Моховой, где мы
готовились к очередному экзамену по диамату, были широко
открыты. И не все сразу поняли, что же произошло, когда с
площади донеслась передаваемая всеми радиостанциями Союза
грозная весть. Но все, один за другим, вдруг поднялись и вышли
на улицу, где у репродуктора уже собралась толпа.
Война!.. Помню лицо пожилой женщины, в немом отчаянии
поднятое к репродуктору, по нему текли слѐзы. Мы же в то
момент еще не вполне реально представляли, что нас ждѐт.
У нас с Николаем в это время как раз была размолвка.
Увидев друг друга, мы даже не подошли, поздоровавшись
издали. И только через несколько дней, когда всем курсом
девушки провожали ребят на спецзадание, мы вдруг осознали
всю серьѐзность, весь ужас происходящего.
Я очень хорошо помню этот вечер. Заходило солнце, и
запад был багровым. На широком дворе одной из
краснопресненских школ выстроились повзводно уезжающие на
спецзадание студенты.
Помню Николая в этот момент – высокий, русоволосый, он
смотрел на кроваво-красный запад широко распахнутыми
глазами… Что видел он там? Судьбу поколения, так хорошо
предсказанную им в стихотворении «Мы»? Может быть, именно
в тот момент он особенно ясно понял это, почувствовал, что
«Мы» – это стихи о нѐм самом, о его товарищах, что «ушли не
долюбив, не докурив последней папиросы», в бой за мир и
счастье, в бой, который помешал им прожить большую жизнь и
дойти до потомков в бессмертных творениях, а не только в
«пересказах устных да в серой прозе наших дневников…».
Видно, и у меня в этот момент шевельнулось какое-нибудь
тяжѐлое предчувствие и горестно сжалось сердце, только я
бросилась к Николаю, и мы крепко обнялись. Это была наша
последняя встреча…
* * *
81
Многих студенток 4-го курса отправили на работу по
специальности. Я попыталась было попасть на фронт, но из-за
сильной близорукости меня не пропустила медкомиссия. Тогда
я получила назначение на работу и уехала в Ташкент. Адреса
Николая я не знала и, уезжая, оставила ему открытку по адресу
его друга, студента художественного института Н.Шеберстова.
В ответ я получила от Николая несколько писем из армии. Ни
одно из них не имело обратного адреса.
Это очень хорошие письма, душевные и трагичные, очень
характерные для Николая. В одном письме он писал:
«Ты желаешь мне мужества, если буду в бою. Спасибо.
Хоть ты знаешь, что я в этом деле не отличусь. Но что смогу –
сделаю».
Человек скромный, даже застенчивый, лишѐнный малейшей
рисовки и показного, скорее гражданский, чем военный, Коля
Майоров в то же время был наделѐн большой внутренней силой,
мужественной убеждѐнностью, которые прорывались наружу,
когда он читал свои стихи. Мне рассказывали уже после
войны, что Коле предлагали уехать в Ярославское военное
училище. Буквально в последнюю минуту отказался он и от
возможности отправиться на фронт с агитбригадой, куда его
устроили было. Он выбрал бой, передовую. Он не мог иначе.
В марте 1942 года в ответ на моѐ письмо родные Николая
написали мне, что получено извещение о его гибели: «Убит 8
февраля 1942 г. И похоронен в деревне Баренцево Смоленской
области». Много лет я хотела разыскать эту деревню, но только
летом 1958 года попробовала это осуществить.
Ни одной деревни Баренцево в Смоленской области не
оказалось, нет еѐ и в тех районах Смоленщины, которые отошли
к Калужской области после войны. Есть на Смоленщине, в 20
километрах к югу от Гжатска, деревня Баранцево, состоящая
всего из нескольких старых изб. Там мне показали
сровнявшуюся с землѐй могилу двух советских солдат, убитых в
конце зимы 1942 года. Но кто они – не известно. Вполне
возможно, что один из них и был Николай Майоров, политрук
пулемѐтной роты 1106 стрелкового полка 331-й дивизии. В
платѐжной ведомости этого полка за февраль Майорову
82
причиталось что-то получить, но подписи его нет… Он ведь был
убит 8 февраля. (Об этом я узнала в архиве Советской Армии в
Подольске летом 1958 года.)
Не удалось разыскать и однополчан Коли, которые могли
бы сказать, как он погиб и где похоронен. Два года назад в
газетах и по радио заговорили о подвиге Саши Виноградова и
его одиннадцати товарищей, погибших под Москвой, на 152-м
километре Минского шоссе в феврале 1942 года. А ведь Коля
Майоров воевал тоже в тех местах и примерно в то же время.
Может, выход книги Коли Майорова поможет разыскать его
однополчан, выяснить подробности его последних дней.
* * *
И ещѐ одна, пожалуй, наиболее важная задача: как найти
пропавшие стихи и поэмы Николая, как узнать, где он оставил
свои вещи, уходя добровольцем в армию 19 октября 1941 года.
В первый день войны к Коле из Иванова приезжал его
младший брат, Александр. Было ему тогда лет семнадцать. Он
вспоминает, как вместе с братом заходил к одному товарищу, у
того лежал Колин чемодан с книгами, и Николай просил брата
увезти некоторые книги домой. Александр предложил забрать
всѐ, но Николай только рукой махнул: до барахла ли теперь?
Были поиски, были догадки, но без результата… Но,
видимо, не всѐ ещѐ потеряно – не все ещѐ возможности
проверены.
* * *
Коля Майоров обещал многое. Поэт яркого, самобытного
таланта и исключительной трудоспособности, он рос буквально
на глазах. И не его вина, что так мало удалось донести до
людей. Но и это немногое не забудется, как не забудутся и те,
что в бои «ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы».
Из воспоминаний И. В. Пташниковой
Окна Горьковской читальни на Моховой, где мы
готовились к очередному экзамену по диамату, были широко
83
открыты. И не все сразу поняли, что же произошло, когда с
площади донеслась передаваемая всеми радиостанциями Союза
грозная весть. Но все, один за другим, вдруг поднялись и вышли
на улицу, где у репродуктора уже собралась толпа. Война!..
Помню лицо пожилой женщины, в немом отчаянии
поднятое к репродуктору, по нему текли слѐзы. Мы же в тот
момент ещѐ не вполне реально представляли, что нас ждѐт. У
нас с Николаем в это время как раз была размолвка. Увидев друг
друга, мы даже не подошли, поздоровавшись издали. И только
через несколько дней, когда всем курсом девушки провожали
ребят на спецзадание, мы вдруг осознали всю серьѐзность, весь
ужас происходящего. Я очень хорошо помню этот вечер.
Заходило солнце, и запад был багровым. На широком дворе
одной из краснопресненских школ выстроились повзводно
уезжающие на спецзадание студенты. Помню Николая в этот
момент – высокий, русоволосый, он смотрел на кроваво-
красный запад широко распахнутыми глазами... Что видел он
там?
Судьбу поколения, так хорошо предсказанную им в
стихотворении «Мы»? Может быть, именно в тот момент он
особенно ясно понял это, почувствовал, что «Мы» – это стихи о
нѐм самом, о его товарищах, что «ушли, не долюбив, не докурив
последней папиросы», в бой за мир, в бой, который помешал им
прожить большую жизнь и дойти до потомков в творениях, а не
только в «пересказах устных да в серой прозе наших
дневников...».
...Скомандовали всем построившимся: "Разойтись,
попрощаться!" Видно, и у меня в этот момент шевельнулось
какое-нибудь тяжѐлое предчувствие и горестно сжалось сердце,
только я бросилась к Николаю, и мы крепко обнялись. Хотя
перед этим долго не виделись и не подходили. Он очень меня
обидел, и я уже не верила ему. А тут – все по боку, все обиды и
недоразумения, все забылось в один миг. Бросились в объятья,
крепко расцеловались. Сказали ли что-нибудь? Не знаю.
Наверное, сказали какие-то ничего не значащие слова. Главное
было не в них... Ребят снова построили и повели. Ушли они –
еще не на саму войну, но уже почти, ушли на спецзадание и для
84
многих это было началом пути военного. И многие уже в
мирную жизнь так и не вернулись. В том числе и Николай. А все
то, что он не сказал мне тогда – он потом написал в
пронзительных по искренности нескольких письмах, солдатских
письмах...
Это была наша последняя встреча...
Ирина Пташникова вспоминает
(Текст воспроизведен по аудиозаписи рассказа
И.В.Пташниковой автором)
1.
Мы познакомились на первом курсе исторического
факультета МГУ, где одновременно учились с ним. Это набор
1937 года. Двести человек, двести с лишним в то время набрали:
половина – иногородних, вторая половина – москвичей. И вот
иногородние жили в общежитии, в центральном студгородке,
ЦСГ, на Стромынке, где наши комнаты были неподалеку друг
от друга.
Занятия проходили в основном в старом здании МГУ, это
на Моховой, и на улице Герцена 5 был исторический факультет,
где обычно мы на занятиях и встречались в одной языковой
группе, в одном практикуме. Как-то на первом курсе слишком
много было разнообразных впечатлений от Москвы. У меня
появилась масса возможностей в различные кружки записаться.
А Николай был с первого же курса, сразу у него
единственное увлечение, кроме… (он учился очень старательно
и хорошо) – это поэзия была. Надо сказать, что я с детства очень
любила всегда стихи. В детстве раннем и стихи от мамы
услышанные, а потом и прочитанные, как-то я приучилась
запоминать их. И очень много читала, и очень много наизусть
запоминала. Сама я не пыталась писать никогда, но
интересовалась этим.
И вот на истфаке, как-то знакомство и дружба, сближение с
Николаем произошли-то на почве поэзии. Помню, как-то я
читаю выпуск многотиражки университетской «Московский
85
университет», где была литературная страница, которую
редактировал Болховитинов, в то время студент, немножко
старше нас. Он был на втором или на третьем курсе.
Впоследствии это писатель известный, многолетний редактор
журнала «Наука и жизнь». И там же, на этой литературной
странице, появились первые стихи Николая Майорова, в
университете. И он как-то сразу выдвинулся в первые ряды
студентов-поэтов. Вот, собственно говоря, до войны у него
ничего не было опубликовано, кроме стихов, которые
печатались в многотиражке университетской «Московский
университет».
Познакомились так поближе мы с Николаем при чтении
этой литературной страницы вышедшего только что номера
«Московского университета». И там были стихи. В одних
стихах… Стихи были посвящены мне другим поэтом,
второкурсником Володей Скворцовым. И там были такие слова
или «что-то профиль строгий твой вижу…» или «взгляд
коричневых глаз…». Вот что-то такое. Как он торопится на
лекцию и рассказывает: «Вот и вход. Обгоняя звонок рывком,
вот и лестница змеем разлеглась посреди колон». Я это читаю и
слышу такое ироническое хмыканье у меня за спиной: «Хм,
лестница змеем». Смотрю: это Коля стоит. «Тоже образ
придумал!».
И вот мы сперва начали обсуждать это стихотворение, но
оно было посвящено мне. Ему это как-то не очень понравилось.
И уже вечер мы провели вместе в библиотеке, на третьем этаже
мехмата, в читалке, вернее, где наши места оказались рядом. И
мы проговорили весь вечер и потом возвращались в общежитие
вместе, это из центра в Сокольники. И вот с тех пор, вот с этого
стихотворения, у нас началось, так сказать, близкое знакомство.
Сперва – о стихах. Я знала наизусть очень много стихов. В
то время и не очень известную для нас и Цветаеву Марину, и
Ахматову. И многое наизусть ему рассказывала, а он мне в ответ
свои стихи читал. И меня поразило, насколько у него
действительно настоящие… (вот любил он это слово
«настоящие») стихи.
86
Потом познакомились поближе. Стали чаще бывать вместе.
Все возвращения домой, считай, были они совместные. И он
мне понемножку рассказал о себе. Он приехал в Москву из
Иванова.Родители Петр Максимович Майоров, участник
Первой войны четырнадцатого года. Ну, он был плотником по
профессии, не очень грамотный человек. Но много, видимо,
читавший. (Впоследствии мы с ним десять лет переписывались,
с Петром Максимовичем. Его письма сохранились, и я сдала их
в ЦГАЛИ, в архив). И мама его Федора Федоровна, маленькая,
щупленькая.
Вот кроме Николая, был у еще них старший сын 1909-го
года –Алексей,еще в тридцать девятом году на
Халхин-Голе он воевал,летчик. Следующий сын был
Иван, вот он погиб в эту войну, сорок первого – сорок пятого
года. Затем был Виктор. Виктор по профессии – инженер, но
военный инженер. И Александр, самый младший, который в
войне участия не принимал.
Ну, вот так познакомились мы с ним. Ну, а потом,
собственно, такое знакомство с разговорами, в основном, о
стихах, о поэзии. Николай стал приглашать меня на занятия
литературного кружка. Есть такая фотография, появилась перед
войной, в сороковом году. Этот литературный кружок, которым
руководил в то время орденоносец Долматовский, и Маргарита
Алигер приходила. Так мы гордились. И вот есть фотография,
на которой показано занятие этого кружка. Видим там –
Николай Майоров, и его друг, наш сокурсник, Немировский
читает стихи.
Ну, и вот как-то Коля мне предлагает: «Хм, ты знаешь,
давай я вот напишу стихи, и ты их прочитаешь, как будто это
твои стихи». А я говорю: «Зачем мне это нужно?». В общем, я
ходила с интересом на эти занятия литературного кружка, но у
меня интересов было очень много в то время. Я участвовала в
занятиях кавалерийской школы, пулеметной школы. И там, и
там я стала инструктором, несмотря на то, что я была уже с тех
пор очень сильно близорукая. Вот у меня было «минус семь».
И.. лошадь сама скакала, куда надо. А из пулемета я стреляла
все-таки при помощи очков. Ну, и альпинизм меня увлекал.
87
Одно стихотворение Колино есть, называется «Одесская
лестница». Почему «Одесская лестница»? Я
десятый класс кончала в Одессе и приехала из Одессы.
А увлеклась я археологией еще. История, как таковая,
интересна, но подумать, что я буду преподавателем истории,
как-то мне было скучновато. Я решила, что археология,
экспедиции (а я ж приехала из Средней Азии, детство мое
прошло в Средней Азии, там же я и верхом впервые начала
ездить, потом пески, Хорезм рядом, там романтика, вот тех лет
революционных). И я моментально записалась на кафедре
археологии (это уже к третьему курсу), специализация – по
археологии.
И вот тут, тут мы уже всерьез с Колей начали подумывать
«а может, нам…» (это на третьем курсе, где-то тридцать
девятый год). И он мне предложил выйти за него замуж. И тут
появилось стихотворение. Его. Стихотворение это... И
озаглавлено оно было так: «Тебе». А стихотворение… Я о нем
узнала позже.
Просто когда он меня пригласил поехать вместе с ним в
Иваново, познакомиться с родителями, «а потом поедем на
Плес…». Это было перед каникулами студенческими. А я уже в
это время начала работать в Хорезмской экспедиции, в
камеральной обработке, и рвалась поехать в пески, в Кызылкум.
Ну, я сказала: «Да нет, я все-таки в экспедицию, археология мне
интереснее».
Ну, сами понимаете, самолюбие. Как бы там… И
появляется стихотворение – «Тебе».
Тебе, конечно, вспомнится несмелый
и мешковатый юноша,
когда
ты надорвешь конверт армейский белый
с "осьмушкой" похоронного листа...
Он был хороший парень и товарищ,
такой наивный, с родинкой у рта.
Но в нем тебе не нравилась
одна лишь
для женщины обидная черта:
88
он был поэт, хотя и малой силы,
но был,
любил
и за строкой спешил.
И как бы ты ни жгла
и ни любила, —
так, как стихи, тебя он не любил.
И в самый крайний миг перед атакой,
самим собою жертвуя, любя,
он за четыре строчки Пастернака
в полубреду, но мог отдать тебя!
Земля не обернется мавзолеем...
Прости ему: бывают чудаки,
которые умрут, не пожалея,
за правоту прихлынувшей строки.
Когда мне, даже не Николай… (Это я уже вернулась из
экспедиции, а экспедиция тридцать девятого года была очень
интересной, масса интересных находок… Я занялась всерьез
научной работой по археологии).
Ну, когда мне ребята, кто-то, не Николай, а ребята: «Как,
мол, ―за четыре строчки Пастернака … мог отдать тебя‖?». Я,
конечно, на это обиделась: «Как так?». Тут, конечно, было
недоразумение. Потому что, когда мы на эту тему с Николаем
стали говорить, он мне что-то попробовал, так сказать,
объяснить, я разобиделась, повернулась и ушла. Но это уже
было… Это уже не тридцать девятый, это был уже сороковой
год. Сороковой год и преддверие сорок первого. Осень
сорокового года.
Ну, я некоторое время, когда услышала такое отношение…
Ну, как же так? Сперва прям…вот как! Ах, любовь! А потом
вдруг… но главнее все-таки что-то другое.
В то время мы были максималистами. Казалось, что главнее
ничего не может быть. И я в этом отношении считаю, в общем,
что это было правильно, да и он так считал. Это была просто
бравада. И с его стороны, конечно, обоснованная, потому что
вот такая лихая явилась из экспедиции.
89
Я продолжала заниматься. Я была инструктором в
кавшколе, была инструктором в пулеметной, потому что там
уже платили. А в это время плату за обучение с нас стали брать.
В это время, с тридцать восьмого по весну сорокового, моего
отца, остававшегося в Ташкенте (он химик, инженер-строитель),
его арестовали.
2.
Мне в комсомоле… ничего, в общем... Попросили написать
заявление на эту тему. Я написала, что, мол, отец находится под
следствием… Ну, я не верю, что он может быть… Но
действительно его в марте сорокового его освободили. Я
получила телеграмму «Свободен. Реабилитирован. Здоров.».
В это время у нас с Николаем такой расцвет. Я отцу
сообщила о том, что я собираюсь вот выходить замуж. И с
Николаем у нас было идеально, прекрасные отношения. Вот к
этому времени относится стихотворение «Что значит любить».
Я вам его потом прочитаю.
Идти сквозь бурю напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую.
Идти и падать. Бить челом.
И все ж любить ее – такую!
Забыть про дом и сон,
Про то, что
Твоим обидам нет числа,
Что мимо утренняя почта
Чужое счастье пронесла.
Забыть последние потери,
Вокзальный свет,
Ее «прости»
И кое-как до старой двери,
Почти не помня, добрести,
Войти, как новых драм зачатье,
Нащупать стены, холод плит…
Швырнуть пальто на выключатель,
Забыв, где вешалка висит.
И свет зажечь. И сдвинуть полог
90
Кромешной тьмы. Потом опять
Достать конверты с дальних полок,
По строчкам письма разбирать.
Искать слова, сверяя числа,
Не помнить снов. Почти крича,
Любой ценой дойти до смысла.
Понять и сызнова начать.
Не спать ночей, гнать тишину из комнат,
Сдвигать столы, последний взять редут,
И женщин тех, которые не помнят,
Обратно звать и знать, что не придут.
Не спать ночей, не досчитаться писем,
Не чтить посулов, доводов, похвал
И видеть те неснившиеся выси,
Которых прежде взор не достигал, —
Узнать вещей извечные основы,
Вдруг вспомнить жизнь.
В лицо узнать ее.
Прийти к тебе и, не сказав ни слова,
Уйти, забыть и возвратиться снова,
Моя любовь – могущество мое.
«Волшебный край песков и солнца». О Хорезмской
экспедиции. И эта статья была опубликована в нашей
многотиражке университетской. И сразу как-то ко мне интерес в
этом плане: «А что же в экспедиции, как и что?» Тут рассказы
всевозможные о находках. Статья появляется в «Московском
комсомольце» – о нашей экспедиции и обо мне. И там, значит,
что называется «любознательность»… что-то такое. Уже
положение обязывало, Уже мне, легкомысленно увлекающейся
то одним, то другим, нельзя было оставаться. И я взялась
всерьез за ученье. То есть, тут организовался… организовала
факультативный курс архитектуры. Пригласили хорошего,
известного профессора Брнова. Он нам читал этот курс
факультативно. Было все интересно. А потом вдруг возникает
такое предложение... по-моему, наверное, в комитете
комсомола, что «а не пора ли нам на факультете, уже не на
91
курсе, организовать научное студенческое общество, НСО». И
меня выбирают председателем оргбюро этого научного
студенческого общества. Ну, вошли туда несколько известных
наших профессоров. Тот же Толстов , который в то время —
руководитель, начальник Хорезмской экспедиции, заведующий
кафедрой этнографии на истфаке, и в то же время директор
института материальной культуры Московского филиала. Ну, и
еще, значит, профессор, ведущий, Бахрушин туда же вошел.
Вот Толстов, Лебедев … В общем, четыре известных
профессора, а дальше – студенты шли. Студенты не только…
Вот я была председателем этого общества, а потом были
студенты и с истфака… Вот сын академика Шмидта (сейчас
часто он выступает)… Сигурд его звали, Шмидт. Он был на два
курса младше. Мы привлекли его в это общество, потому что он
будет нам, значит, … читающих лекции академиков,
профессоров… Первым, кто читал лекцию, был его папа, Отто
Юльевич Шмидт. Организовали….
Это была, конечно, очень интересная, очень ответственная
работа. И уже в это время халтурить, что называется, сдавать
так, как получится, мне, ну… не хотелось. Я всерьез занялась
учебой. Это был, значит, конец третьего курса и четвертый курс
истфака. Мой последний, наш с Николаем, последний
предвоенный курс.
Ну, вот тут произошел у нас некоторый разлад на этой
почве, я вам рассказывала, чувство ревности какое-то. Потом
подходит декабрь сорокового года. Николай (как-то в
общежитии мы с ним встречаемся)говорит… ну, опять,
так сказать, попросил прощенья, «да не обижайся, давай вместе
встретим новый год». Сорок первый. Я согласилась. Это должна
была быть компания его друзей. Вот его соклассник, Николай
Шеберстов, стал известным художником потом. Его соклассник-
ивановец, Константин Титов, учился в Вахтанговском училище.
В последствии стал актером Рижского ТЮЗа, и до сих пор он в
Риге. Вот эти ребята и их подруги собирались на квартире
братьев, тоже
впоследствии художниками они стали. Ройт..., не помню точно
фамилию. Я согласилась.
92
И вот вечер тридцать первого. Вдруг приходят за мной
Костя Титов, Коля как-то виновато говорит: «А ты знаешь, я не
могу пойти – я получил телеграмму о том, что умер отец. В
Иваново. И он в ночь под новый год уезжает в Иваново. Ребята
мне говорят «ну, все-таки пойдем вместе». И я вот эту
новогоднюю ночь сорок первого года провела вместе с ними,
вот, без Николая.
Потом, Николай когда приехал оттуда, и говорит:
«Понимаешь… Подхожу к дому, рань (это ночной поезд был,
Кинешемский, наверное; вот он подходит к дому ранним утром)
…Слышу, говорит, – музыка играет. Что такое? Вхожу – все в
порядке. Отец жив-здоров. Веселятся. Новый год…»
Кто? Я до сих пор не знаю. И так и мне никто толком не
объяснил, кто и каким образом сумели послать телеграмму, что
«приезжай, отец умер». Понимаете? Но у меня и тогда уже
какое-то закралось недоверие. Дело в том, что вот эти товарищи
его, соклассники, Коля Шеберстов и Костя Титов, они были
шутники, они были очень веселые, хорошие ребята. А ко мне
относились очень хорошо. Был классом младше Володя Жуков,
Владимир Семенович Жуков. Учился он где-то на два года
моложе или на полтора. Этот Володя Жуков… Да, соклассница
была у Коли – Женя, очень милая, очень красивая девушка (он
мне показывал ее фотографии). Ну, вот как-то так получилось,
что она не смогла почему-то поехать вместе учиться в Москву.
Кажется, она заболела, что-то было такое. И для Коли это было
на первом курсе очень большим ударом. Вот «вокзальный свет,
ее ―прости‖» – когда она не поехала c ним.
Ну, что потом? Вот мне казалось, что когда он вернулся,
поехал в Иваново, возможно, что он опять встретился с Женей,
опять возникло прежнее чувство. У меня тоже было такое
чувство недоверия. Тем более что мы уже дали слово с ним
пожениться, и фактически мы-то с ним уже были мужем и
женой. Так можно было сказать, да и перед сокурсниками... Это
был четвертый курс, к этому времени… почти все к этому
времени уже нашли свою пару, переженились, замуж
повыходили. В моей комнате мои подруги, с которыми я
поступала, они все уже к этому времени были замужем, уже
93
даже были в положении многие. Ну, у меня вот такая вот,
понимаете ли, получилась… Какой-то разрыв.
И вот идет январь, февраль сорок первого года. Мы то
миримся, то опять ссоримся. Уже какое-то недоверие
проскользнуло. И у меня где-то записи: «Ну, разве можно вот
так? Ну, как же так? Разве так суждено меж людьми? Да что же
вот…». И вот подходит весенняя сессия. Занимаемся мы уже не
в одной читальной. И я занималась в читалке… Вот, если вы
представляете себе, Моховая, здание 9/11. И потом на углу, вот
здание, там, где сейчас памятник Ломоносову, где остался