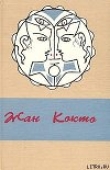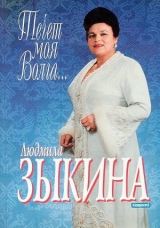
Текст книги "Течёт моя Волга…"
Автор книги: Людмила Зыкина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
Работать с оркестром, когда за пультом стоял Виктор Дубровский, было непросто, но всегда интересно. К нему на репетицию нельзя явиться «не в форме», не в настроении. Убежденный в единственно правильной трактовке произведения, он как бы исподволь умел доказать свою точку зрения, не навязать, нет, увлечь своим пониманием смыслового и музыкального содержания песни. И тогда, отбросив «домашние заготовки», еще раз невольно убеждаешься в его правоте. Тонко чувствуя музыку, он превращал оркестр во вдохновенного единомышленника, помогая солисту добиться стопроцентного «попадания» в сердца слушателей. Какая радость и возбуждение переполняли меня на премьере в Кремлевском Дворце композиции «Тебе, женщина!». А ведь всего за месяц до нее, когда начались репетиции с оркестром, на душе у меня было очень неспокойно. На черновом этапе многое не ладилось. Сама я день и ночь зубрила тексты песен, а программа никак не выстраивалась. Вмешался Дубровский и наглядно показал, что дело мастера боится. Буквально в считанные дни Виктор Павлович «собрал» весь оркестр, и песни «заиграли», обрели дыхание и легко полетели в зал.
Заметный след в моих творческих поисках оставила работа с Оркестром народных инструментов под управлением Владимира Федосеева. Когда-то Володя Федосеев был у нас в оркестре радио баянистом. И как приятно, что некоторое время спустя он взял в руки дирижерскую палочку. Теперь он знаменитый дирижер, руководитель Большого симфонического оркестра имени Чайковского в Москве и престижного Венского симфонического оркестра. Его трактовка ряда произведений, например Первой симфонии Калинникова и «Ивана Грозного» Прокофьева, вызывают уважение к отечественной культуре.
Федосеевский оркестр запоминается своим легким, прозрачным, неповторимым звучанием; его тщательно «выписанные» музыкальные «акварели» во время гастролей оркестра в Мадриде восхищенная публика слушала стоя.
Многие мои записи на радио и на пластинках сделаны с оркестром Федосеева. Иногда нелегко они нам давались. Вспоминаю запись (в радиостудии на улице Качалова) песни А. Экимяна «А любовь все жива». Работа не клеилась. Я нервничала, нервничал и находившийся в режиссерской будке композитор. Мне казалось, что передо мной был веселый марш, а не песня. Федосеев объявил перерыв, чтобы я успокоилась. И вот оркестр на местах, Владимир Иванович взял дирижерскую палочку.
– Начали? – спрашивает.
Согласно киваю головой. Спустя некоторое время чувствую, что-то темп высокий взяли. Не то…
– Владимир Иванович! Вы меня торопите и торопите, а мне хочется шире взять.
Попробовали.
– Еще шире!
Чувствую, получается песня! Ритм поменялся, сдвинулись акценты. Оркестр повеселел, Федосеев заулыбался. Композитор представлял себе песню как веселую, задорную, а в результате получилась широкая, эпическая. И это был не произвол дирижера и певца, а закономерный итог глубокого проникновения в словесно-музыкальную ткань произведения.
Иногда выступала я с федосеевским оркестром и в публичных концертах, которые всегда становились для меня строгим экзаменом на чистоту и эмоциональную наполненность исполнения. Федосеев никогда не ограничивает певца жесткими рамками клавира, поощряя тем самым его порыв к импровизации. И тогда прямо на глазах у зрителей совершается чудо – нерасторжимое слияние голоса и сопровождения.
Меня часто спрашивают, в чем заключается секрет воздействия моих песен на слушателя. Должна сказать, что никакого секрета в моем пении не было и нет. Просто с самого детства я не принимала «открытый» звук, столь характерный для традиционной, фольклорной манеры пения. Я предпочитаю более прикрытое, мягкое звучание. В русском пении мне дороги именно «украшения», когда одна нотка нанизывается на другую.
«Никогда ты не поешь, как написано!» – полушутя-полусерьезно говорил мне художественный руководитель Хора русской песни радио профессор Николай Кутузов. А дело было в том, что в работе над песней я старалась находить свойственные только мне одной вокальные краски, добавочные нотки – форшлаги, мелизмы. Скажем, поют песню, как плетут где-нибудь в глубинной России знаменитые русские кружева; вся артель плетет одинаковый узор, а у одной из кружевниц лепесток выпуклей да изящней – вот и получается кружево рельефнее, а в этом красота-то какая! Здесь и чудо-птица, и чудо-цветы. Настоящая поэзия!
Кроме того, я вносила в уже готовую песню элементы импровизации, которая испокон веков была основой народного пения, придавая песне неизменную свежесть, наполняя ее животворными соками.
Мой излюбленный вокальный прием – контрастное сопоставление на одном дыхании громкого и тихого, как бы засурдиненного, звучания с незаметными переходами. Владение им помогает выделить мелодические «светотени», усилить соответствующие акценты. Для меня это не вокальный эффект, а средство выражения бесконечно разнообразных человеческих переживаний в их непрерывном движении.
Такая манера пения утверждалась в процессе моего творческого содружества с разными музыкантами, и прежде всего с моими многолетними партнерами Анатолием Шалаевым и Николаем Крыловым.
Когда в детстве Толе Шалаеву ставили баян на колени, его едва было видно из-за инструмента. Шестилетний мальчуган запомнился многим по кинокомедии «Волга-Волга», где он гордо и важно объявляет: «Музыка – ваша, обработка – моя!»
В армейском ансамбле Шалаев повстречался с Николаем Крыловым. Так возник известный дуэт баянистов. Музыка соединила их прочными узами, сгладила разницу в характерах, подчинила их душевные порывы одной цели – творчеству.
Инструментальный дуэт помог глубже раскрыть суть каждого музыканта. Любопытно, что, разучивая песню или инструментальную пьесу, они не расписывали партий. Шалаев «вел» мелодию, а подыгрывающий Крылов словно вторил ему.
Анатолий Шалаев – разносторонний музыкант. Он – автор многих переложений моих песен.
Анатолий Шалаев и Николай Крылов были для меня не просто партнерами-аккомпаниаторами, а настоящими единомышленниками. Мы сообща работали над песней, а на сцене даже «дышали» вместе. Я всегда чувствовала за спиной их поддержку, а они в свою очередь точно улавливали малейшие колебания моего голоса.
Особняком в списке моих учителей стоит Сергей Яковлевич Лемешев, с огромной душевной щедростью делившийся со мной секретами своего мастерства. Именно он помог мне понять глубину и очарование русского романса, русской народной песни.
В любой из них он находил задушевность, искренность, мелодичность, красоту. Вот почему его вокальный стиль созвучен и русской сказке, и русской поэзии, и русской живописи. А его высокий художественный вкус и такт, понимание природы песни, глубочайшее проникновение в ее смысл стали образцами для подражания для целого поколения выдающихся певцов современности.
Артист умел, как никто другой, передать подлинную народность русской песни, не позволяя себе несвойственных ей эффектов. Его сдержанность, целомудренное отношение и огромная любовь к музыкальному наследию народа стали и для меня законом в творчестве.
– Основа русской школы пения, нашей музыкальной культуры – в народной песне, – говорил Лемешев. – А так как песня – душа народа, то в ее трактовке многое решает искренность. Без нее нет ни песни, ни исполнения. В народе много поют не так, как это делаем мы, профессиональные певцы. Но нам так петь и не надо. Мы должны исполнять песню по-своему, но обязательно так, чтобы народ ее принял за свою.
Прежде чем определить форму подачи песни, надо понять ее душу, внимательно вчитаться в текст, попробовать нарисовать в воображении образ произведения, самому стать героем его.
Каждый художник, конечно, найдет в музыке и словах произведения наиболее близкую трактовку. Но главное – избежать банальности, которая одинаково может проявиться как в полном безразличии к тому, о чем поешь, так и в нарочитой аффектации, грубой иллюстративности.
– Помните, – наставлял певец, – что в основе мелодии народной песни всегда лежит слово. Произношение текста должно быть достаточно четким, иначе задуманный вокальный образ не дойдет до слушателя. Хорошо же произнесенное слово более разнообразно оттеняет особенность и красоту мелодии.
Но, к сожалению, от природы не все одинаково наделены способностью ясно и четко произносить слова. И над дикцией надо специально работать. Известный дирижер Большого театра Н. Голованов со свойственной ему запальчивостью кричал, бывало, на злополучного исполнителя: «Это вам не у бабушки на кухне! Будьте добры четыре буквы «з» в слове «княззззь»!» А потом уже спокойно заключал: «Учитесь у Глинки. Вот у кого всегда отчетливо продекламировано слово!»
Проникая в музыкальную архитектонику фразы, надо уметь ощущать и ее смысловой подтекст. Тогда и акценты будут расставлены правильно, по своим местам.
В исполнении песни важно чувство меры. Но сдержанность не должна оборачиваться безликостью, а эмоциональность – разухабистостью. Четкая образность, страстность, свобода в обращении со своими вокально-техническими ресурсами – вот что должно отличать мастера русской народной песни. Изучение творчества других мастеров и художников, его анализ помогут найти свой голос и свою самобытность.
– Музыкальное творчество и исполнительское искусство тесно взаимосвязаны, – подчеркивал Сергей Яковлевич. – Но «диктатором» все же является музыка, образы, рожденные вдохновением и фантазией композитора. Исполнитель должен правильно прочесть и рельефно передать то, что хотел сказать автор. Чтобы выполнить эту задачу, необходимо почувствовать «ключ», в котором написана музыка.
Одно из главных достоинств искусства вообще и, в частности вокального, – поэтичность. Все гении искусства и культуры всегда были поэтами жизни. Они открыли ее красоту людям. В исполнительском искусстве тоже надо быть поэтом, стремиться поселить в душе слушателей поэтический образ. Ведь музыка владеет особым секретом шлифовки души человека, культивирует в нем способность восприятия всего самого возвышенного, благородного, что есть в жизни. Вот на чем зиждется культура певца, ее уровень.
В последнее время народная песня часто подвергается эстрадной обработке. Такая аранжировка широко известных мелодий имеет право на жизнь, но где, как не в области эстрады, так важен вкус, общая и музыкальная культура исполнителей. У нас много новых превосходных обработок. Но много, мягко говоря, и плохих, варварски искажающих мелодию, навязывающих чуждую ей гармонию. Нередко под воздействием «стиля» обработки песня лишается плавности, ее спокойное, мерное движение будоражится синкопами. Не могу исполнять народные песни или русские романсы в чуждой их стилю обработке и вам не советую этого делать, как бы ни было заманчиво попробовать спеть подобные «народные» произведения.
Песня должна быть согрета певцом, пропущена через его душу. Уметь раскрыть людям правду и мудрость жизни – вот в чем суть. Люди двигают вперед науку, производство, хозяйство и любят хороших певцов. Поэтому надо учиться, и учиться петь хорошо, и своим искусством достойно служить народу.
Эти лемешевские заветы прочно осели в моем сознании на долгие годы, и я, как могла, проводила их в жизнь.
Непреклонной верности своему художественному вкусу, гражданственности, исключительно серьезному отношению к работе я училась у Клавдии Шульженко. Вот это была неповторимая индивидуальность, настоящее явление в нашем искусстве. Сколько сменилось поколений слушателей, а ее популярность не гасла, как и не гас огонь любви в песнях этой замечательной актрисы.
Нельзя петь о чем угодно и обо всем – вот к какому выводу я пришла от встреч с искусством Шульженко.
Поискам образа в песне, точному жесту, рациональному поведению на сцене, особенно при работе над тематическими программами, училась также у нашей неповторимой эстрадной актрисы Марии Владимировны Мироновой.
Каким удивительным даром перевоплощения она владела! Мгновенная смена настроения, и сразу же – новая походка, улыбка, осанка; у каждого острохарактерного персонажа свое лицо, своя мимика и, что очень важно, свои модуляции в голосе.
Чтобы научиться передавать особенности содержания того или иного произведения, нюансы партитуры, свое собственное состояние, я обращалась к творчеству самых разных актеров, музыкантов и певцов. Одни из них помогли мне почувствовать романтику Шуберта и классическую сдержанность музыки Генделя и Баха, философскую глубину мысли в романсах Рахманинова и воздушную легкость, красоту творений Моцарта. Другие дали толчок к освоению новых музыкальных направлений и стилей. Третьи привели к поиску образного отражения жизни через самый изначальный, глубинный процесс освоения того песенного материала, который оказывался нужным нынешнему слушателю на любых широтах.
Воспринимать музыкальные образы Чайковского и Рахманинова мне, например, помог Ван Клиберн (точнее, Гарви Лэвэн Клайберн). Впервые я его увидела весной 1958 года в Большом зале консерватории, когда он стал победителем Международного конкурса имени П. И. Чайковского, получив первую премию, золотую медаль и звание лауреата.
За роялем сидел худощавый, высокий, симпатичный парень и словно ворожил над инструментом, извлекая из него непостижимой красоты звуки. Никому из претендентов на «золото» – а их было сорок восемь из девятнадцати стран – не удавалось играть столь проникновенно, с таким тонким и глубоким пониманием музыки. Когда он заканчивал играть и вставал со стула, застенчиво улыбаясь, зал будто взрывался от оглушительных аплодисментов. «Премию! Премию!» – неслось отовсюду вслед жюри, удалявшемуся на заседание после третьего, заключительного тура. «Казалось, что все с ума посходили, – вспоминал потом Арам Ильич Хачатурян. – Даже королева Бельгии Елизавета не удержалась от соблазна слиться с залом, приветствуя Клиберна».
В дни конкурса я узнала, что Клиберн живет в Нью-Йорке, куда он приехал семнадцатилетним парнем из Техаса, чтобы совершенствоваться в музыкальном образовании. Его педагог профессор Розина Левина, русская пианистка, уехавшая из России в 1905 году (кстати, ее имя стоит на золотой доске Московской консерватории рядом с именами Рахманинова, Скрябина), вложила в воспитание Вана все лучшее, что было в фортепианном исполнительстве русских музыкантов. Именно тогда он впервые соприкоснулся с романтизмом, правдивостью, искренностью русского искусства.
В честь победы Вана Клиберна в США был установлен «День музыки». Крупнейшие компании грамзаписи наперебой предлагали ему контракты. Газеты печатали программу пятидесяти концертов на следующий сезон со всеми лучшими оркестрами страны. Пресса сообщала также о растущих доходах фирмы «Стейнвей» (Клиберн предпочитал рояль этой фирмы) и о выставке подарков и сувениров, привезенных музыкантом из Советского Союза, в здании фирмы с разрешения главы ее, Фредерика Стейнвея. В газетах подробно описывались всевозможные предметы, красовавшиеся на стендах выставки, – от фарфорового блюда с изображением русской тройки на дне до старинной балалайки. «Случайно великими не рождаются!», «Поклонники Элвиса Пресли перешли на сторону Клиберна», – сообщили читатели газеты. В знак благодарности победитель московского конкурса добился разрешения на бесплатный допуск подростков на свои репетиции. Клиберн потребовал также, чтобы билеты для молодежи были как можно более дешевыми. «Пусть лучше слушают Чайковского или Рахманинова, чем песенки про сомнительную любовь», – сказал он. Пресса не скупилась на информацию обо всем, что было связано с именем музыканта. «Скатерть стола, за которым обедал Ван Клиберн в ресторане «Рейнбоу Рум», украдена». «Вчера на кладбище Валхалла Клиберн посадил на могиле Рахманинова куст белой сирени, привезенный с собой из Москвы. Дочь композитора пианистка Ирен Волконская благодарила музыканта, подарив ему на память талисман Рахманинова – старинную золотую монету». «На пресс-конференции Клиберн заявил, что чек в 1250 долларов он передает в американский фонд укрепления международного культурного обмена».
– Журналисты следовали за Ваном по пятам, – рассказывала мне спустя годы помощница Клиберна по связям с общественностью Элизабет Уинстон. – Даже в туалете он мог встретить любителя новостей. Толпа репортеров из разных газет превратилась в свиту и сопровождала пианиста всюду. Популярность его не знала границ. Как только он показался в филадельфийском универмаге «Ванам Экер», чтобы купить пиджак, все вокруг пришло в движение. Как Клиберн вышел оттуда живым, одному Богу известно. На следующий день людское море едва не поглотило «кадиллак», в котором он уезжал после концерта. Во всяком случае, дверцы автомобиля оказались изрядно помятыми, слабо держались на петлях и остались без единой ручки. Ни одна грамзапись не пользовалась таким спросом, как пластинка с концертами Чайковского и Рахманинова.
В июне 1962 года я вновь увидела Клиберна дважды – в Большом зале консерватории и на сцене Кремлевского Дворца. Получалось у Вана все – и «Подмосковные вечера» Соловьева-Седого, и «Аппассионата» Бетховена, и рапсодия Брамса, и «Баллада» Шопена… Я вдруг обнаружила, что лирика и высокая поэзия исполнительского искусства Клиберна, неподдельная искренность и простота оказались созвучны и близки моим устремлениям. Чистота, первозданность, особое целомудрие, выразительность, мягкость и задушевность звука, превосходная полифония в сочетании с ясностью и пластичностью фразировки, с верным и всегда точным ощущением целого так меня увлекли, что я словно открыла для себя неведомый доселе пласт, который позволил заново переосмыслить мои песенные пристрастия и привязанности. Я очень сожалела, что, будучи в Горьком, где Клиберн исполнял Третий фортепианный концерт С. Прокофьева в сопровождении симфонического оркестра Московской филармонии под управлением К. Кондрашина на сцене Дворца культуры автозавода, я не смогла встретиться с Ваном. Зато спустя три года, когда он играл в Большом зале консерватории, я все же наверстала упущенное и «достала» музыканта после концерта в кругу именитых московских друзей Клиберна. Вблизи пианист выглядел просто гигантом, коломенской верстой. Стройный, прямой, подтянутый, с умными, живыми глазами. «Возвышается над всеми нами как каланча, – говорю А. И. Хачатуряну, стоящему рядом. – Наверное, хороший получился бы из Вана баскетболист». «Рост Авраама Линкольна – метр девяносто три», – отвечал знаменитый маэстро.
Я внимательно смотрела на пианиста, пытаясь найти перемены, и, к счастью, не нашла: он оставался все таким же приветливым, с той же шапкой вьющихся волос.
– Каждый час, проведенный в вашей стране, останется в моей памяти навсегда, – с мягкой улыбкой на лице говорил Клиберн. – Это лучшее время моей жизни. Москва открыла мне дорогу в большое искусство. Теперь я объехал весь свет. Что может быть лучше музыки, обогащающей людей, делающей их духовно чище, прекраснее? Поэтому я и играю для них. Популярность, конечно, вещь приятная, но в то же время утомительная. Она требует постоянной собранности, требовательности к себе, ответственность за каждую прозвучавшую ноту растет пропорционально опыту. Сам я, когда играю, испытываю огромное удовольствие. Каждый концерт для меня – познание нового, неизведанного, непережитого.
Его мысли словно сговорились с моими.
– Да! И знаете почему? Верю в романтику жизни. Эмоциональная музыка придает силу чувствам, передает их в искренней и наиболее убедительной форме. Чем чаще человек сталкивается с жизнью, чем больше познает ее, тем крепче он ее любит, тем сильнее у него желание пережить снова то замечательное состояние, что уже однажды пережил. Для меня музыка – всегда выражение непосредственных, внезапно возникших чувств, имеющих определенную форму и четкую устремленность. Эмоциональная музыка должна придавать силу человеческим чувствам, и если любовь должна быть долгой, крепкой, глубокой, сильной, то она, любовь, должна быть одновременно чистой, простой, готовой на жертвы. Все эти качества необходимы и в правильной передаче музыкальных чувств. В этом смысле музыка также имеет общую цель – передать глубокие чувства в наиболее искренней и наиболее убедительной форме. Большая музыка – враг цинизма. Она учит дорожить жизнью, уважать ее.
Клиберн говорил все это с такой страстью, такой убежденностью, что никто из присутствующих не решался перебивать его. Видимо, это была его излюбленная тема.
– Основные законы музыкального творчества столь же неизменны, как естественные чувства и ощущения. И наиболее важное из этих правил – быть искренним. Так же, как в жизни. Я убежден, что в будущем в музыке будет доминировать простота – выражение высшей красоты. Но прежде всего нужно сохранить умение ощущать красоту жизни.
Он был прав, этот техасец в темно-синем костюме, безукоризненно облегающем его худощавое тело. Ведь и теперь уже не редкость, когда люди, эмоционально скудея, объясняют это тем обстоятельством, что жизнь становится более сложной, что в ней не остается места красоте и чувству. Вся же практика мирового музыкального творчества убеждает в обратном – музыка через века будет помогать человеку совершенствоваться, творить добро, верить в светлые идеалы. Ради этого работал и Ван Клиберн. О каком свободном времени могла идти речь, когда у него, как и у всякого артиста-труженика, никогда не было минуты передышки.
– Каждый день, – жаловался пианист, – упражнения, репетиции, концерты, интервью, деловые встречи, снова репетиции… Иногда играю не до двух часов ночи, как обычно, а до шести-семи утра. Месяцами, бывает, не удается поспать две ночи подряд…
Спустя семь лет в один из приездов в Америку я вновь увидела Клиберна в доме импресарио Соломона Юрока, но об этом в другой главе.
Годы учебы у известных и малоизвестных мастеров культуры прошлого и настоящего научили меня лучше улавливать дух песни, видеть ее конструкцию, архитектонику и в то же время помогли выработать свое видение мира, взглянуть на творческий процесс гораздо глубже и шире, чем на ранних подступах к песне.
Всякое творчество питается накопленными впечатлениями, их сменой. Без этого невозможно сделать ни шага вперед, и я абсолютно убеждена в том, что любому артисту очень важны еще и встречи, расширяющие художественное восприятие, рождающие новые идеи, ассоциации и т. п. За свою многолетнюю творческую жизнь я встречала многих талантливых людей из сферы искусства. Их незаурядность помогала мне в поиске, учила распознавать истину, избавляя от всего чуждого и наносного, развитию художественного мышления, выработке основополагающих принципов творчества.
Еще один человек, чей талант воспарил над временем, над преходящими людскими страстями, дал мне многое в постижении связи искусства с жизнью, связи не отвлеченной, а рожденной историей, мировоззрением, утверждающим красоту труда. Это известный итальянский художник Ренато Гуттузо, чьи полотна хорошо известны во всем мире.
Вот человек, потрясший меня удивительной смелостью гражданина, художника, борца.
Ему не было и двадцати, когда он возглавил в Милане творческую группу молодежи, активно выступающую против «Novecento» – реакционного направления в искусстве, благословляемого тогда самим Муссолини. В 1937 году художник пишет знаменитый «Расстрел в степи», картину, посвященную памяти убитого фашистами Гарсиа Лорки. Под впечатлением расправы гитлеровцев с 320 итальянскими антифашистами Гуттузо сделал серию гневных, обличительных рисунков «С нами Бог!».
По сути, с этих работ, известных миллионам людей, и началось мое знакомство с ним.
Несколько позже в альбоме, изданном в Риме, я увидела репродукции его полотен и рисунков, созданных по мотивам произведений великих живописцев прошлого и явившихся как бы своеобразным прочтением классики. В них сквозило желание художника не скопировать творения выдающихся мастеров, а внести современный смысл в знакомые сюжеты – Гойи, Курбе, Дюрера, Моранди, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса.
Поразила меня и серия литографий к «Сицилийской вечере» Микели Омари и «Персидским письмам» Монтескье.
Гуттузо на своих полотнах изобразил столько разных героев, что никто не отважился бы их сосчитать. И в каждом из них – свой характер, душевный настрой, привычки, своя тонко подмеченная и ярко запечатленная внешность.
Вспоминаю первую нашу встречу в одном из залов Академии художеств, где была организована выставка Гуттузо, в то время уже почетного члена Академии художеств СССР, автора полутора тысяч произведений, дышащих верой в человека, его высокое предназначение.
Гуттузо живо интересовался народной песней, ее истоками, исполнением и исполнителями. Рассказал о популярности «Сицилийской тарантеллы», танца, совершенно забытого на его родине в Сицилии и возвращенного народу благодаря усилиям Игоря Моисеева и танцоров основанного им ансамбля.
Зашла речь и о реализме, о современном искусстве на Западе.
– Западное искусство первых тридцати лет нашего века, – говорил Гуттузо, – было направлено в основном на решение отдельных чисто художественных проблем и побудило художников больше заниматься формой, что в ряде случаев привело к «искусству для искусства». Появились, с одной стороны, искусство произвола, с другой – натурализм. Вот и получилась ситуация, когда перестали замечать главное – человека, словно позабыв о его существовании. Одна из проблем наших дней – вернуть живописи человека, восстановить единство изображаемого и реального. Это обязывает художника к непрерывным поискам, к дерзанию, познанию действительности.
Мне нечего было возразить своему собеседнику, но я добавила, что в несравненно большей мере от искусства ждут осмысления того, что приносит с собой современность. Немного подумав, Гуттузо кивнул головой в знак согласия и закурил сигарету.
– Разумеется, – сказал он, – проблема современности – узловая, центральная. Произведение любого жанра, и песня в том числе, не будет пользоваться успехом, если оно не проникнуто страстным чувством гражданственности, живой атмосферой времени. И современный реализм не может не отражать пульс жизни, связей человека с природой, отношений между людьми. Его задача определенна и конкретна: прославлять человека, обогащать его красотой и поэзией, помогая ему понимать мир и идти вперед. Искусство любого серьезного художника всегда прочно и многосторонне связано с движением времени, его общественной практикой, нравственными и эстетическими идеалами, с его борьбой и надеждами.
В молодости художник часто обращался к творчеству авангардистов.
– Чем это было вызвано? – спросила я.
– В их работах, – отвечал он, – меня привлекал протест против существующих порядков, умение постигать тайны жизни. Многие из них к тому же обладали прекрасным качеством – одержимостью творчеством, как Ван Гог или Эдуард Мане. Последний, создавший легендарную «Олимпию», совершил целую революцию в живописи, да и в искусстве вообще. Он стремился быть правдивым и ничего не приукрашивать в изображении действительности, всколыхнув всю пакость империи Наполеона III. (Очевидно, Гуттузо имел в виду продажность и политиканство окружения императора Франции, его коррумпированность, духовное и нравственное опустошение, связанное с необузданным развратом, верховенством низменных страстей и инстинктов.) С редким мужеством и настойчивостью Мане искал красоту жизни и, когда ее обнаруживал, считал себя человеком, достойным похвалы.
– Я где-то слышала, что он был большим любителем почестей, спал и видел награды, обожал славу…
– На признание Мане имел полное право. Орден Почетного легиона случайным людям во Франции не дают.
В тот день Гуттузо прочел мне целую лекцию об исканиях Мане, Сезанна, Дюрера. Я поразилась его обширным познаниям в стихии живописи, совершенно изумительной памяти.
В 1975 году во Франкфурте-на-Майне и в Берлине я увидела выставку картин Гуттузо, посвященных памяти Пикассо. И так сложились обстоятельства, что осенью встретилась с самим художником в Москве. Как раз в Хельсинки прошло Совещание глав правительств по безопасности и сотрудничеству на континенте. И он охотно говорил о том, что волновало умы миллионов.
– Провозглашение справедливых принципов отношений между государствами в Хельсинки – очень важный факт сам по себе. И теперь не менее важно укоренить эти принципы в современных международных отношениях, внедрить их в практику и сделать законом международной жизни. Для меня, пережившего все тяготы войны с фашизмом, важно, чтобы народы обрели доверие друг к другу, чтобы раз и навсегда было покончено со словом «война», чтобы каждому человеку дышалось свободно.
– Я видела ваши полотна в Германии. Тридцать три картины посвящены Пикассо…
– О! Их значительно больше. Пикассо был моим другом, несмотря на то что старше на тридцать лет. Он, как Пабло Неруда, Давид Альфаро Сикейрос, Альберто Моравиа, останется в памяти величайшим борцом, пропагандистом новых художественных идеалов ради человеческого счастья, честно и искренне служившим победе разума, добра над злом.
С горечью восприняла я весть о кончине Гуттузо. Сколько осталось неосуществленных идей и планов, какая неиссякаемая потребность работать во имя мира на земле служила ориентиром выдающемуся художнику, звала и манила его в будущее.
Бывали в моей жизни случаи, когда я слышала и как могла воспринимала интересные факты искусства не из артистической среды, а от людей, не имеющих прямого отношения к музыкальному творчеству.
Однажды меня пригласили принять участие в концерте для медиков в Колонном зале Дома союзов. Поехала пораньше и попала на торжественное заседание. Сижу в стороне. Рядом – статный симпатичный мужчина в черном костюме со строгим сосредоточенным взглядом темных глаз.
«Какой-нибудь начальник из Минздрава», – подумала я.
– Как вы думаете, долго еще продлится заседание? – спрашиваю тихо.
– Минут двадцать, – так же негромко отвечает он. – Вам как раз времени хватит, чтобы настроиться. А то сразу попадете на сцену, не скоро войдете в ритм. К песне ведь тоже надо готовиться, не правда ли?
– Правда, – соглашаюсь я.
– Вы, когда поете без подготовки, старайтесь «опирать» голос на грудь. Должно быть грудное дыхание, тогда звук пойдет сам собой, если голосовые связки в порядке.
«Ларинголог, видно», – промелькнуло в голове.
– Вообще, – заметил сосед, видимо, ничуть не вникая в суть сухой, невыразительной речи оратора, – связки должны быть вам подвластны, как скрипка рукам Паганини. Вы знаете, как он играл? Его метод заключался в использовании природных способностей и возможностей руки. Он не заучивал противные натуре позиции, трудные оттого, что они неестественны и форсированы, а играл, отдаваясь полностью во власть звуков, забывая обо всем на свете. Вы так же должны петь, до конца раскрывая свои способности. Шедевры в искусстве могут быть рождены только самым глубоким человеческим чувством. И мысль Гете о том, что величие искусства яснее всего проявляется в музыке, бесспорно верна. Как и то, что в музыке нет ничего материального: это чистая форма, возвышающая и облагораживающая все, что поддается ее выражению.