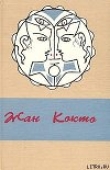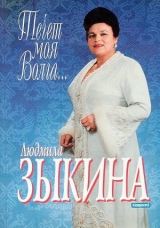
Текст книги "Течёт моя Волга…"
Автор книги: Людмила Зыкина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Успокоенность, боязнь риска, стремление заслониться наследством прошлого, сложившимися традициями, показным пиететом, за которыми часто скрывалась художественная немощь или безразличие к поиску, задрапированные в солидные «академические одежды», оказывали негативное воздействие на Плисецкую, задевали ее честолюбие. Хорошо понимая, что творческий процесс, ко всему прочему, зажимался политико-идеологическими оковами, вездесущим контролем, всевозможными инструкциями, рекомендациями и указаниями, что и как творить художнику, балерина предпринимала немалые усилия, чтобы вдохнуть в чахнущий на глазах балетный организм живительные соки действительного обновления, обратить внимание общества на передовые идеи мировой хореографии, позитивное мышление западных балетмейстеров, поскольку бедность репертуара Большого театра стала очевидной и для Запада. Но все попытки возродить нравственное чувство в сфере балета, ликвидировать мистическую страсть к единообразию наталкивались на непреодолимые препятствия. Диктат, амбиции, предвзятость руководства балетной труппы оборачивались против Плисецкой, и ее искания не находили выхода из замшелого бюрократического тупика. Может, был виноват ее импульсивный характер, натура максималистки? Вряд ли. Просто балерина открыто говорила о том, что ей нравилось, а что нет. Она никогда не питалась слухами, имеет свое мнение, даже если оно кажется некоторым неверным. Конечно, резкость суждений не всегда нравится начальникам, да и отвечать она привыкла громко, а не шепотом. Плисецкая, сколько ее знаю, всегда сопротивлялась чему-то установленному раз и навсегда, и дисциплина с ее узаконенными рамками, роль прилежной ученицы – не для ее характера. («Самым счастливым моментом в моей жизни было, когда меня выгоняли из класса», – заявила она в интервью журналу для молодежи.) Однако стремление сделать по-своему – это не строптивость, в чем ее упрекали власть предержащие в театре, а скорее нежелание повторяться, быть самобытной, независимой, что раздражало людей, не понимающих или слишком хорошо понимающих силу нового слова, но не желающих ударить палец о палец, чтобы нарушить привычный образ жизни, когда всех все устраивало в тихой, спокойной гавани, где, как заметил один журналистский балагур, «корабль советского балета прочно сел на мель имени Григоровича».
Бывали случаи, когда Плисецкую наказывали за то, что смела протестовать, перечить. Во время перелета по маршруту Рим−Дели она села в самолете в первый ряд. Очередной кагэбэшник, глава группы, потребовал освободить место для него. «Нет, я танцовщица и должна сидеть, вытянув ноги, мне вечером танцевать». «Я тебе покажу, едрена корень, какая ты танцовщица!» – пообещал тот. И показал. КГБ довольно долго не давал ей паспорт, мотивируя свой отказ разными несусветными причинами и доводами, и спектакли Большого театра возили по миру без примы, к неудовольствию зрителей, жаждущих увидеть танец именно Плисецкой.
Будучи всегда в оппозиции к советской власти, много лет оставаясь невыездной, лишенной возможности танцевать и ставить, что ей хотелось, балерина в то же время была гордостью существовавшей системы. Плисецкая неизменно выступала в Москве на всех правительственных концертах. Когда в бывший Союз приезжали важные зарубежные гости и делегации, посещение спектакля Большого театра с участием Майи Плисецкой было непременным условием протокола. Ею хвалились, она была как бы оправданием действующей системы. За рубежом говорили: раз Плисецкая не уезжает, значит, что-то в этой стране есть. И она действительно 50 лет кряду делала искусство. У нее был стыд и патриотизм. Ей часто предлагали уехать на Запад на фантастических условиях, но Плисецкая думала («Теперь понимаю, по глупости», – призналась она), что танцевать в Большом театре – великое благо, большая честь и огромная радость. Оказалось, что ошибалась всю жизнь. Ей еще когда Вишневская говорила: «Уезжай, а то тебя все равно выбросят». И действительно вышвырнули.
Она написала письмо Горбачеву, очень краткое и серьезное. Он не ответил. «По существу, – с горечью признавалась балерина, – это и был молчаливый ответ, мол, катись-ка ты отсюда. Я и укатила… Если бы уехала раньше, как много я могла бы сделать. Впрочем… Будь условия мало-мальски сносные, я бы жила здесь. Но если тебе не дают ни ставить, ни преподавать, ни выступать – зачем тогда вообще жить?»
Балерина хорошо помнила и вовсе «неласковые» периоды истории по отношению к искусству, людям, его творившим. Например, полупустой зал Большого театра сталинских времен, когда человека иногда выводили прямо на глазах, когда каждый в театре мог внезапно исчезнуть. Когда готовую уже постановку снимали только потому, что она не укладывалась в рамки социалистического реализма.
– Я долго пыталась пробить эту стену, – сетовала Плисецкая. – Ходила, доказывала, спорила… Потом поняла: само искусство просто не нужно. Ни старое, ни новое – никакое. Нужен рупор, пропаганда: «А также в области балета мы впереди планеты всей!» Как иначе объяснить, что у нас забыты даже имена людей, некогда составлявших славу русского балета, что навсегда похоронены постановки лучших отечественных хореографов? Как иначе объяснить, что двадцать пять лет назад в Большом театре были уничтожены уникальные декорации Константина Коровина, декорации Валентины Ходасевич к «Бахчисарайскому фонтану»? А если вспомнить всех изгнанных, запрещенных… Кошмар! На рабстве и страхе долго не протянешь. Нельзя то, другое, третье… Нельзя было танцевать новые балеты, приглашать новых хореографов. С величайшими скандалами и болями я сделала несколько своих спектаклей. Это стоило жизни и мне, и Щедрину. До последнего момента никто не знал, разрешат ли «Анну Каренину». Когда мы репетировали ее на сцене, двери зала были закрыты: оркестру, балету запрещалось видеть, участвовать до высочайшего разрешения. Эта вседозволенность диктатора – характерный штрих системы, где, как известно, кто начальник, тот и прав… Модерн-балет был запрещен вообще, потому что он противоречил социалистическому реализму и не был пронизан марксистскими догмами. «Кармен» раздражала откровенной чувственностью, поскольку, не секрет, тоталитарные системы всегда предпочитают пуританство. Наверное, потому, что в сексе, в страсти есть что-то неподконтрольное.
Терпеливо и мужественно несла свой нелегкий крест в Большом театре балерина, веря в порядочность и честность партократов и чиновников среднего и крупного ранга Министерства культуры СССР и пресловутого Госконцерта, организации, занимавшейся астрономическими поборами с популярных артистов. Никто не считал – а напрасно! – сколько долларов сдала государству знаменитая прима, оставаясь, по существу, с грошами в кармане. Будучи художественным руководителем Национального балета Испании, она ежемесячно получала за свой труд 7500 долларов. Но все деньги, до последнего цента, у нее отбирал Госконцерт. За выступление на телевидении ей заплатили 10000 долларов. Госконцерт милостиво разрешил ей взять себе… 160 долларов. При этом Плисецкая должна была привозить море бумажек, копий, заверенных счетов, квитанций, вплоть до справок из Мадридского банка, каков биржевой курс американского доллара в день получения своей собственной зарплаты. «От запроса этих бумаг, – негодовала артистка – у нормальных людей глаза на лоб лезут!» Кто же чинил административный произвол? Заместитель министра культуры Г. А. Иванов, тот самый ГАИ, бывший директор ГАБТа, вносивший сумятицу и нервозность в ставшее традиционно скандальным оформление контрактов с зарубежными странами. Скольких же потрепанных нервов стоили звезде мирового балета – и не только ей одной – действия высокого функционера? Больше того, сами звезды становились иногда изысканным «прикрытием» для зарвавшихся дельцов, промышлявших на ниве искусства.
– Я сама наблюдала, – рассказывала Плисецкая, – как в недалекие былые времена проворные директора и их многочисленные замы умудрялись заключать на меня по два равноплатежных договора с одним импресарио. Один договор – официальный, другой – тайный. На моих же глазах они клали эти внушительные тысячные суммы себе в карман, по-свойски деля добычу между собой, а часть передавая выше. Когда я говорила об этом во всеуслышание, в том числе и заместителям министра культуры тоже, все лишь потупляли глаза.
Поборами занимались и люди рангом пониже и вовсе глаз при этом не потупляли. В том же Большом театре. Я помню нашумевшую в 1986 году историю с поборами, когда выяснилось, что во время заграничных гастролей заведующий оркестром театра Панюшкин не один год собирал с оркестрантов дань в валюте. Злые языки в театре утверждали, что пристроившему в оркестр жену, тещу, дочь и мужа дочери Панюшкину не хватало денег, чтобы свести концы с концами, и ему ничего, ровным счетом ничего не оставалось делать, как обирать весь остальной оркестровый люд, выезжающий за рубеж, а это порядка ста лучших музыкантов. Когда у фаготиста и контрабасиста лопнуло терпение и они заявили протест, обоих уволили как «не прошедших по конкурсу», «из-за низкого профессионального уровня», хотя и Евгений Светланов, и Геннадий Рождественский, и Юрий Темирканов, и Тихон Хренников считали и того, и другого (один вообще был победитель трех (!) конкурсов) великолепными музыкантами. Чтобы не трепать нервы, фаготист плюнул на явное беззаконие, другой же набегался по судам и схватил в поисках истины гипертонический крис. ГАИ и тут пальцем не пошевелил, чтобы выправить положение.
Грабеж среди бела дня был нормой. Все великие артисты, привозившие миллионы в государственную казну, возмущались, негодовали, требовали справедливости. Однако функционеры наверху тоталитарной власти оставались глухи и немы, делая вид, что все в порядке, так должно и быть в передовом государстве развитого («завитого», поправили меня в парикмахерской) социализма.
Да, так уж сложилась творческая судьба Плисецкой, что ей все время приходилось что-нибудь доказывать, за что-то бороться. И ей ничего не давалось легко.
За долгую жизнь в искусстве ее неоднократно терзали вопросом: как стать хорошей балериной? И она отвечает всегда одно и то же: нужен талант. Даже в мелочах. Однажды я слышала, как юная балерина сказала: «Майя Михайловна, вчера у Кондратьевой на спектакле порвался хитон в самом неподходящем месте, но он как-то незаметно все исправила… Господи, я убежала бы со сцены, а она продолжала адажио!» «Это потому, что она артистка, а ты нет», – отрезала Плисецкая.
Однако слово «талант», по ее мнению, стало настолько обиходным, что многие и не задумываются, что оно значит. Все талантливые, все талантливо!
– Когда я встречаю в статьях о молодых артистах почти непременное определение «талантливый», – удивляется Плисецкая, – я всегда думаю: а кто же тогда Анна Павлова, Станиславский, Чехов? Талант – редкость. Его появление – огромное событие. Главное же – добросовестно делать свое дело, посвятить себя целиком профессии. Конечно, надо быть эрудированным человеком и не замыкаться в собственной скорлупе. Интересоваться можно многим, но принадлежать одному. Иначе обречешь себя на дилетантизм. Я знаю, как трудно, как безумно трудно делать свое дело очень хорошо! Ему нужно отдать все силы, которые есть, и даже больше. И это воздастся. Человек, занимающийся любимым делом, – счастливый человек. Разумеется, счастье состоит и в том, чтобы, наметив жизненный путь, постараться меньше наделать ошибок и доказать, что ты чего-то стоишь даже в самых тяжелых жизненных ситуациях.
Неприхотливость балерины в быту общеизвестна. Она далека и от эфемерных сильфид и эфирных эльфов и не может, как очень верно подметил поэт Андрей Вознесенский, сказать: «Мой обед – лепесток розы». А уж если какая-нибудь навязчивая зарубежная или наша – все равно – корреспондентка спросит ее о рационе питания или о чем-нибудь другом в этом роде, ответ прост: «Сижу не жрамши!» Правда, сказано с преувеличением, потому что справедливая русская поговорка «все хорошо в меру» как нельзя кстати подходит к рациону питания Плисецкой. Впрочем, мне всегда казалось, что она голодная и ей все время хочется есть. Как-то зашли мы с ней в театральный буфет. Сидя за чашкой чая с лимоном, она сделала замечание своему партнеру Н. Фадеечеву: «Если будешь объедаться, уходи со сцены». Он ответил, что весит столько же, сколько двадцать лет назад. «Но тогда ты был молодой», – возразила Майя. Замечу, кстати, что Плисецкая, когда начинала, весила пятьдесят шесть килограммов. Потом вес держался на постоянном уровне – сорок девять. Однажды – дело было в ее квартире на Тверской, – увидев у знакомого журналиста довольно внушительную округлость талии, балерина с изумлением воскликнула: «Какой ужас! Такой живот позволителен Уинстону Черчиллю. Люся, ты где-нибудь видела талантливых пузатых журналистов в тридцать или сорок лет? Я не видела. Вот возьми и убери это безобразие с талии…» И она протянула опешившему репортеру широкий, из отличной кожи ремень, привезенный ею из Мадрида, где Плисецкая в то время работала по контракту.
В своем внешнем виде, в деталях туалета балерина умеет подчеркнуть то, что эстетически наиболее привлекательно.
– Я обожаю красивые вещи, – не раз говорила она. – Люблю их выбирать и покупать. Но нет времени их носить.
Когда в Германии в салоне мод танцовщица купила два приглянувшихся ей платья, на другой день местные газеты сочли нужным сделать рекламу торговой фирме: раз знаменитая балерина купила их, значит, они ни в чем не уступают лучшим мировым образцам и моделям.
Зная превосходный вкус Плисецкой, я старалась прислушиваться к ее советам.
– Вот эта малахитового цвета ткань с украшениями подойдет тебе лучше всего, – сказала она как-то, указывая на отрез. Из него получилось потом отличное платье. В нем я выступала на торжественных концертах и вечерах.
В ее пристрастиях много любопытного. Будучи на Шпицбергене, она увлекалась лыжами. Спустя годы я убедилась в том, что она еще и первоклассная пловчиха – может плавать быстро и далеко. В Гаване Плисецкая однажды провела в море несколько часов. В Сухуми я наблюдала, как представители «сильного» пола один за другим сходили с дистанции, не выдержав соревнования с танцовщицей, уплывшей далеко в море. На Кубе брат Плисецкой Азарий пытался пристрастить ее к морским глубинам. Не получилось. Зато футбол, художественную гимнастику, конный спорт она просто обожает. Любовь к лошадям перешла к Плисецкой от матери, занимавшейся в школе верховой езды.
Футбол ворвался в жизнь Плисецкой (и мою тоже) вместе с его достижениями 50–60-х годов. В ту пору я часто видела Плисецкую на стадионе в Лужниках кричащей, свистящей, принимающей близко к сердцу любые промахи нападения или защиты московских армейцев. Я болела за «Динамо», моим кумиром был легендарный Лев Яшин. На одном из матчей между ЦСКА и «Динамо» армейцы никак не могли одолеть оборонительные рубежи динамовцев, да и Яшин играл безупречно.
– Яшин есть Яшин, – сказала она. – Ему забить не просто, но ведь другие забивают. Зачем эти дурацкие навесы на вратарскую? Не игра, а сумбур какой-то… Смотреть не на что.
Для нее важны вдохновение и мастерство футболистов, приближающиеся к игре в спектакле. И еще я заметила: Плисецкая внимательно следила за игрой лучших футболистов мира. Восхищала ее и колоритная фигура легендарного Пеле – знаменитого короля футбола.
Оказавшись в Италии, Плисецкая встретилась на телевидении с героем чемпионатов мира по футболу в Аргентине и Франции Паоло Росси – ее футбольным любимцем тех лет. В знак симпатии к выдающемуся форварду она приобрела в магазине рубашку точно такого цвета, как на футболках игроков сборной Италии, с цифрой двадцать на спине – номером Росси. В этом наряде Плисецкая щеголяла по улицам Рима не один день под стрекотание кинокамер и щелканье затворов фотоаппаратов вездесущих репортеров. Вскоре появилась новая футбольная звезда – Диего Марадона. И Плисецкая старалась в любую свободную минуту посмотреть на работу нового мага популярной в мире игры.
Все эти привязанности и увлечения, конечно, не главное. Больше всего на свете она любит свою профессию.
– В моей жизни все крутится вокруг танца, – не без гордости заявила она однажды. – Мой день начинается с упражнений, продолжается репетициями и заканчивается представлениями.
В 1966–1967 годах балерина работала над ролью Бетси в кинофильме «Анна Каренина» и партией Кармен в «Кармен-сюите» на музыку Бизе – Щедрина.
– Кармен стоит жизни, Бетси, кроме удовольствия, – ничего, – так резюмировала она свое отношение к двумя разным работам.
В 1976 году создатель труппы «Балет XX века» Морис Бежар пригласил Плисецкую в Брюссель танцевать в «Болеро» Равеля. Бежаровский «текст» балета оказался чрезвычайно трудным для исполнительницы главной партии. Требовалось минимум три-четыре месяца, чтобы полностью его освоить. У Плисецкой же было в распоряжении всего шесть дней.
Я видела «Болеро» несколько раз и поражалась, насколько сложно оно для исполнения. Под звуки одной и той же мелодии – целый фейерверк танцевальных комбинаций, и только запомнить их последовательность уже не просто. К тому же, когда начинается крещендо и пространство, охватываемое танцем, расширяется, надо сохранить строжайший самоконтроль, чтобы не попасть за пределы возвышающейся над сценой площадки, края которой погружены в сумрак. И главное при этом – найти верную эстетическую трактовку замысла балетмейстера. Со всем этим Плисецкая справилась блестяще, ее героиня предстала тем зримым воплощением Мелодии, о котором она сама мечтала.
– Я специально обратился к Плисецкой, – говорил Бежар, – другим эта роль не по силам. К тому же я никогда с ней не испытываю затруднений – так легко pi быстро она схватывает рисунок партии, чувствует его специфику, особенности хореографии создаваемых образов. Ее пластическая речь не признает полутонов, намеков, она поистине живописна, красочна и не может никого оставить равнодушным. Это тоже сыграло роль в моем выборе.
Бесспорно, что при наличии замечательных природных данных Плисецкая не смогла бы достигнуть выдающихся творческих результатов, если бы не работала с фанатичной одержимостью, беззаветной преданностью искусству. Ради торжества танца Плисецкая готова преодолеть любые трудности и невзгоды. В примерах нет недостатка. Когда во главе группы артистов балета она выступала в Париже на открытой сцене «Кур де Лувр», солнечные, погожие дни сменились пронизывающей до костей стужей. Ситуация оказалась сложной – гастроли отмене не подлежали. Я просто диву давалась, глядя на балерину, вероятно, заледеневшую от холода, но вышедшую на сцену для того, как написала одна из газет, чтобы «оттаивать своим пламенным искусством замороженных парижских зрителей». Я была преисполнена гордости за ее самоотверженность и мужество. В «Айседоре» Плисецкая сбросила балетные туфли и вышла в греческих сандалиях и тунике. Конечно, как всюду, публика устроила овацию, многие бросились к сцене. Одни протягивали к балерине руки, другие бросали букеты цветов, третьи скандировали «Браво!». «Ее выступление – это несравненное чудо, рожденное человеческим гением», – отметила на другой день газете «Либерасьон».
Нечто подобное случилось пятью годами раньше на традиционном фестивале искусств в Авиньоне. Во время концерта разразился ливень. Тысячи зрителей раскрыли зонты, но, когда увидели, что балерина продолжает свой искрометный танец, словно не замечая мощных небесных потоков, стали один за другим складывать их в знак солидарности.
Что привлекает публику в Плисецкой? Думаю, не только неукротимая жажда танца. Здесь и метафоризм языка, и гиперболизация жеста, и стихия человеческой страсти, человеческих эмоций, и, наконец, присущая только ей импровизационность исполнения. Обладая всем этим, Плисецкая тем не менее не раз говорила о том, как мало она сделала. И это несмотря на то, что с первых же сезонов в Большом театре ее репертуар был огромен.
Любопытен и еще один факт биографии Плисецкой: на заре своей удивительной балетной карьеры она едва не ушла в драматический театр. Как-то при встрече с начинающей балериной режиссер Рубен Симонов сказал: «У вас способностей к драме больше, чем к балету». И пригласил к себе в Театр им. Вахтангова. Она чуть было не соблазнилась этим предложением, однако балет бросить не решилась. «Некоторое время я колебалась, – признавалась Плисецкая, – но поскольку драма была мне еще неизвестна, а балет уже известен, я выбрала то, что наверняка».
И все-таки можно ли представить, что, если бы Плисецкая не осталась преданной балету, она бы стала драматической актрисой? Могло быть и такое. Во всяком случае, после съемок в фильме «Анна Каренина» в роли Бетси Тверской многие видные деятели театра и кино нашли в балерине талант превосходной актрисы. Свидетельство тому и многочисленные отклики в печати, письма с пожеланием успехов и на этом поприще.
Как бы то ни было, жизнь Плисецкой – это прежде всего танец, ему отданы нелегкие годы. Она с ним просто нерасторжима, и отделить одно от другого невозможно. Даже в деталях.
– Я себя поймала на том, – признавалась балерина, – что в музеях любой страны особенно подолгу стою у скульптуры. Думаю: что же не ухожу? И тут же осознаю, что в каждой скульптуре вижу танец.
Ради танца балерина готова, как уже говорилось, преодолеть любые трудности и расстояния, чтобы лишний раз познать его тайны. Она и в Испанию поехала только потому, что всю жизнь любила испанские танцы, восхищалась ими. Любила «за сопряжение резких контрастов, за чувственность и хрупкую духовность, интеллектуальную сложность и фольклорную простоту». Из всех народных танцев испанские ей казались самыми выразительными и, может быть, самыми совершенными. В 1983 году, во время гастролей в Мадриде, она была просто поражена искусством испанских танцовщиков и каждый свободный вечер ходила смотреть фламенко. Красота, виртуозность и «таинственная фантазия человеческого сердца» – вот что ее покорило прежде всего в их танце. «А какой изумительный вкус, – восторгалась Плисецкая. – Во всем – в выборе музыки, оформления, хореографическом «тексте», исполнении. В их блистательном мастерстве нет, кажется, никакого внешнего усилия. Фантастическая точность, отточенность движений и поз, и паузы застывших на середине такта танцовщиков – секундные, а кажущиеся вечными. И все это – без видимого напряжения, словно дано им от природы. Потрясающее зрелище!»
Не в этом ли непосредственном выражении восторга перед явлением искусства та же увлеченность любимым делом?
Но ведь увлеченность не только одно удовольствие.
Вспоминаю встречу с Плисецкой накануне ее отлета во Францию. Там балерина впервые должна была показать свою новую работу в «Гибели розы» Малера. Парижские знатоки тепло принимали все ее прежние роли, и предстоящее выступление волновало ее поэтому еще больше.
– Я испытываю ужасный страх при мысли о показе «Розы» в Париже, – сокрушалась она. – Но это нормальное состояние, когда танцую на сцене в чем-нибудь значительном.
Да, это так. Она привыкла к цветам, гулу оваций, лестным оценкам прессы, но отучиться волноваться не может.
Это чувство мне также знакомо – ведь каждый выход к зрителю всегда экзамен. Время требует все новых и новых красок. Любая, даже незначительная, остановка в творческом поиске подобна смерти. То, что вчера воспринималось публикой, сегодня может оставить ее равнодушной.
– Еще 20 лет тому назад нельзя было предположить, что балет так виртуозен, так совершенен, так точен, – размышляла однажды балерина. – Он шагнул так далеко благодаря огромному влиянию спорта. То, что делают сегодня в спортивной гимнастике, имеет прямое отношение к балету, это прямое попадание в его сердце. Балет приблизился к спорту невероятными растяжками, огромными шагами, высокими подъемами с прогнутыми коленями. Раньше такого не то что не требовалось, но даже запрещалось. Нельзя было поднять ногу выше головы, а сейчас это необходимо. Совершенно изменилась сама эстетика танца, за которой интересно наблюдать. Так что у каждого времени свое лицо.
В разные периоды жизни у балерины были и разные пристрастия, По их затейливому, порой чрезвычайно сложному лабиринту звезду балета вел и ее муж, композитор Родион Щедрин, Он для Плисецкой «единственный судья и единственный критерий». «В его вкус, в его понимание, – признается Плисецкая, – я верю на сто процентов. Если Щедрин говорит «хорошо», я верю, если говорит «плохо», я верю. Вообще Щедрин – это самое значительное событие в моей жизни. С тех пор, когда я вышла замуж за Щедрина, я танцую для него».
Скажу больше: Плисецкая влюблена в своего мужа, как Джульетта в Ромео, несмотря на то что старше его на семь лет.
Известно, что дотошные, всезнающие журналисты во все времена интересуются у той или иной звезды, спит ли она с кем-нибудь, и с кем именно, выставляя ее личные привязанности на всеобщее обозрение. А если звезда отказывается отвечать, подвергают ее настоящему допросу с пристрастием, находя лжесвидетелей, как на неправом суде. Потом появляются всевозможные публикации о несуществующих любовных делах с постельными подробностями. И вот что примечательно: из сотен стаей о Плисецкой нет ни одной – по крайней мере, я не читала, – в которой автор заметил такие «детали» из интимной жизни балерины, рассказывая о которых, обычно краснеют. Секрет тут прост: Плисецкая воспитана в иных правилах и смотрит на брак как на таинство. А таинство, как и обет, нарушать нельзя.
Заканчивая заметки о Плисецкой, с которой меня связывает подлинная дружба, сожалею лишь об одном: не все успела сказать своим уникальным танцем великая балерина.
Владимир Васильев
Хотя время и уносит пережитое, а годы наслаивают новые впечатления, в памяти все равно остается миг, сродни необыкновенно красочному, яркому озарению.
Такое чувство я переживала каждый раз, когда соприкасалась с уникальными достижениями прославленного артиста Большого театра Владимира Васильева.
Почему же я так заинтересованно воспринимаю творчество этого великолепного танцовщика и балетмейстера? Думаю, потому, что в нем нашли отражение лучшие черты народа. Я не сделаю никакого открытия, если скажу, что подобные мысли приходили в голову не только мне одной. «Классика Васильева, – писал наш замечательный хореограф Федор Лопухов, – русская классика, он ярко выраженный русский танцовщик, широта и размах движений которого по-своему отражают мощь нашей страны. И где бы ни бывал Васильев за рубежами родины, везде он – не только великий артист современности, но и посланец великого народа». «Как же богата на таланты ваша родина, – говорил мне в Японии директор труппы «Токио балет» Тагацуки Сасаки. – Я проникся еще большим уважением к России, когда увидел Васильева, его поразительный танец. Я рекомендовал каждому, заметьте, каждому артисту моего театра посетить все без исключения спектакли и репетиции с участием Васильева. Это такая радость, быть может, единственная в своем роде…»
Вспоминаю Америку 60-х годов. На пресс-конференции один из журналистов – если мне не изменяет память, это был Джон Мартин из «Нью-Йорк таймс» – спросил:
– Мисс Зыкина, а как поживает ваш юный гений танца, как у него идут дела?
– Какой гений? Володя Васильев?
– Да.
– Живет, думаю, хорошо, на жизнь не жалуется. И работы хватает: одиннадцать спектаклей в месяц, восемь сольных и центральных партий за два года. Плюс главные партии в новых постановках Большого театра – Данила в «Каменном цветке» Сергея Прокофьева и Иванушка в «Коньке-горбунке» Родиона Щедрина. Сюда надо добавить и успешный дебют в весьма сложном, на мой взгляд, балете «Паганини» Сергея Рахманинова. Совсем неплохо в двадцать два года.
– А кто его родители? – послышался еще вопрос.
– Васильев – выходец из рабочей семьи. Отец – шофер, мать – работница фабрики по производству технического войлока.
– Как вы думаете, что вывело вашего премьера на ведущие позиции хореографии?
– Одаренность и одержимость в труде. Умные педагоги, в прошлом талантливые солисты Большого театра, подлинные реформаторы классического танца Асаф Мессерер, Михаил Габович, Алексей Ермолаев отдали молодому артисту все, чем обладали сами. Они будили мысль, содействовали его духовному развитию, воспитывая эстетические взгляды, формируя идеалы, мировоззрение, не форсируя становление самой индивидуальности танцовщика. Учителя привили Васильеву вкус к серьезной творческой работе, к поискам новых пластических и танцевальных решений. Отсюда проистекают истоки взыскательности, неудовлетворенности сделанным, стремление к совершенствованию. Потому и достиг он многого. Я, например, знаю способных танцовщиков в Большом театре, однако могу сказать, что таким безупречным, полетным, как у него, прыжком, такой исключительной легкостью и красотой линий не обладает никто.
– Получается, ему доступно многое из того, что недоступно другим?
– Так сказать – значит ничего не сказать. В танце Васильева поражают удивительная самоотдача и гармония целого, которое невозможно раздробить на куски. И это прекрасное целое всегда завершается прекрасно: Васильев непринужденно, изящно и уверенно ставит точку там, где она должна быть. Он танцует даже тогда, когда стоит, не двигаясь. Каждое мгновение Васильев готов к танцу, и тело его напоминает стрелу или ракету в ожидании полета…
Чем больше меня расспрашивали заокеанские репортеры, тем подробнее и полнее были мои ответы. Я рассказала журналистам о том, что Васильев стал обладателем золотой медали VII Всемирного фестиваля студентов и молодежи в Вене, завоевал первый приз на Празднике танца в Риге, снялся в нескольких фильмах. Словом, все, что я знала о Васильеве из наших газет и журналов, стало известно за океаном. Потом, уже в Москве, вернувшись с гастролей, разбирая и просматривая переводы американской прессы, я нашла любопытную заметку по поводу моих ответов на той памятной пресс-конференции. «Когда речь зашла о танцовщике Васильеве, русская певица обнаружила большую осведомленность, – писал обозреватель «Нью-Йорк пост», – и некоторые мои коллеги выглядели перед ней цвейговскими Джованни…»
«Кто такой Джованни?» – возник у меня вопрос. Пришлось перелистать сочинения Стефана Цвейга. Ответ нашелся в последнем, седьмом томе.
Цвейг плыл пароходом по Средиземному морю от Генуи до Туниса и далее до Алжира и на борту судна встретился с неграмотным молодым итальянцем из пароходной команды. Он был изумлен и смотрел на этого человека, как на музейный экспонат. Так и не сумев за время плавания проникнуть во внутренний мир Джованни, писатель пытался поставить себя на его место… и не смог. «Стоило мне, к примеру, – пишет Цвейг, – вспомнить, что я еду в Алжир и Тунис, как вокруг слова «Алжир», даже помимо моей воли, с быстротой молнии, словно кристаллы, вырастали сотни ассоциаций: Карфаген, культ Ваала, Саламбо, строки из Тита Ливия, повествующие о сражении под Замой, где встретились унийцы и римляне, войска Сципиона и войска Ганнибала – та же самая сцена в драматическом фрагменте Грильпарцера; сюда же врывалось многоцветное полотно Делакруа и флоберовское описание природы; и то, что Сервантес был ранен именно при штурме Алжира войсками Карла V… – несть числа картинам, всплывающим в памяти; все, что ни выучил, все, что ни прочел за свою жизнь, послужило к волшебному обогащению одного, случайно всплывшего слова».