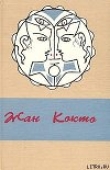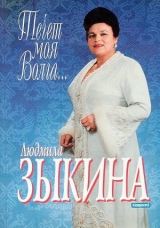
Текст книги "Течёт моя Волга…"
Автор книги: Людмила Зыкина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Внимательно следил Огнивцев за молодежью, делающей первые шаги на сцене Большого театра. Он обладал удивительной способностью распознавать молодые дарования. В свое время в Большой театр пришло много начинающих артистов. Из женских голосов Огнивцев сразу выделил Маквалу Касрашвили, ныне народную артистку СССР.
– Эта далеко уйдет, – сказал он, когда впервые услышал певицу. – Редкий, пленительной красоты голос. Я вслушивался в каждую спетую ею фразу, завороженный трепетностью, полнотой звучания, нежнейшим пианиссимо.
Предначертания Огнивцева сбылись. «Великая певица», «изумительный голос», «потрясающий успех советского сопрано», «сильнейшее впечатление» – в таком духе писала о Касрашвили зарубежная пресса в дни ее гастролей в Париже, Лондоне, и Нью-Йорке, Токио…
Я дважды встречалась с певицей в США, в нью-йоркском зале «Карнеги-холл» и прекрасно помню триумф артистки (вместе с Зурабом Соткилавой) в 1989 году на крупнейшем международном музыкальном фестивале в Ньюпорте, где собралось целое созвездие знаменитостей со всего мира. Тогда президент США Рональд Рейган поздравил «с выдающимся успехом» только двоих – наших артистов из Большого театра.
Огнивцев любил выступать с Касрашвили, ценя в ней подлинный профессионализм, творческий, созидательный, ответственный подход к делу.
– Начинают в опере многие, – говорил он, – но не многих хватает на бесконечный труд, на огромные усилия, а то и на лишения. Творения наших гениальных предшественников говорят о том, как нелегка и упорна борьба за день завтрашний, они учат твердости и целеустремленности в сражениях с обыденным, привычным, устоявшимся. Истинный мастер всегда в ответе перед эпохой и своим временем. Его задача – определить и выразить глубинные процессы в жизни общества, оценить происходящее с гражданских позиций. Невозможно быть новатором в искусстве, являясь обывателем в жизни. Самоуспокоенность и равнодушие рождают вещи, не совместимые с творчеством подлинного мастера. Поэтому молодежи следует прежде всего научиться работать без оглядки на звания и титулы, воспитывать в себе протест против шаблонов, штампа, дилетантизма. Уметь видеть за второстепенными деталями, побочными обязанностями, бесполезными спорами и житейскими заботами главное, основное, что составляет радость творчества, – вот к чему я призываю молодежь.
В 1975 году, минуя стажерскую группу, был зачислен в солисты оперы выпускник Одесской консерватории Александр Ворошило, обладатель превосходного баритона. Осваивая оперный репертуар театра, артист развил и бурную концертную деятельность, слишком часто, по мнению Огнивцева, появляясь на эстраде.
– Ты знаешь Кибкало? – спросил он при встрече.
– А как же. Я пела с ним на гастролях в разных городах Союза в сборных концертах.
– Так вот, пропал у человека голос, пришлось уйти из театра. А почему? Потому что нельзя оперному певцу так часто участвовать в концертных программах. Ворошило тоже такая участь ждет, если не будет беречь голосовые связки. (Огнивцев за два дня до спектакля – а пел он до шести спектаклей в месяц – старался меньше говорить, а иногда, когда оперная партия требовала большой отдачи голосового аппарата, и вовсе молчал.) В том и беда, что молодежи хочется сразу получить и то и другое, она порой слишком часто спешит к успеху. Но ведь любое отступление от режима на голосе сразу скажется. Голос – дар редкий. Этот инструмент надо бережно хранить, научиться правильно настраивать и шлифовать…
«Режим Огнивцева, – писала Г. Вишневская в год 50-летия прославленного певца, – многим показался бы каторгой, а для него это естественный путь для достижения поставленных перед собой творческих задач. И, конечно, многим и многим пришедшим в наш театр молодым певцам следовало бы пристально присмотреться и подражать своему старшему коллеге». (Артист не мог позволить себе съесть мороженое, чересчур жирное и острое блюдо, выпить горячий чай. Считал, что постоянные переезды и перелеты из одного города в другой лишают связки зеркальной чистоты.)
В 1992 году у Александра Ворошило пропал голос, и он ушел из театра. Лауреат международных конкурсов, народный артист России, с успехом исполнявший заглавные партии в операх «Отелло», «Евгений Онегин», «Бал-маскарад», «Иоланта», «Дон Карлос», «Пиковая дама», завел собственное дело: организовал производство по выпуску около пятидесяти видов экологически чистой и очень качественной мясной продукции, поставляемой в крупнейшие гастрономы Москвы, в Кремль. (С недавних пор и я стала покупать «ворошиловские» сардельки и сосиски – они действительно вкусны.)
Работал Огнивцев, как уже говорила, много, с упоением. И не случайно образы, созданные им на сцене Большого театра, поражали эмоциональной сочностью, достоверностью. Я обнаружила у певца и редкостное умение передавать тончайшие нюансы внутренней жизни человека при сохранении удивительной конкретности, зрительной осязаемости образа. Он как бы доказывал всем, что творческие заветы Шаляпина, Мусоргского, Рахманинова и других столпов искусства земли русской плодотворны и сегодня. Эти доказательства его базировались на неиссякаемой личной инициативе, индивидуальных наклонностях, интенсивной мысли и фантазии, что и позволило ему достичь ощутимых результатов.
– Наша профессия требует сосредоточенности, целенаправленности, – неоднократно говорил он мне. – Всякая разбросанность, верхоглядство, суета ей просто противопоказаны. Любое выступление – это итог всего продуманного, прочувствованного, пережитого. Каждый раз, выходя на сцену, начинаешь все с начала, и получается, что жизнь становится вечным экзаменом, а ты – вечным учеником.
Огнивцев постоянно заботился о мизансцене, стремился сделать звуковой материал глубоко осмысленным и драматически гибким, тщательно и вдохновенно трудился над тончайшими колористическими нюансами, над тем, что он называл «своей палитрой».
Тому, как созревает роль, он придавал первостепенное значение. Для него важно было все: размеры сцены, расстановка декораций, удобство костюма, соответствие грима создаваемому образу и главное – настройка голоса, ритм выступлений.
– Каждая роль требует определенного звука, – не раз повторял он. – Часто бывает заманчиво показать всю красоту индивидуального тембра, силу и насыщенность голоса, но его необходимо приспосабливать к тому, что заложено в замысле композитора, в самой мелодии. Красивый голос без эмоций, мысли, без полного проникновения в авторский замысел – пустой звук. Поэтому я всегда чувствую себя неважно, когда приходится, скажем, на гастролях переходить от одной партии к другой: сегодня петь Бориса Годунова, а послезавтра – Мефистофеля. Какие разные, совершенно противоположные образы надо создать на сцене за двое суток! Качество работы здесь, безусловно, страдает. Когда я заканчиваю спектакль и выхожу в уборную снять грим и переодеться, во мне все еще живет Борис Годунов. Чтобы выйти из роли окончательно, мне потребуется один-два, а иногда и три дня.
Оперные герои Огнивцева никогда не были для него схемой, они всегда воспринимались им как живые люди. При помощи богатейшей творческой фантазии, ценой упорного, напряженного труда артист раскрывал любой образ во всей сложности и правдивости, стремясь, чтобы он жил полнокровной сценической жизнью.
Вспоминаю, как тщательно певец готовился к роли короля Филиппа II в опере «Дон Карлос». Он, что называется, с головой погрузился в историю средневековой Испании, сличал словесные и живописные портреты короля, известного своей жестокостью и властолюбием. Огнивцев настолько хорошо изучил окружение Филиппа, что поименно знал всю его семью, а о дочери короля, инфанте Евгении, говорил, словно о давнишней знакомой.
Работая над образом Досифея в «Хованщине», он, как и Шаляпин, обратился к трудам профессора В. Ключевского, выдающегося историка прошлого. Кроме того, познакомился со всей доступной литературой о движении раскольников, глубоко вник в события петровской эпохи, читал и перечитывал роман А. Толстого «Петр I».
Готовясь к опере Ю. Шапорина «Декабристы», артист изучил жизнь и борьбу русских дворянских революционеров – в значительной мере ему помогли исследования литературоведа и историка П. Щеголева. Огнивцев знал наизусть весь клавир и партитуру, прекрасно разбирался в тонкостях всего спектакля. Когда в один из вечеров оказалось, что некому петь партию Бестужева и спектакль был под угрозой срыва, певец согласился исполнить сразу две партии: Николая Первого и Бестужева.
Больше всего мне запомнился огнивцевский Борис Годунов. В отдельных сценах, таких, как «Венчание на царство», «Прощание с сыном», в исполнении монолога «Достиг я высшей власти» он поднимался до высот истинной трагедийности. Я слушала певца в этой партии и в Большом театре, и за рубежом. Восторгалась сама и видела, что всюду его принимали с огромной радостью.
В 60-х годах партию Бориса Годунова на сцене Большого театра иногда исполняли и известные оперные певцы из миланского «Ла Скала» Николай Гяуров и Борис Христов. В 1969 году Христов должен был петь в двух спектаклях и, прилетев в Москву раньше намеченных сроков, приступил к репетициям. Режиссер ознакомил артиста с мизансценами, в которых ему следовало петь. Христов хотел находиться ближе к зрительному залу, у самой рампы, хотя ему говорили, что места, где предстояло петь, наиболее выгодные для певца, что именно в тех мизансценах у всех певцов, исполнявших роль царя Бориса, голоса звучали великолепно. Доводы режиссера не убедили артиста, и во время оркестровой репетиции пел всю партию, стоя на авансцене. Певец нервничал – голос не подчинялся ему. Через день он отправился на спектакль, в котором партию Бориса исполнял Огнивцев. Потрясенный услышанным и увиденным, Христов понял, что ему не превзойти русского баса и отказался от выступлений. С тех пор имя Бориса Христова не появлялось на афише Большого театра. Пришлось Александру Павловичу петь вместо итальянского гастролера еще в двух спектаклях, за что он и получил благодарность от дирекции театра.
Слава сопутствовала Огнивцеву и в сольных выступлениях. Перед выходом на сцену он волновался, потому что не мог позволить себе расслабиться, спуститься ниже той художественной высоты, которую набрал за предыдущие годы. Помню, в Лондоне мы встретились в холле отеля в ожидании лифта.
– Люда, ты не знаешь, какая акустика в зале?
– А что? Говорят, неплохая.
– Видишь ли, когда-то первый концерт Генделя в Лондоне провалился. Его друзья встревожились, но композитор был невозмутим. «Не переживайте, – подбадривал он. – В пустом зале музыка звучит лучше». А вот как «пойдет» голос в набитом до отказа помещении, кто знает?
– Да не беспокойтесь вы понапрасну, все будет хорошо, звук там идет вполне прилично, – успокаивала я.
Концерт прошел, как и следовало ожидать, с триумфом. Наутро газеты запестрели заголовками: «Успех певца из России», «Русский бас покорил Лондон», «Впечатляющий голос Шаляпина номер два».
Творческий диапазон Огнивцева поражал широтой. Ему по плечу были и высокая трагедия, и сложная психологическая музыкальная драма, и искрометная комедия, и веселая опера-водевиль. Режиссер М. Донской хотел привлечь Огнивцева к съемкам фильма, в котором ему предстояло играть роль Ф. Шаляпина. Кинокартина, однако, так и не увидела свет.
– Я не стал сниматься, – ответил он, когда я спросила, почему он отказался участвовать в этом фильме, – только потому, что не было подходящего сценария. Да и сроки для работы предлагались весьма малые. Ты знаешь, я никогда в своей жизни ничего не делал наспех. Все схватывать на лету – самая большая опасность в искусстве. Крупное явление требует долгого и глубокого осмысления, особенно такое многогранное и противоречивое, как Шаляпин. Он еще при жизни был легендой. Как показать человека, который, по выражению Горького, был «ослепительно ярким и радостным криком на весь мир»? Его незаурядная личность, огромный талант и сегодня поражают воображение. Но ведь не только это следует отразить в фильме.
Надо показать в нем, что мы являемся наследниками мировой культуры, но в то же время из недр нашего народа выходят герои, создающие свое национальное великое искусство. Я хорошо запомнил слова Горького: «Шаляпин – лицо символическое, это удивительно целостный образ демократической России, воплотивший в себе все хорошее и талантливое нашего народа». Но я не знаю, как играть трагедию Шаляпина, его отрыв от Родины? Как бы ни был знаменит человек, как бы ни был он богат, но если оторван от земли родной, от воздуха Родины, то обречен на одиночество. Показать это – задача очень сложная, для меня пока неразрешимая.
Огнивцев всю жизнь не мог простить Шаляпину оторванности от Отчизны. Он не мыслил себя вне Родины. Длительные гастроли за рубежом тяготили его, он тосковал по Москве, театру, друзьям. Как-то улетел в Америку на два месяца, так последние недели не знал, куда деться. «А ведь за границей только тогда хорошо, когда можешь хоть сейчас домой уехать», – повторял он слова П. Чайковского, написанные композитором брату. И чуть было не отправился в Москву раньше предусмотренного контрактом срока.
В Италии Огнивцев пел в «Ла Скала»… Какие-то личности пытались заставить артиста навсегда покинуть свою страну. Они следовали за ним по пятам в театре, отеле, на улице. Это, видимо, так надоело ему, что он вышвырнул их из своего гостиничного номера. На другой день одна из газет под заголовком «Ответ русского баса» поместила фотографию незваных гостей, валяющихся, аки трупы, на лестничной площадке. Я долго хранила эту газетную вырезку – уж больно срамно выглядели на фото итальянские посетители…
Вообще-то Огнивцев был человеком спокойным, и вывести его из равновесия было непросто. Это тоже одна из привлекательнейших черт его натуры. Но все же, когда обстоятельства требовали, он мог дать сокрушительный отпор.
Помню, в Анкаре в ресторане подвыпившие бывшие офицеры из корпуса Мамонтова захотели «выяснить отношения». Покрутив огромным, словно гиря, кулаком перед носом каждого из них, он сказал: «Кого ненароком задену, устанет кувыркаться». Те не стали испытывать судьбу, быстрехонько ретировались. Сила в нем была действительно богатырская. Когда в Париже, выйдя на сцену, он увидел, что рояль стоит где-то в глубине, подошел к инструменту и легко установил его так, как хотел. Зал разразился овацией.
В Индии Огнивцев оказался в свите сопровождения Н. С. Хрущева, приглашенного Джавахарлалом Неру. На приеме в Дели глава советского государства то ли переел, то ли перепил, только в самый разгар встречи с ним приключилась беда: начались приступы рвоты. Огнивцев вывел Хрущева во двор: «Вам надо подышать свежим воздухом, Никита Сергеевич! Станет легче».
– А что мне оставалось делать? – вспомнил артист. – Думаю, сейчас хвастанется кое-чем перед самым носом индийского премьер-министра, и что тогда? Позор! Вышли. Не успели пройти и нескольких шагов, как Никита опорожнил желудок прямехонько на клумбу с роскошными розами, посаженными Индирой Ганди, дочерью Неру. Он едва стоял на ногах, я с трудом удерживал его грузное тело в вертикальном положении. «Вы убирайте это безобразие с цветов, – говорю телохранителям. – Чтобы малейшего следа не осталось». Охрана сработала оперативно – к утру клумбы выглядела без единого намека на то, что сотворил с ней высокий московский гость.
Артист не состоял в КПСС и ряды строителей светлого будущего пополнять не собирался. Политика его не интересовала, хотя он дружил с С. М. Буденным, министром внутренних дел Н. А. Щелоковым, Л. И. Брежнев и члены Политбюро нередко присутствовали на спектаклях с его участием. Увидев как-то дряхлеющего генсека, еле передвигавшего ноги на трибуне Мавзолея в день 7 ноября, он не удержался от комментария:
– Леониду Ильичу пора подпорки ставить, а то упадет ненароком и остальных завалит. Загремят члены, как костяшки домино. Сраму на весь мир не оберешься. – И, помолчав некоторое время, продолжил: – А может, его там на трибуне незаметно для глаз людских кто поддерживает?
Певец от души смеялся, когда впервые услышал отрывок самиздатовской поэмы «Про Ильича»: «Это что за Бармалей, лезет к нам на Мавзолей, брови черные, густые, речи длинные, пустые».
Однажды услышал он выступление А. А. Громыко – тому в то время тоже порядочно годков стукнуло – и обомлел.
– Ты только послушай, что он говорит! – изумлялся Александр Павлович. – Я ничего не понимаю, ровным счетом ничего! Я даже на магнитофон записал. Вот, пожалуйста: «Каждодневная практика партийного строительства показывает, что совершенствование различных форм деятельности помогает в большей степени выработать модель дальнейшего развития… Не следует также забывать, что наши постоянные усилия в этом направлении гарантируют широкое участие с целью выработать адекватные условия активизации в нашей работе». Ну как? Абракадабра какая-то! Чушь!
Вмешательство отдельных членов правительства и руководителей партии, малоискушенных в вопросах культуры, искусства, в деятельность мастеров сцены, задевало певца, действовало на нервы. В такие минуты он волновался, мог сказать неприятные слова.
– Человек ничего не понимает в опере, а лезет с советами, как и что мне петь, какую ноту взять, а какую не брать. Могут подсказать что-то Покровский, Светланов, Хайкин, Шумская, Максакова, наконец, Славка Ростропович… А то ведь дает указивку (далее следовала фамилия партийного работника, лет пять назад исчезнувшего с политической арены)… Да пошел он на х..! Нашелся наставник. Как у нас любят давать советы как раз те, кто лыка не вяжет в том деле, о котором идет речь. Ну что за люди! Воистину страна советов…
Певец, как я уже говорила, очень бережно относился к своему голосу, отказываясь от столь многого, что даже перечислить трудно. Он считал, что любое отступление от режима на голосе скажется обязательно. Сколько раз его просили, но он не пел в обстановке, которую считал не только неподходящей, но и просто вредной. В 1956 году Огнивцева пригласили на гастроли в Венгрию и Англию. Условия выступлений оказались, на его взгляд, чрезвычайно жесткими – петь он должен был почти ежегодно. В Будапеште возник скандал – артист отказался выходить на сцену и улетел в Москву. В руководстве Большого театра началась небольшая паника – что делать с поездкой в Англию? Артист и туда наотрез отказался лететь. В конце концов гастроли в Лондоне отменили, не без вмешательства Суслова, поскольку никто из высокопоставленных чиновников рангом пониже не взял на себя ответственность по урегулированию создавшейся ситуации.
Певец боготворил природу. Заядлый рыболов, он мог прозевать поклевку и потом долго сокрушаться: «Загляделся на облако!» Мог вернуться из леса с пустым лукошком – «заслушался птиц». Видела я и его фильм о цветах. Сколько же пришлось ему обойти лесных лужаек, оврагов, садов, парков, оранжерей, чтобы запечатлеть на цветную кинопленку эту действительно божественную, чарующую красоту! Многих удивляло: такая глыба, могучий, сильный человек – и вдруг этакое не мужское увлечение. Впрочем, у него это была не единственная страсть. Артист с удовольствием высаживал десятки молодых деревцов, давая своему занятию простое объяснение: «Пройдут годы, нас уже не будет, а дубы и клены будут шуметь, радовать род людской мощью и красотой».
Огнивцев обожал прекрасную половину рода человеческого. В него влюблялись многие, влюблялись жертвенно, страстно, как Нина Глазунова, супруга Ильи Сергеевича. На этой почве оборвались дружеские связи двух незаурядных личностей – певца и художника, – продолжавшиеся годы. Капризы прекрасных дам Александр Павлович не замечал, для них он жил и творил, но когда слышал из женских уст матерщину, у него поднималась температура, он заболевал, словно от укуса ядовитой змеи или атаки вируса гриппа. В один из июльских дней, проводя отпуск на даче, что на Николиной горе в престижном районе Подмосковья, артист вернулся с рыбалки с богатым уловом. Среди лещей и окуней выделялась своим неказистым видом облезлая, одноглазая, пахнущая протухшим болотом щука. «Я не буду чистить эту старую блядь», – кивнула головой в ее сторону гостившая на даче дальняя родственница из Молдавии, по образованию музыковед. Певец опешил.
– Тебя следует посадить в тюрьму за такое красноречие! – негодовал он. – Как не стыдно! Если женщина, любая, самая что ни на есть дрянная шлюха, будет такие нехорошие слова говорить, то мы все скоро оскотинимся! Сгинь с глаз моих долой! Немедленно! Слышишь? Немедленно!
Еще один штрих творческого портрета Огнивцева остался в памяти – большое значение придавал он душевному настрою и часто повторял полюбившуюся ему мысль Михаила Пришвина о «священном порядке в душе творца, таким является в какой-то мере каждый работник, мастер своего дела». Этот священный порядок повелевает мастеру поставить все предметы на свои места, а также и самому определиться в служении и отделаться от прислуживания. «Требуется достоинство, и больше ничего», – заключил свою мысль Пришвин. Кстати, скажу, что, вспоминая замечательных людей, с которыми встречалась или работала, приходишь к убеждению: они обладали несомненным чувством собственного достоинства, относясь к творчеству с тем трепетом и чистотой, без которых нет и быть не может настоящего мастерства.
И вот еще в чем глубоко убедили меня встречи с Огнивцевым и его искусством: подлинного мастера отличает не только высокий профессионализм, но и огромная требовательность к себе и другим.
За год до кончины я встретила его в студии грамзаписи фирмы «Мелодия». Он с огорчением сетовал на искажения при воспроизведении его голоса, выражая недовольство и низким качеством дисков, и техникой записи.
– Объем большого оперного звука никак не может записаться точно, – с горечью говорил он. – Техника способна увеличить маленький звук, прибавить обертонов и усилить через микрофон камерно-миниатюрный голос, но большой звук оперного певца трудно «убрать»! Искажается тембр, нет естественной сочности звука. Да и материал, из которого сделана пластинка, не тот! Отрицательной стороной всего этого процесса является и то обстоятельство, что иногда запись производится в несколько приемов. Начинаю записывать арию, говорят: «Стоп, в следующий раз допишем». И вот через несколько дней «приклеиваем» к прошлой записи вторую половину арии. А я сегодня другой, настроение другое, голос звучит не так, да и звукорежиссер забыл, как я стоял по отношению к микрофону, где располагались мои партнеры, как звучали их голоса и так далее. Часто звукорежиссер ведет запись «крупным планом», исчезают «мелочи», от которых зависят гармония красок, нюансы голоса, музыкальная мысль произведения, даже правда образа. Приходится доказывать, что бравурные, мажорные тона, драматические монологи, баллады не могут быть записаны в один и тот же день с лирическим пиано и легато.
Взыскательность, нравственная прямота и строгость к себе – явление редкое даже в тех сферах художественного творчества, где таланты сами по себе не редкость. «Для морального величия и чистоты искусства, – писал Цвейг, – нет ничего более губительного, чем легкость, с какой самый равнодушный слушатель… может в любую минуту дня и ночи наслаждаться самым святым и возвышенным, ибо из-за этой доступности многие забывают о муках творчества и без благоговейного трепета потребляют искусство…» И хорошо, что в нашей культуре нашелся еще один человек среди сонма талантов, который жизнью своей напомнил, что искусство – это священная страда, истинное служение лучшим идеалам, что оно не подарок случая, не легкое развлечение, а подвижнический труд. Я глубоко чту этого замечательного поборника совершенства за то, что ему удалось научить тысячи и тысячи людей почитать подлинные творения и ценности, созданные человеком.
…Летом 1980 года академик АМН Н. А. Лопаткин, оперировавший и некоторых кремлевских лидеров, вырезал из могучего организма весьма внушительных размеров раковую опухоль левой почки. «Откуда взялась такая напасть? – задавалась я вопросом. – Уж не отбил ли он почку в «Годунове»?» Вспомнила, что в сцене смерти Бориса Годунова в одноименной опере Огнивцев по ходу действия, поднявшись с царского трона, падал навзничь, так эффектно, правдоподобно, как если бы умирал на самом деле. За десятки театральных сезонов набиралось более ста пятидесяти падений.
Спустя год певца не стало. Большой театр достойно проводил в последний путь народного артиста, отдавшего ему более трех десятилетий лучших лет жизни. Я была на гастролях в Воронеже, но венок от моего имени на Новодевичье кладбище доставили в день похорон. Глядя на траурную процессию по телевидению, я вспомнила слова Цицерона о том, что «короткая жизнь дана нам природой, но память о хорошо проведенной жизни остается вечной».
…В конце восьмидесятых я летела в Грецию на ежегодный традиционный музыкальный фестиваль в Салониках. Самолет шел над Эгейским морем низко-низко, и, когда стал разворачиваться с весьма ощутимым креном, я увидела в окно иллюминатора прямо перед собой огромный теплоход.
– Смотри какой красавец, – говорю мужу.
– Так это же «Александр Огнивцев»! Почему он должен быть не красавцем? А идет как мощно, уверенно… Ну и махина.
Полюбоваться теплоходом нам не удалось – самолет развернулся, и корабль быстро исчез из поля зрения. Где он сейчас? В каком море-океане? Да и важно ли это? Главное, жива память о прекрасном певце и человеке.
Мстислав Ростропович
…Широко раскрыв свои бледно-голубые глаза, Пабло Казальс поднял вверх указательный палец и воскликнул: «Фантастично! Представьте себе, чего мы недосчитались только из-за того, что Бах и Бетховен, Моцарт и Шуберт не дожили до старости. Бах скончался в возрасте 65 лет. Бетховена не стало, когда ему было 57. Моцарт умер в 35-летнем возрасте, а Шуберту было и того меньше – всего 31 год. Никто не задумывается над этим, но сколько нового могли бы они еще создать!» Он многозначительно погрозил пальцем и вдохновенно изрек: «Фантастично!»
Я часто вспоминаю этот эпизод, и особенно когда задумываюсь о творческих исканиях Мстислава Ростроповича, чья деятельность во благо культуры, вдохновителем и подвижником которой он слывет, вызывает восхищение многочисленных друзей и поклонников. Как-никак, а прославленному маэстро уже за семьдесят! Я знаю о его феноменальной работоспособности, и видимая легкость труда лишь надводная часть айсберга – могучий организм и опыт скрывают истинную цену безжалостности к себе. И дай-то Бог сохранить ему силы и дальше в стремлении поражать, удивлять и ослеплять мир яркостью и новизной открытий. (Лишь недавно маэстро, формируя программы своих гастролей по миру, стал делать в конце их приписку – толстовское «ебж», что значит «если буду жив».)
В истории музыкального искусства нашего века, а может быть, в истории всей современной культуры нет судьбы столь бурной, сенсационной.
Что такое виолончель в России, да и в Европе, до Ростроповича? Пожалуй, ничто или очень мало. «Нужна громадная талантливость, необходима сложная совокупность внутренних качеств, – писал Чайковский, – чтобы победоносно привлекать внимание публики на эстраде с виолончелью в руках». Надо признать: удавалось это очень немногим, и среди них – отец, Леопольд Ростропович, поляк по происхождению, являющийся, как заметил один из критиков той поры, «выдающимся музыкально-художественным явлением на концертном небосводе» начала века. Триумф 18-летнего юноши, окончившего в 1909 году Петербургскую консерваторию с золотой медалью, что было высшим и редким отличием, превзошел все прогнозы и ожидания. После его концертных выступлений в Петербурге, Москве, Лодзи, Кракове, Париже газеты не скупились на похвалы и пророчили виолончелисту «всемирное призвание и блестящую будущность».
Вскоре Леопольд Ростропович был командирован в Париж, где также окончил консерваторию, получив «Гран-при» и титул «первого виолончелиста Европы». По окончании Парижской консерватории музыкант долго концертировал с такими знаменитостями, как Шаляпин, Собинов, Батистини, Жан-Тибо… Вернувшись в 1913 году в Россию, Ростропович занимал место профессора сначала в Саратовской, затем в Петроградской консерватории.
И когда в 1927 году в семье Ростроповичей родился сын – копия отца и внешностью, и темпераментом, никто не мог предположить, что он тоже станет виолончелистом с мировым именем. Даже великий музыкальный патриарх Пабло Казальс, у которого Леопольд Ростропович брал уроки в Париже и слыл его лучшим учеником, несказанно удивился, когда услышал, что Ростропович-младший делает гигантские успехи в музыке: «Меня не перестает интересовать вопрос, как звучит виолончель в руках молодого человека и как он добивается единого ритма с оркестрами…»
В 24 года, став лауреатом Государственной премии – высшей награды государства, – Ростропович мог сыграть все сюиты Баха. Тогда же, в начале 50-х годов, закладывался фундамент его классического репертуара – сонаты Бетховена, Брамса, Шопена, Грига, Рахманинова, концерты Шумана, Лало…
Впервые я услышала Ростроповича в 1960 году на одном из концертов в Большом зале консерватории. На сцену не вышел, а выбежал увалень в безупречно пошитом черном фраке, с живым лицом, с округлым подбородком боксера-тяжеловеса, умными, проницательными глазами сквозь поблескивающие стекла очков. Увалень стремительно уселся на стул, расправил фалды фрака, мельком глянул на Геннадия Рождественского, дирижировавшего оркестром, и я услышала мелодию его, как сказал поэт, «астрального смычка». Цикл виолончельных произведений был исполнен великолепно, пришлись мне по душе и сделанные музыкантом обработки для виолончели пьес И. Стравинского, «Русская песня» и «Па-де-де», пьесы в народном стиле Р. Шумана, ряд сонат Л. Бетховена, Ю. Левитина…
Что тут можно сказать о Ростроповиче как исполнителе? Ему, как музыканту-виртуозу, обладателю феноменальной техники, кажется, доступно буквально все. И, может быть, потому, что техника его на той ступени совершенства, когда ее не замечаешь, когда в игре все кажется на редкость простым, легким, доступным каждому, а талант музыканта, артистизм, темперамент несравненны, он заставляет слушателей непременно поверить в высокую, неукоснительную правду создаваемых образов, хотя часто в своей трактовке отходит от принятых «норм», от исполнительских традиций.
Говоря о Ростроповиче, реже всего вспоминаешь о богатейшем арсенале выразительных средств, которыми он владеет в совершенстве. Нет, не это главное. Главное то, как при всей тончайшей продуманности, проработанности каждой детали он умеет сохранить цельность замысла, раскрывать форму целого, «обосновывать» драматическую логику развития и сопоставления музыкальных образов в произведениях любого стиля. Именно ясное ощущение формы произведения, вдумчивость, искренность, художественная простота и непосредственность игры и подкупают слушателей на любых широтах. В его трактовке никогда ничего не бывало «слишком» – слишком темпераментно, чувствительно или сухо; слишком драматично или легковесно; он никогда не щеголял виртуозностью или нарочитой простотой.