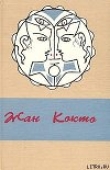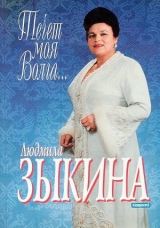
Текст книги "Течёт моя Волга…"
Автор книги: Людмила Зыкина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
«Ховард Отель» на Норфолк-стрит, где я остановилась, оказался в центре английской столицы, что позволило мне довольно быстро освоиться с ее жизнью. Лондон оказался не таким мрачным и серым, как я ожидала. Наоборот, он ошеломлял шумом, пестротой, многоликостью, необъятностью и совершенной неповторимостью. Современность и старина уживались в нем прекрасно. Запомнился красотой ансамбль Трафальгарской площади. У Букингемского дворца, как сто и двести лет назад, шла смена гвардейских караулов. Офицеры на староанглийском языке зычными хрипловатыми голосами подавали команды. Сверкали на солнце латы конногвардейцев, трепетали на ветру плюмажи на их касках. На головах пеших гвардейцев в красных мундирах чернели медвежьи шапки, правда, не из настоящего меха, а синтетические. Из нейлона же были и парики адвокатов, выступавших в средневековом готическом здании лондонского суда.
В Национальной галерее, несмотря на тесноту висящих там картин, шедевры я увидела сразу. В памяти остались «Венера перед зеркалом» Веласкеса, «Автопортрет» и «Купальщица» Рембрандта, «Портрет Махи» Гойи, полотна Мане и Веронезе.
На улицах не видно нищих, но людей, живущих подаянием, было порядочно.
На перекрестке фешенебельных улиц Пикадилли и Риджент-стрит, у фонтана со скульптурой крылатого Гермеса в центре площади толкались наркоманы. Когда их собирается чересчур много, появляется полиция – скапливаться на улицах не принято и считается дурным тоном.
Один из углов Гайд-парка – «спикер-корнер» – отведен специально для ораторов. Выступают все кому не лень. Можно говорить о чем угодно – нельзя лишь ругать королеву.
Вот на возвышение, напоминающее стремянку, забрался худощавый бледный человек в потрепанной одежде и увлеченно начал «держать речь». Слушающих было трое – две девушки и парень. «О чем он говорит?» – спросила я переводчика. «О религии, о взаимоотношениях Бога, дьявола и человека». Пылкая речь оратора не привлекала массы, и минут через десять он слез со стремянки, сложил ее и пошел прочь…
У подножия колонны Нельсона собралась толпа с транспарантами и плакатами. Человеку в плаще с поднятым воротником нельзя было отказать в страстности, взволнованности, умении увлечь слушателей. Рядом стояли полицейские и тоже внимательно слушали выступавшего. Когда по толпе пронеслось, что здесь русские артисты, он учтиво умолк, и все посмотрели на нас с нескрываемым любопытством. После некоторого замешательства оратор продолжал говорить с еще большей пылкостью, изредка поглядывая в нашу сторону.
Успела посмотреть и замок Виндзор, в котором много времени проводила королева. В одном из залов пол был расчерчен белыми линиями – здесь королева играла в теннис. В зале 1815 года портреты Александра I, Уварова, Платова…
В один из дней, когда я давала автографы (кстати, в Лондоне много собирателей автографов), ко мне подошел мужчина средних лет. Он держал в руках альбом, отделанный перламутром. Альбом оказался настоящим сокровищем – первый автограф в нем относился еще ко временам Кромвеля. Я увидела росписи Шаляпина, Фокина, Улановой, Коралли, Кшесинской, Лоуренса Оливье, Пола Скофилда, Вивьен Ли… «Это традиция нашего рода», – с гордостью произнес владелец альбома, когда я расписалась в нем.
Встретилась я и с известным английским писателем и публицистом Джеймсом Олдриджем, который поделился своими творческими планами. Он как раз завершал многотрудную работу над романом «Горы и оружие», готовил к печати несколько журнальных статей.
С Олдриджем я познакомилась еще в Москве, куда он часто приезжал с женой Диной. Здесь у него много друзей среди писателей, художников, общественных и политических деятелей. В столичном институте кинематографии учился его старший сын Вильяме, а младший, Том, в награду за учебные успехи нередко отдыхал в Крыму, в молодежном лагере «Спутник».
– Я не погрешу против истины, – говорил во время нашей встречи Олдридж, – если скажу, что чувствую себя в Москве как дома. Вот уже несколько лет подряд я остаюсь ей верен, верен ее деловой жизни, аромату скверов и парков, уютным старым улочкам и простору новых проспектов. Всегда с большой радостью прилетаю в вашу столицу в короткие дни отдыха, чтобы всякий раз открыть для себя нечто новое, необычное и прекрасное, то, что выражается одним замечательным русским словом – «очарование». И я благодарен судьбе за то, что имею возможность так часто приезжать в Москву. Однажды со мной летели парижане, родственники погибших во время войны летчиков полка «Нормандия-Неман», чтобы возложить венки к могиле Неизвестного солдата. Гостеприимство и радушие москвичей, их теплота и сердечность общеизвестны. Не раз я приезжал и в Крым. С этим солнечным краем связаны воспоминания военных лет: как корреспондент английского и американского агентств, я еще в 1944 году посетил Симферополь, Ялту, Балаклаву, Севастополь, Феодосию, был свидетелем разгрома гитлеровцев на Херсонском мысу. На эту тему написал книгу, название которой дала стихотворная строка из Байрона «Пленник земли».
Годы мало изменили Олдриджа. Он был все такой же голубоглазый, светловолосый, энергичный, с открытым мужественным лицом. Только гряда глубоких морщин на лбу и возле глаз свидетельствовала о том, что жизнь писателю легко не дается. Столь же настоятельной, как и прежде, осталась в нем потребность поразмышлять над волнующими явлениями в жизни и искусстве. Вот и тогда он только что вернулся с Московского международного кинофестиваля, в котором принимал участие в качестве члена жюри.
– Когда я покидал Великобританию, – рассказывал он, – друзья говорили мне, чтобы я, как член жюри, был по-настоящему беспристрастен в оценке фильмов и непременно учитывал их социальную направленность. Они не представляли себе, что на Московском форуме многие художественные кинофильмы – социально направленные, выражающие то, что происходит в мире нынче, сейчас. И этот факт меня особенно радует, потому что я заканчиваю работу над новым романом, в котором социальным событиям отведено много места. Это будет книга о молодежи, о двух точках зрения на современность.
Олдридж подробно, в деталях разобрал состояние современного кинематографа Запада, рассматривая его со всех сторон. Однако чувствовался его особый интерес к фильмам политическим.
– В современном западном кино всемерно обнажаются невозможность да и нежелание людей понять друг друга, констатация всеобщей разъединенности переходит в ужас перед жизнью. Западный зритель давно утратил способность анализировать свое бытие. У него все чаще стало возникать ощущение бессмысленности, пустоты существования, потому что экран заполнили ленты, не дающие пищи для размышлений, не способствующие воспитанию благородных и прекрасных чувств. Можно ли считать подобное кино передовым, гуманистическим? На Западе много талантливых художников, не мыслящих свое творчество вне раздумий о жизни, человеческих судьбах, будущем нашей планеты. Именно их взгляды и суждения должны с помощью кинематографа формировать духовный облик человека, помогать его воспитанию. Но это, по вполне понятным причинам, считается нежелательным в определенных кругах. Вот почему чуткие и честные мастера экрана остаются нередко без работы, вот почему многие думают, что западного прогрессивного кино нет, что оно – утопия.
– Ну а если говорить о фильмах Англии?
– Тоже утешительного мало. На сотню лент приходятся одна-две приличные. Остальные либо страдают серостью и примитивностью художественного решения, либо нагнетают в сознание кошмары. Упрощенное, вульгаризаторское, циничное понимание запросов зрителя привело к тому, что фильмов волнующих, настоящих почти нет, как нет и лент о молодежи, к которой я питаю особое пристрастие.
– У вас два сына…
– Да, мы вместе взрослеем. Но мне кажется, что если бы даже я не был отцом, то все равно интересовался бы молодыми и их проблемами. С годами человек не всегда утрачивает то, что приобрел в юности.
Олдридж очень интересно рассказал об охоте на акул в Красном море, показал свои доспехи для подводной охоты, расспросил о моих гастрольных маршрутах, программе выступлений, посоветовал, что посетить.
– Вы в Лондоне впервые?
– Да, но я уже кое с чем успела познакомиться. Вестминстерское аббатство, здание парламента, Трафальгарская площадь, Национальная картинная галерея и даже некоторые магазины…
– И какое впечатление от торговых фирм?
– Продавцы очень вежливы и предупредительны, не дают скучать.
– Это потому, что их обычно больше, чем покупателей.
Олдридж рекомендовал посмотреть древние памятники истории и архитектуры, назвав их с добрый десяток.
– Вам все это по пути. И Виндзорский замок, и замок Мальборо, где родился Уинстон Черчилль. Кстати, скоро в Лондоне откроется выставка его картин. Премьер-министр увлекался рисованием, любил живопись. Картины яркие по краскам, довольно экзотические.
Писатель объяснил, как лучше всего добраться до места, где родился Роберт Бернс. Он увлекался стихами, хорошо знал творчество шотландского поэта.
– Когда вы увидите длинный, крытый соломой дом, в котором появился на свет Бернс, обратите внимание на расположенное рядом небольшое строение из глины всего с одним узким окном. Его построил отец Бернса, человек скромный и бедный, еще в то время, когда в числе других налогов существовал и налог на окна. Так как денег не было, ему пришлось ограничиться одним окном.
Я с благодарностью воспользовалась этим и другими советами Джеймса Олдриджа.
На одном из концертов в Лондоне за кулисы пришла Тамара Платоновна Карсавина (судьба подарила ей 93 года жизни). Знаменитая русская балерина доживала свой век в доме для престарелых. До 1929 года ее имя было тесно связано с прославленными «Русскими сезонами» С. Дягилева в Западной Европе, когда она танцевала в его труппе под названием «Русский балет», оставшись непревзойденной в «ориентальных» балетах М. Фокина. За плечами этой подвижной, сухощавой старушки были годы мучительных раздумий о Родине, о русском ргскусстве, балетном театре. Казалось бы, что ей, известной балерине, а затем вице-президенту Королевской академии танца в Лондоне, автору нескольких книг о хореографии, горевать о России?
– Я не могу, – с грустью говорила она мне, – не думать о Родине. Корни мои остались в Петербурге. На сцене Мариинского театра я получила признание, там прошли лучшие годы моей жизни. Все собиралась вернуться, все думала – успею еще приехать домой, но теперь уже поздно – время ушло, да и сил маловато. Сначала не чувствовала себя бездомной странницей, но с годами, на закате жизни, это ощущение возрастало день ото Дня.
Конечно, в истории русского балета имя Карсавиной осталось навсегда, но что я могла ей посоветовать? Вернуться на Родину помирать? Однако в судьбе нет случайностей: человек скорее создает, нежели встречает свою судьбу. Говорят, упорное благоразумие – вот судьба человека. Может быть, эти слова применимы к Карсавиной?
В Стратфорде, утопающем в зелени небольшом городке, я зашла в старенький домик под черепичной крышей, где родился Шекспир. Простота и минимум удобств: деревянная кровать, камин, кухня с чугунной и глиняной посудой. Под стеклом хранятся различные документы, посмертное собрание сочинений, изданное в 1623 году. На средства, собранные почитателями памяти великого драматурга, построен театр, в котором ежегодно с апреля по ноябрь ставятся шекспировские пьесы.
Следующим городом, где проходили наши гастроли, был изрезанный автострадами и бедный зеленью Глазго. В городском музее здесь немало отличных работ французских, английских и шотландских художников, среди которых центральное место занимают полотна Рембрандта. Уникален музей моделей торговых и военных судов, вряд ли где еще есть такой. Роскошные о ели и помпезные дома городской элиты соседствуют с черными от копоти трущобами рабочих кварталов.
В Ливерпуле на одном из концертов я получила – среди множества других – записку на русском языке: «Вы прекрасно высказываете в песне чувства. Спасибо Вам. Марфа Хадсон Дэвис». Имя и фамилия мне абсолютно ни о чем не говорили. Русский текст тоже – мало ли англичан знают наш язык?
Когда я просматривала в отеле ворох записок от зрителей, в номер заглянула переводчица и, увидев на столе короткое послание Дэвис, заметила:
– Марфа Федоровна в первом ряду сидела. Она так вам аплодировала, так аплодировала…
– Какая Марфа Федоровна?
– Да дочь Шаляпина. Она по мужу Дэвис.
– А как ее разыскать?
– Проще простого. Найти телефон в справочнике у портье.
На другой день звоню Марфе Федоровне, благодарю за ее теплые слова.
– Приезжайте, буду рада вас видеть, – без акцента отвечает она.
Жила Марфа Федоровна на окраине Ливерпуля недалеко от реки Мереей в большом двухэтажном доме. Стройная, высокая, с живыми, несмотря на возраст, молодыми глазами и открытой девичьей улыбкой, она гостеприимно открыла двери просторной гостиной, усадила меня в глубокое старинное кресло и потчевала всякими яствами с типично русским хлебосольством.
Я, конечно, интересовалась прежде всего личностью самого Шаляпина, его последними годами жизни на чужбине.
– Что вам сказать? Я помню отца от корней волос до кончиков пальцев русским человеком, беспредельно любившим Родину, бесконечно тосковавшим по ней. Он не уставал говорить: «Я не понимаю, почему я, русский артист, русский человек, должен жить и петь здесь, на чужой стороне? Ведь как бы тонок француз ни был, он до конца меня никогда не поймет. Только там, в России, была моя настоящая публика…» На старости лет ему страстно хотелось купить имение, такое, как в средней полосе России: чтобы речка была, в которой можно было удить ершей да окуньков, и лесок, чтобы белые грибы в нем росли, и большое поле с ромашками и васильками в колосьях хлебов… Долго ездили мы всей семьей по Франции, да и в Германии тоже искали, но не нашли ничего, чтобы соответствовало представлению отца о родной стороне. Незадолго до смерти, за какие-то считанные дни, ему часто снились московские улицы, друзья, русские дали, дом на берегу Волги около Плеса, корзины, полные грибов. «Ты знаешь, Маша, – говорил он маме, – сегодня я опять во сне ел соленые грузди и клюкву, пил чай из самовара с душистым-предушистым вареньем. Но вот какое было варенье – не запомнил». Врачи лишили его сладкого – отец страдал диабетом, – и, возможно, поэтому, испытывая потребность в сахаре, во сне «пил чай с вареньем». Он любил сладости, предпочитая икре шоколад.
В канун кончины, как это ни покажется странным, он больше всего тосковал о днях своего детства, полного нищеты и лишений. «Я был так беден, что вымаливал деньги на покупку гроба моей матери, – вспоминал отец. – Она была так ласкова ко мне и так нужна… Боже мой! Как все это далеко! Говорят, что давние воспоминания воскресают с особой яркостью с приближением смерти… Быть может, так оно и есть…» Кротость, смиренность были самыми характерными чертами последних дней отца. Несмотря на мучившие его боли, он находил в себе силы шутить, просил жену почаще быть рядом. «Что бы я делал без тебя, Маша?» Сколько нежности и ласки было в его голосе, сколько мягкости во взгляде внимательных серо-голубых глаз! Где-то дня за три до смерти он попробовал голос и выдал такую руладу, что все окружавшие его и знавшие, что дни сочтены, были поражены мощью и красотой звука.
В памяти остались и грандиозные похороны, которые устроил Париж отцу, и аромат надгробных венков и цветов, перемешанный со сладковатым запахом ладана, долго стоявший в опустевших комнатах нашего дома на тихой авеню Эйлау, что напротив Эйфелевой башни, и огромный стол, заваленный телеграммами и письмами со всего света. Не верилось, что не стало человека, всего за год до погребения выглядевшего здоровым, переполненным планами и надеждами.
В большой гостиной нижнего этажа отец частенько подолгу засиживался с друзьями за чашкой дымящегося свежезаваренного чая или за рюмкой старого «арманьяка», обсуждая разные вопросы. Помню, как интересно, в мельчайших подробностях, он рассказывал какому-то театральному деятелю о Ермаке, образ которого мечтал воплотить на оперной сцене. Да мало ли в его голове рождалось всевозможных идей и замыслов!
– Я знаю, – продолжала Марфа Федоровна, – что отца очень почитают в России. Скажите, как отмечалось столетие со дня его рождения? Действительно все газеты написали о нем? Это правда?
– Конечно, правда.
Я обстоятельно рассказала Марфе Федоровне о том, как эта памятная дата отмечалась в России. Упомянула и о современных оперных певцах.
– Из названных вами артистов мне более всего знаком Огнивцев. Я слышала его еще в Италии, а потом во Франции, в Лондоне. Похож на отца и многое у него перенял.
– У Шаляпина учились и учатся не только басы, – призналась я. – Для меня, как для певицы, Федор Иванович был и остается недосягаемым идеалом в пении, в подвижническом отношении к искусству. Записанные им народные песни навсегда останутся классическим образцом творческого и в то же время бережно-трепетного обращения с фольклором. Без шаляпинского наследия трудно представить развитие вокального, оперного искусства, театра.
– Все, что связано с именем отца, я переслала в Москву для музея Шаляпина. У меня остался лишь один его портрет, который очень любила мама и который всегда стоял на ее столе.
Я сказала Марфе Федоровне, что все мы помним о ее подарке Ленинграду, о том, что она преподнесла в дар городу один из лучших портретов Шаляпина, написанный Кустодиевым в 1921 году. (Сейчас портрет находится в театральном музее.) В 1922 году художник создал уменьшенное повторение портрета. С него были сделаны репродукции, без которых не обошлась ни одна книга о Шаляпине.
– Огромное полотно подлинника находилось в доме моей матери в Риме, где она умерла в 1964 году, – сообщила Марфа Федоровна. – Затем оно перекочевало в Англию, и я, посоветовавшись с сестрами Мариной, Дасей и мужем, позвонила советскому послу, чтобы сообщить о своем решении. Я хорошо помню, как писался этот удивительный портрет. Кустодиев был парализован и вынужден наклонять холст к себе. А мы с сестрой Мариной ему позировали и остались запечатленными на заднем плане.
Мы трогательно распрощались. Я подарила на память Марфе Федоровне несколько дисков со своими записями.
В том же дождливом Ливерпуле перед концертом подошел сгорбленный старик с трясущимися руками, бывший русский матрос с броненосца «Потемкин». У него не оказалось билета, и я посадила его в первом ряду, где были места для гостей. Во время концерта я увидела на щеках его слезы, он смотрел на меня с восторженным удивлением. Сколько их, скитающихся по белу свету, вдали от родной земли встречала я в зарубежных поездках! Не знаю почему, но это морщинистое лицо с усталыми, страдающими глазами запечатлелось в моей памяти.
Приглядываясь к англичанам, я не заметила в них какой-либо замкнутости, сухости в общении, молчаливости. Встречали радушно, в гостеприимстве им не откажешь. В Ричмонде жена настоятеля местного собора и его дочь – сам настоятель умер – пригласили меня на чашку чая, показали костел. И когда под его сводами подхваченная разными голосами и многократно усиленная великолепной акустикой прозвучала фраза: «У нас сегодня знаменитая русская певица Зыкина», – прихожане все, как один, повернули головы в мою сторону и стали рассматривать меня с нескрываемым удивлением и заинтересован чостью. Мне стало неловко, но тут запели здравицу в мою честь, послышались аплодисменты – все эти знаки внимания были выражением искреннего дружелюбия, – и я почувствовала себя удивительно легко.
Во всех городах концерты прошли при аншлагах. Студенческая молодежь посещала их и для лучшего усвоения русского языка. В Англии очень популярен журнал «В помощь изучающим русский язык». В Глазго есть институт по исследованию проблем, связанных с нашей страной, подобные центры существуют и в подавляющем большинстве университетов. Энтузиасты русского языка были первыми среди тех, кто хотел послушать наши народные и современные песни. Часто случалось так, что зал превращался в огромный хор, и все мы – русские и англичане – чувствовали, как сближает нас раздольная, рожденная душой народа мелодия. В Ричмонде песню «Течет Волга» пришлось повторять до тех пор, пока не погас свет, – так полюбилась она аудитории.
Однажды там же, в Ричмонде, перед началом концерта, сидя за гримерным столиком, я услышала доносившийся с улицы необычный шум, словно несколько подвыпивших доморощенных музыкантов выясняли возможности своих инструментов. Выглянула в окно. На улице действительно топтались какие-то люди, одетые в лапти и лохмотья, с гармошками, балалайками, рожками и трубами в руках. Один кривлялся, притопывая ногой, другой с видом скомороха гнусавил под гармошку какую-то песенку, третий, забегая с трубой вперед, извлекал из нее звуки, напоминающие рев рассерженного слона.
– Украинские эмигранты, националисты, бежавшие во время войны на Запад, – объяснили мне. – Хотели сорвать концерт, но полиция вмешалась.
В антракте некоторые из «оркестрантов» все же проникли в зал, встали в проходе. Я не придала их присутствию никакого значения и закончила выступление под овации. «Спасибо от всего сердца, спасибо, – протянул мне потом руку один из них. – Как на Родине побывал».
«…Эван Маккол», – представили мне в один из вечеров симпатичного джентльмена, известного драматурга и собирателя старинных народных песен. Я думала услышать от него нечто о тонкостях и особенностях фольклора Англии, Шотландии, Ирландии, наконец, об истоках народных песен и мотивов, восходящих к Робину Гуду. Но за все время встречи он не сказал ни единого слова о том, что мне хотелось узнать. Оказалось, англичане редко рассказывают о своих профессиональных успехах, о главном деле жизни. Хвастовство же здесь и вовсе исключено. Показывать свою эрудицию считается дурным тоном. Зато сэр Эван Маккол не поскупился на комплименты, вспоминая о гастролях в Англии балетной труппы Большого театра в 1956 году.
Разные, не похожие друг на друга люди с одинаковым восторгом и восхищением рассказывали тогда о выступлениях балета ГАБТа так подробно, как будто они прошли всего неделю, а не добрых семнадцать лет назад.
Однажды, когда я выходила из отеля, неизвестный господин средних лет протянул журнал с моей фотографией на обложке и попросил расписаться. Затем на ломаном русском языке рассказал о своей коллекции, начало которой положила Г. С. Уланова. В то время сэр Уильям Бастор – так звали любителя автографов – в числе тридцати двух англичан-статистов был привлечен к участию в спектаклях труппы Большого театра.
– После премьеры «Ромео и Джульетты», – не без удовольствия вспоминал он, – овации длились более получаса. Девятнадцать раз выходили на поклон ваши артисты, к ногам которых сыпались сотни алых гвоздик, тюльпанов, образовавших на рампе густой и яркий цветник. Поверьте, ни королева Англии, ни премьер-министр Великобритании с супругой, ни ведущие артисты английского балета, театра, кино – а среди них были такие знаменитости, как Марго Фонтейн, Берил Грей, Гильберт Хардинг, Мойра Ширар, Лоуренс Оливье, Вивьен Ли, – никогда прежде не видели ничего подобного. Желающих посмотреть советский балет оказалось столько, что, выходя поздним вечером из театра, в темноте и тумане октябрьской ночи можно было увидеть множество закутанных в пледы человеческих фигур, устраивающихся на раскладушках, матрацах, стульях на ночь, чтобы утром встать в очередь за билетами. Ажиотаж вокруг гастролей Большого театра опровергал все традиционные представления относительно неторопливого, спокойного, вежливо-холодного характера жителей Альбиона.
Видимо, откровением для англичан явилось многообразие выразительных средств в танце, актерской игре наших артистов, богатство хореографических ресурсов, одухотворенность и непринужденность исполнительского стиля, основывающегося на реалистических принципах русского балета.
Я потом еще дважды посещала Англию, но, думаю, она так и не открыла мне нараспашку своего сердца. Кто знает, может ли чужестранец до конца разобраться в мыслях и чувствах выдержанных и все-таки скупых на лишние эмоции обитателей древнего Альбиона, понять эти непривычные серые туманы, изредка пробиваемые редкими лучами солнца, подстриженные и ухоженные газоны и лужайки, традиционные зонтики, котелки и курительные трубки? Кто знает?..
«Англичанин, – писал С. Смайлс, – неловок, молчалив, натянут и, по-видимому, несимпатичен, и все потому, что он никак не может побороть своей застенчивости, хотя и старается ее скрыть под резкими, часто грубыми манерами… Сухой, неуклюжий англичанин, конечно, с первого взгляда, кажется неприятным человеком. Он словно проглотил аршин и до того застенчив, что возбуждает застенчивость в других; но его натянутость и суровость происходят не от гордости, а от той же застенчивости…»
Может, и прав известный английский писатель прошлого века, автор биографий великих людей и книг нравственно-философского характера. В то время, возможно, англичане и были таковыми. Нынешнее поколение вряд ли отличается застенчивостью – и время, и быт, и нравы сегодня на земле Альбиона совсем другие.
Между Эльбой и Рейном
Германию я посещала чаще, чем любую другую страну мира. Бывали периоды в моей жизни, когда я приезжала туда по нескольку раз в году. В моем дневнике сохранилось множество записей о пребывании там, но и по ним я не смогу сколько-нибудь точно определить количество и время встреч.
Начну сначала – с первых поездок в ГДР в 50-х годах.
Помню аэродром, расположенный довольно далеко от Берлина, широкое асфальтированное шоссе, слева и справа от которого утопали в зелени садов крытые красной черепицей небольшие уютные домики. Чем ближе мы приближались к центру города, тем чаще встречались новостройки. Берлин и еще Дрезден пострадали во время минувшей войны больше других городов Германии.
– В феврале сорок пятого, – рассказывал сидевший за рулем автомашины сотрудник посольства, – когда уже стал для всех очевиден крах Гитлера и противовоздушная оборона Германии была полностью дезорганизована, американская и английская авиация показывали «образцы» бомбометания. В течение часа сотни самолетов засыпали бомбами жилые районы Берлина, где не было ни казарм, ни заводов, ни военных объектов. Погибло за этот час тридцать тысяч гражданского населения. Еще больше – почти сорок тысяч – жертв было в Дрездене. Четырехмоторные бомбардировщики типа «Ланкастер» английского королевского военно-воздушного флота и «летающие крепости» США при поддержке штурмовиков первой эскадры американского военно-воздушного флота в течение нескольких минут превратили Дрезден в развалины. Операция из трех воздушных налетов под кодовым обозначением «Удар грома» закончилась тем, что огонь бушевал восемь дней и ночей. И теперь из года в год поздним вечером 13 февраля – а именно вечером и началось это зверство в сорок пятом – двадцать минут гудят колокола всего Дрездена в память о зловещих событиях в истории города.
– Это не борьба, а просто варварски бессмысленное убийство и разрушение, – заметила я.
– Причем подвергались этому разрушению как раз те районы, которые впоследствии должны были оказаться в советской оккупационной зоне. А бомбометание над Веймаром? Над городком, не имеющим никакого военного значения, появился американский самолет. Летчик спокойно выбрал цель и сбросил бомбу на гордость Тюрингии – драматический театр, где еще при жизни Гете и Шиллера ставились их пьесы. Об ошибке не могло быть и речи, ибо это был единственный самолет и единственная бомба, сознательно и точно сброшенная на театр. Американский варвар кинулся разрушать в Германии то, что в ней осталось самого лучшего, что являлось достоянием всего человечества, – огромной ценности памятник культуры. Да и сам город – сердце культуры нации, один из красивейших городов Европы. Обязательно побывайте в нем. Дорога до Веймара превосходная, да и расстояние всего около пятисот километров – не так уж много.
Я воспользовалась советом и в один из солнечных дней отправилась в Веймар. Дорога действительно была в идеальном состоянии, и автомашина быстро доставила меня и моих спутников на вершины холмов, составляющих целую цепь гор под названием Гарц. Окрестности Веймара оказались чрезвычайно живописными: тут и поля, перемежающиеся с густыми рощами на холмах, и горные массивы, громоздящиеся над извилистыми речками, и развалины старинных замков на фоне голубого неба. Улицы, площади, парки и скверы города, словно немые свидетели прошлого, напоминают о великих людях, творивших здесь. В Веймаре жили Гете, Шиллер, Лист, а в гостинице «Русский двор» останавливались Гердер, Роберт и Клара Шуман, Элеонора Дузе, Толстой и якобы Пушкин. Кстати, великого русского поэта в городе почитают, ему поставлен отличный памятник. Посетила я и кладбище, где покоились Гете и Шиллер. Странной архитектуры часовня: одна сторона – сухие, холодные линии, другая – круглые византийские купола. Внутри часовня выбелена известью, кругом голо и пусто. Два небольших бюста на простых постаментах. Посередине – огороженный барьером вход в подземелье. С трудом спускаюсь по узенькой лестнице. И опять – холодные голые стены, освещенные дневным светом, проникающим сквозь отверстия в потолке. Два коричневых деревянных ящика. Гете и Шиллер. Никаких украшений, никаких надписей.
– Гете выразил желание быть похороненным как можно скромнее, – объяснили мне.
Потом я видела памятник Гете и Шиллеру, установленный в центре города на площади перед старинным зданием Национального театра, который помогали восстанавливать советские солдаты. Два поэта стоят, соединив руки в крепком рукопожатии. В их взгляде и душевная сила, и простота, и вдохновение.
С кладбища я направилась сначала в дом, где жил Гете. Он расположен на небольшой площади, низкий, двухэтажный, с мансардой. Просторный вестибюль, украшенный бронзовыми статуями. Широкая лестница на второй этаж, спроектированная самим Гете. В комнатах, принадлежащих лично Гете, куда никто, кроме него самого, не имел доступа, все сохранено в том виде, в каком было при жизни поэта. Простой, сколоченный из досок стол. Книжный шкаф. Высокий пюпитр, за которым работал Гете. Одна из комнат целиком занята шкафом с маленькими ящичками, где помещаются геологические коллекции Гете: минералы со всего земного шара, которые присылали поклонники поэта, зная его любовь к естествознанию. В небольшой спальне – кровать, над ней – коврик, рядом маленький столик и кресло со скамеечкой для ног. В этом кресле и умер Гете.