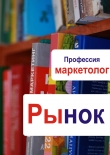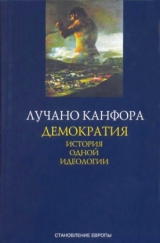
Текст книги "Демократия. История одной идеологии"
Автор книги: Лучано Канфора
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Назначение in extremis министром Тьера[244]244
Тьер, Луи Адольф (1797-1877) – французский политический деятель и историк («История Французской революции с 1789 года до 18 брюмера» (1823-1827), «История Консульства и Империи» (1845-1862)).
При Июльской монархии несколько раз был премьер-министром. В 1848 г. Луи-Филипп, упорствовавший до последнего, в ночь на 24 февраля пригласил к себе Тьера и поручил ему составить кабинет, который, как он полагал, мог спасти монархию. Тьер принял предложение и утром 24 февраля распространил прокламацию с заголовком: «Свобода! Порядок! Единение! Реформа!». Прокламация не возымела действия. В 9 часов утра Тьер вернулся во дворец и заявил королю: «Ваше Величество! Слишком поздно!» Толпа восставших парижан окружила королевский дворец, требуя отречения Луи-Филиппа – тот действительно отрекся, назвав преемником своего внука Генриха, графа Парижского. Но как только восставшим стало известно о намерении Палаты депутатов провозгласить королем Генриха, толпа ворвалась на заседание Палаты: под дулами ружей депутаты провозгласили Францию республикой и образовали новое радикально-буржуазное правительство.
После падения империи Наполеона III Тьер – первый президент (1871-1873) Третьей республики (временный, до принятия конституции); один из организаторов расправы над Парижской коммуной (прим. пер.).
[Закрыть], а графа Парижского – новым монархом, объявленное уже превратившейся в анахронизм Палатой, избранной по цензовому принципу, было сметено толпой, которая провозгласила республиканско-социалистическое временное правительство: Ламартин[245]245
Ламартин, Альфонс де (1790-1869) – французский политический деятель и выдающийся поэт. После отречения Луи-Филиппа 24 февраля 1848 г. решительно выступил в парламенте против коронации графа Парижского и произнес горячую речь, предложив учредить временное правительство и созвать Национальное собрание. Во временном правительстве Ламартин занял пост министра иностранных дел, став своеобразным посредником между консерваторами и левыми партиями. 25 февраля, когда временному правительству угрожала опасность быть разогнанным народной толпой, Ламартин произнес знаменитую речь, где красноречиво описал ужасы революции и воспел трехцветное знамя (в противоположность красному) (прим. пер.).
[Закрыть], Ледрю-Роллен (союзник, «предсказанный» в «Манифесте»), Луи Блан и рабочий Мартен, по прозванию Альбер. Впервые рабочий вошел в состав правительства.
Решение провозгласить республиканское правление было принято с готовностью. Оно, конечно, отразило мысли и чаяния новых лидеров и всей столицы. Инертность, которую в решающий момент выказала остальная Франция, привела к тому, что было принято первое неординарное решение: избрать Национальное учредительное собрание, но отложить выборы на несколько месяцев (голосование прошло 23 апреля 1848 года) в надежде добиться поддержки большинства из уже почти девяти миллионов избирателей. Это был первый опыт всеобщего голосования в Европе: страна, наиболее развитая в конституционном плане, Англия, была в тот период времени еще очень от него далека. И сложилась парадоксальная ситуация. Можно было предположить, что люди, олицетворявшие «порядок», убоятся установления всеобщего избирательного права, которое станет первым шагом к социальной революции. Разве не предвидел Токвиль (в октябре 1847), что «политическая борьба вскоре будет проходить между теми, кто имеет, и теми, кто не имеет», а «великим полем битвы станет собственность», та самая собственность, которую даже Французская революция не осмелилась поставить под сомнение?[246]246
Tocqueville A. de, Una rivoluzione fallita. Ricordi del 1848-49у итал. перевод под ред. A. Omodeo, Laterza, Bari, 1939, p. 9.
[Закрыть] Но все случилось наоборот. Именно революционеры, которые уже начали называть себя «красными», а также неоякобинцы, вернувшиеся к названию «Гора», стали бояться выборов. Тем временем временное правительство пыталось проводить социальные реформы. И в 1789, и в 1830 году, борясь с безработицей, власти открывали ateliers nationaux[247]247
Национальные мастерские (фр.).
[Закрыть], чтобы занять в них значительное число рабочих. Временное правительство повторило этот опыт. Министр общественных работ Александр Мари, который расценивал эту меру как способ уравновесить давление на правительство со стороны так называемых «люксембургских рабочих»[248]248
«Люксембургские рабочие» – депутаты так называемой «Люксембургской комиссии» – правительственной комиссии по труду, учрежденной после Февральской революции 1848 г. временным правительством под давлением рабочих. Заседала в Париже в Люксембургском дворце (отсюда ее название) с начала марта до середины мая 1848 г. Возглавлял комиссию Луи Блан, заместителем был рабочий Альбер. В ее состав входило несколько сот делегатов от рабочих, предпринимателей и несколько теоретиков-экономистов. По инициативе комиссии временное правительство издало декрет о сокращении рабочего дня на один час; были учреждены государственные конторы по трудоустройству, созданы производственные рабочие ассоциации (портных, прядильщиков и других). Однако лишенная денежных средств и реальной власти, комиссия скоро превратилась в говорильню (прим. пер.).
[Закрыть], принадлежал к умеренному крылу временного правительства. Неожиданным для умеренных стало то, что число принятых в «мастерские» чудовищно выросло за короткое время. Хотя речь шла об «авангарде».
Дважды, 17 марта и 16 апреля, массовые демонстрации рабочих (в глазах Ламартина, Мари, Кремье[249]249
Кремье, Адольф (1796-1880) – французский юрист и государственный деятель; избранный республиканцами во временное правительство (1848), стал министром юстиции (прим. пер.).
[Закрыть] и прочих то были «беспорядки») пытались добиться того, чтобы выборы отложили. Напрасно. 23 апреля состоялось голосование. Историк Сеньобо, чей предок был тогда депутатом, воскрешает атмосферу ликования и общественного подъема (не выходящего, впрочем, за рамки), в которой проходили выборы[250]250
Lavisse В. E., Histoire de France contemporaine, voi. VI (под ред. Ch. Seignobos): La Révolution de 1848 et le Second Empire (1848-1859), Hachette, Paris, 1921, pp. 78-79.
[Закрыть]: «Приглашенные к определенному часу, избиратели из одного округа договаривались идти на участок все вместе, как призывники в день жеребьевки. Они прибывали в главный город кантона строем, часто со знаменами и под барабанный бой; во главе шли тогдашние «власти»: мэр и кюре». Этот первый опыт всеобщего голосования, – продолжает Сеньобо, – проходил в атмосфере «почти религиозного энтузиазма». Проголосовало 84% избирателей (около 8 млн человек): рекордный показатель, который во Франции не был достигнут ни разу в последующие века. Результат не оставлял места сомнениям. Из 900 избранных 450 принадлежали к умеренным республиканцам, 200 – к орлеанистам и 200 – к «социал-демократам». Прошло всего 26 депутатов из народа. Даже в Париже поражение было полным: Ламартин получил 260 тысяч голосов, Луи Блан – 121 тысячу.
Учредительное собрание приступило к работе 4 мая 1848 года. 15 мая, направляемые Бланки[251]251
Бланки, Луи Огюст (1805-1881) – французский революционер, коммунист-утопист, участник революций 1830, 1848 г. и Парижской коммуны, руководитель ряда тайных обществ. За свою деятельность 37 лет жизни провел в заключении. Успех социальной революции связывал с заговором организации революционеров, которых, по его мнению, в решающий момент поддержат народные массы (прим. пер.).
[Закрыть], Распаем[252]252
Распай, Франсуа Венсан (1794-1878) – французский деятель республиканского и демократического движения, химик и медик. Во время революции 1848 г. возглавлял делегацию, добившуюся от временного правительства провозглашения 25 февраля 1848 г. республики. За руководство демонстрацией 15 мая 1848 г. был приговорен к заключению, в котором пробыл до 1854 г., после чего жил в изгнании в Бельгии. Во время президентских выборов 10 декабря 1848 г. был выдвинут кандидатом от социалистических клубов Парижа. Амнистированный в 1859 г., вернулся во Францию в 1863 г. В 1869 г. избран в парламент от оппозиции. В 1876 г., в Палате депутатов выступал с требованием амнистии для коммунаров (прим. пер.).
[Закрыть], Барбесом[253]253
Барбес, Арман (1809-1870) – французский революционер и политик. За попытку поднять восстание был в 1839 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение; освобожден во время Революции 1848 г. и избран депутатом в Учредительное собрание. Участвовал в революционной демонстрации 15 мая 1848 г., переросшей в захват Национального собрания. Заняв Ратушу, Барбес и рабочий Альбер пытались сформировать социалистическое правительство, но в первый же день были арестованы в числе четырехсот прочих активистов. Барбес опять был приговорен к пожизненному тюремному заключению, но в 1854 г. освобожден по личному распоряжению Наполеона III, что Барбеса крайне оскорбило. В дальнейшем жил в Бельгии, Испании и Нидерландах, но во Францию так и не вернулся (прим. пер.).
[Закрыть], рабочие вторглись в зал заседаний, но были выдворены силой с помощью Национальной гвардии. Мотивом такого налета на только что избранный парламент якобы было стремление вернуть, хоть бы и путем вооруженной интервенции, свободу Польше[254]254
...вернуть... свободу Польше – события в Польше, послужившие предлогом вторжения рабочих во французский Парламент, – Познанское восстание (20 марта – 9 мая 1848 г.) против прусского владычества, потерпевшее поражение из-за нерешительности польских либеральных кругов (прим. пер.).
[Закрыть]; на самом деле то была попытка ввергнуть в кризис правительственную «Комиссию». На следующий день после неудавшегося восстания Блан и Альбер были вынуждены покинуть правительство; Луи Блану было предъявлено обвинение в том, что он заранее знал о готовящейся акции; в Палате по всем правилам прошло разбирательство и голосование (369 голосов «против» и 337 – «за»).
События 15 мая развивались бурно. 150 тыс. человек двигались к Парламенту с криками «Да здравствует Польша!», но, наводнив зал заседаний, стали требовать другого. Вожди – Бланки и Барбес, соревнуются в экстремизме. Барбес требует колоссального налога на богатство. К крикам, прославляющим Польшу, присоединяются здравицы в честь «Организации труда». Посреди хаоса Луи Юбер, видный представитель Societé des droits de l’homme [Общество прав человека], неоднократно пытался объявить собрание распущенным и утвердить новое правительство, список министров которого, составленный им самим, тут же прочел: Прудон, Леру, Консидеран, Бланки, Луи Блан и т. п. Правительство, состоящее из одних социалистов. Дважды в течение дня подвергнутый аресту, он в конце концов укрылся в доме своих друзей и, обрившись наголо, чтобы не быть узнанным, удрал в Лондон. Процесс, проходивший в Версале через год, вылился в тягостное сведение счетов между ним и его бывшими товарищами по партии.
Подавление стихийной демонстрации, превратившейся в пробу сил, заключало в себе полезный урок. Оно показало невозможность повторения пройденного. Демонстрация была попыткой заново разыграть сценарий 31 мая 1793 года, когда с подачи монтаньяров были арестованы прямо в Конвенте депутаты Жиронды[255]255
Депутаты Жиронды, жирондисты – умеренная республиканская партия времен Великой Французской революции названа так потому, что предводителями ее были депутаты от департамента Жиронда (прим. пер.).
[Закрыть], и к власти пришел Большой Комитет общественного спасения. События должны были развиваться так же: в тот раз 33 секции, где Гора составляла большинство, подготовили в ночь с 30 на 31 мая нападение на Конвент; и там жирондисты, разрозненные, охваченные страхом, оказавшиеся в меньшинстве из-за собственного отступничества, были разгромлены. В газетах того времени можно прочесть выразительные хроники этого то ли восстания, то ли переворота: «Journal de Paris» [«Парижская газета»] рассказывает, как по предложению Барера якобинцы пожелали, когда арест депутатов-жирондистов был уже предрешен, «посоветоваться с народом». Депутаты вышли к толпе восставших, скопившейся вокруг Конвента; услышав после утомительного заседания приветственные крики, они решили, что «воля народа» состоит в том, чтобы продолжить аресты. Первый, непосредственный вывод из событий 15 мая 1848 года был тот, что история не повторяется, что сценарий, один раз удавшийся, во второй раз ведет к поражению. На этот раз Ламартин (автор «Histoire des Girondins» [«История жирондистов»]) одержал победу над теми, кто хотел повторить переворот, осуществленный монтаньярами.
Восстание 23-24-25 июня 1848 года в Париже вспыхнуло по причине насильственного роспуска национальных мастерских, осуществленного, несмотря на соглашательские, «умиротворяющие» речи в Парламенте, такие как, например, речь Виктора Гюго; неудержимый рост этих «мастерских» еще более усилился после злополучных событий 15 мая. Временное правительство (уже в сокращенном составе) приняло чрезвычайные меры, такие как прекращение выдачи разрешений на въезд (внутренних паспортов) рабочим, которые хотели бы поменять место жительства или перебраться в Париж. Наибольший размах восстание приобрело в предместьях Сент-Антуан, Сент-Мартен, Темпль: клич строить баррикады подхватили около семи тысяч рабочих, собравшихся у колонны на площади Бастилии. «Исполнительная Комиссия» – такое название тогда носило правительство – подала в отставку, и Учредительное собрание передало всю полноту власти генералу Кавеньяку[256]256
Кавеньяк, Луи Эжен (1802-1857) – французский государственный деятель, генерал. В мае 1848 г. был назначен военным министром и, получив от Учредительного собрания диктаторские полномочия, жестоко подавил Июньское восстание парижских рабочих. В декабре 1848 г. неудачно баллотировался в президенты (прим. пер.).
[Закрыть], сыну члена Конвента и цареубийцы Жана-Батиста Кавеньяка. Установилась диктатура: «Франция покорилась генералу, только чтобы не довериться монарху», – писал Бастед[257]257
Bastid P., Doctrines et institutions politiques de la seconde République, I, Hachette, Paris, 1945, p. 288.
[Закрыть] Подавление восстания поручено войскам; вместе с Кавеньяком ведут войну – войну по всем правилам – на Rive droit[258]258
Правом берегу (фр.).
[Закрыть] и в Латинском квартале генералы Ламорсьер и Дамесм. Три генерала (Бреа, Дювивье, Негрье) были убиты в ходе самых ожесточенных боев, тех, что разгорелись за предместье Сент-Антуан. Осадное положение длилось и после того, как с восстанием было покончено; более четырех тысяч рабочих были без суда отправлены на каторгу в заокеанские колонии.
Это событие не было ни эфемерным, ни изолированным; его нельзя назвать яркой, но кратковременной, одиночной вспышкой. Токвиль в «Воспоминаниях о 1848-1849 годах» говорит о нем, как о «самом крупном восстании в нашей истории, а может, и в истории вообще». Более проницательный, чем его соратники по политическому лагерю, Токвиль, не симпатизируя, разумеется, революции, понимает ее природу: то был не просто политический конфликт, а «борьба классов», прямое следствие всего того, о чем говорилось, что предлагалось в февральские дни. То была, можно сказать, классовая борьба в чистом виде, не только исходя из социально однородного состава повстанцев и явно антирабочей меры, которая спровоцировала выступление, но и по преимущественно стихийной и с организационной точки зрения импровизированной природе движения. Лидеры, во всяком случае наиболее видные, сидели на парламентских скамьях; они могли только плестись в хвосте событий, быть посредниками, не политическими руководителями. В июне 1848 года, как и двадцать лет спустя во время Коммуны, пролетариат идет на верную гибель, бросается в битву, заранее обреченную на поражение.
Когда бывший «умеренный» депутат Виктор Гюго пишет, уже в изгнании, свою эпопею «Отверженные», он относится к июньским дням по-прежнему сдержанно. Июньские события оказали на него немалое влияние: предоставив вместе с другими депутатами всю полноту власти Кавеньяку, но восстав впоследствии против Луи Бонапарта, Гюго посвящает размышлениям о восстании 1848 года целые страницы в начале V части романа, переходя к этой теме от антиорлеанистского восстания 1832 года (которое играет важную роль в развязке романа). Хорошо узнаваем тон этих размышлений, «plein de beautés et de bétises»[259]259
«полных красот и глупостей» (фр.).
[Закрыть] по словам Бодлера, который прилепил Гюго кличку «Олимпио»[260]260
Письмо в «Le Figaro», 14 апреля 1864 г.
[Закрыть]. Со своей стороны, Маркс так определил все, что Гюго писал и говорил в месяцы своей парламентской деятельности: «блестящие тирады старой луифилипповской знаменитости, г-на Виктора Гюго»[261]261
Маркс К. «Классовая борьба во Франции». [К. Маркс и Ф. Энгельс цит. по: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Государственное издательство политической литературы. Москва, 1955-1981. – Прим. ред.].
[Закрыть].
Возмущение толпы, страдающей и обливающейся кровью, – пишет Виктор Гюго, – ее бессмысленный бунт против жизненно необходимых для нее же принципов, ее беззакония ведут к государственному перевороту и должны быть подавлены. Честный человек идет на это и, именно из любви к толпе, вступает с ней в борьбу. Но как он сочувствует ей, хотя и выступает против! Как уважает ее, хотя и дает ей отпор! Это один из редких случаев, когда, поступая справедливо, мы испытываем смущение и словно не решаемся довести дело до конца; мы упорствуем – это необходимо, но удовлетворенная совесть печальна; мы выполняем свой долг, а сердце щемит в груди.
Поспешим оговориться, – июнь 1848 года был событием исключительным, почти не поддающимся классификации в философии истории. Все слова, сказанные выше, надо взять обратно, когда речь идет об этом неслыханном мятеже, в котором сказалась священная ярость тружеников, взывающих о своих правах. Пришлось подавить мятеж, того требовал долг, так как мятеж угрожал Республике. Но что же в сущности представлял собой июнь 1848 года? Восстание народа против самого себя[262]262
Здесь и далее перевод V части «Отверженных» В. Гюго М.В.Вахтеровой.
[Закрыть].
После этого шедевра благопристойного лицемерия, необычного для него, Гюго пускается в виртуозное, можно сказать, эстетизирующее описание баррикады, воздвигнутой в июньские дни в предместье Сент-Антуан, с жаром утверждая, доказывая, что он видел все это своими глазами: «...те, кому довелось увидеть эти выросшие под ясным голубым июньским небом грозные творения гражданской войны, никогда их не забудут». С незаурядной интуицией он усматривает в наслоениях предметов, из которых состоит баррикада, историко-геологическую аккумуляцию всех предшествующих революций, от 1789-го до 1848 года: «...баррикада имела право возникнуть на том самом месте, где исчезла Бастилия». И не перестает, на протяжении нескончаемых страниц, которые он посвящает ее описанию, одновременно принижать и восхвалять ее: «...то была куча отбросов, и то был Синай!» Но все же идет напролом: нападает на революцию во имя революции. «Эта баррикада, порождение беспорядка, смятения, случайности, недоразумения, неведения, восстала против Учредительного собрания, верховной власти народа, всеобщего избирательного права, против нации, против Республики: Карманьола вызвала на бой Марсельезу».
Всеобщее избирательное право, в самом деле. Первое горькое разочарование на этой почве постигло как раз душителя революции Кавеньяка 10 декабря 1848 года, во время выборов президента Республики. Несмотря на такое преимущество в глазах умеренного большинства, как роль спасителя отечества, и несмотря на выгодную позицию, какую он занимал, будучи председателем Совета министров (вплоть до самых выборов), Кавеньяк получил всего лишь 1448 тысяч голосов против 5434 тысяч, отданных принцу Луи Бонапарту, который уже готовил свой рывок к бонапартистской империи.
6. ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО: АКТ ВТОРОЙ
Общеизвестно, что представляли собой выборы 10 декабря 1848 года, – читаем в «Grand Dictionnaire» [«Большой словарь»] Пьера Ларусса, – Некий trombe populate[263]263
Народный смерч (фр.).
[Закрыть] вырвал из деревень миллионы жителей и заставил их кружиться вокруг избирательных урн, сжимая в руках бюллетени, где было отчеркнуто одно-единственное имя» (III, 637). Возникает неизбежный вопрос: каким образом был достигнут консенсус? Причины триумфального избрания Луи Бонапарта коренились глубоко, но в то же время намечалось формирование специфически новых черт внутри социально-политического сценария «демократии».
В 1848 году Луи Бонапарту исполнилось сорок лет, и за плечами у него был порядочный политический опыт. В левой культуре сложилась традиция противопоставлять «Великого» и Третьего Наполеонов, подчеркивать, что между ними пролегает пропасть. В каком-то месте «Тюремных тетрадей» Антонио Грамши определяет, весьма схематично, различие между «позитивным» и «негативным» цезаризмом: первый, к примеру, воплощен в первом Наполеоне, второй – в Наполеоне III. На самом деле основная черта «бонапартизма» – то есть политика межклассового сотрудничества, демагогическая, обольстительная, почти неотразимая, опирающаяся на наименее политизированные массы и в то же время надежно привязанная к имущим слоям, – присутствовала уже и у первого «императора французов». От резкого сужения избирательного права до восстановления рабства, от создания новой прослойки нотаблей до железной цензуры – все это было в Первой империи, даже начиная с 18 брюмера. Резкому противопоставлению Первого Наполеона Третьему способствовал, несомненно, и презрительный тон памфлетов, направленных против Луи Бонапарта: от «Наполеона Малого» Виктора Гюго до «18 брюмера Луи Бонапарта» Маркса.
Под всем этим, в конце концов, была сокрыта суть: рождение, причем преждевременное, из самого лона революции так называемого «третьего пути» между демократией и реакцией, то есть бонапартизма, который в действительности представляет собой не что иное, как «второй путь» (реакцию) в ее современных, псевдореволюционных формах. В XX веке этот путь продолжил фашизм в различных его ипостасях (европейской, южноамериканской и т. д.). А образцом для всех этих форм послужил «цезаризм». Этот образец у обоих Наполеонов, Первого и Третьего, превращается просто в навязчивую идею, даже в области литературы: ведь оба явились авторами интереснейших работ о Юлии Цезаре, которого тот и другой рассматривали как архетип и объект для сопоставления (при необходимости и для противопоставления). Так удивит ли нас, если мы вспомним, что второразрядный французский публицист 1930-х годов Огюст Байи – он писал, когда Муссолини пользовался наибольшим влиянием (1932), а Гитлер еще не стал канцлером, – определяя в обзорной статье о Юлии Цезаре тот режим, какой император пытался установить, прибегнул к формуле «демократический фашизм».
Воспользовавшись весьма поучительным опытом своего знаменитого родича, Луи Бонапарт после того, как провалились попытки путча в 1836 и 1840 годах (тогда имущие не нуждались в нем, поскольку Луи-Филипп крепко удерживал власть), избрал ориентирами для своей деятельности три основных элемента: популизм, подчеркнуто почтительное отношение к католической церкви и тесный контакт с экономически могущественными кругами, которые могли бы поддержать его вступление на политическое поприще.
В 1844 году, еще находясь под арестом после неудачной высадки в Булони, он написал книжицу под названием «Уничтожение бедности» («Extinction du paupérisme»), в которой объявил себя «другом» трудящихся классов. В этом труде Луи Бонапарт делает акцент на равновесии между сельским хозяйством и промышленностью; даже нападает на «дикий» капитализм, который, как «подлинный Сатурн, пожирает своих детей и живет не иначе, как за счет их смертей». В эпоху, когда рабочий день в промышленности длился двенадцать часов, все более безжалостно эксплуатировался труд несовершеннолетних, а по ту сторону Атлантики, в США, защитники рабства на плантациях приводили здравые доводы в пользу того, что такая архаическая форма зависимости куда более гуманна, чем неимоверная тяжесть фабричного труда, предложения нового Бонапарта казались весьма привлекательными, особенно в провинциях, в сельской местности. В частности, в книжке было предложено создать сельскохозяйственные общины для возделывания 9 млн гектаров целинных земель (таковы были данные официальной статистики). Такая огромная сеть аграрных колоний не только обеспечила бы пищей большое число бедных семей, но и могла бы стать прибежищем для масс безработных, отрешенных от производственного цикла по причине стагнации экономики (сильно ощутимой в те месяцы и продолжавшейся по меньшей мере до зимы 1848/49). Прибыли – и тут книжица становится истинным манифестом межклассового сотрудничества – должны быть поделены между работниками и работодателями. «В настоящее время, – писал Луи Бонапарт, – оплата труда зависит от случая и от силы. Хозяин угнетает, и, в качестве альтернативы, рабочий восстает». Вносилось следующее предложение: «Заработная плата устанавливается не на основании соотношения сил, а по справедливости, учитывая нужды тех, кто работает, и интересы тех, кто предоставляет работу». Вот в чем, – подчеркивал автор, – должна заключаться цель эффективного правительства. «Победа христианства уничтожила рабство, победа Французской революции уничтожила привилегии; победа демократических идей уничтожит бедность»[264]264
Oeuvres de Napoléon III, voi. Il, Paris, 1856, pp. 150-151.
[Закрыть]. Здесь, несомненно, чувствуется дыхание истории, стремление сделать краткий ее очерк основанием программы реформ.
Луи Бонапарт был такой же авантюрист, как и его предок, но ему не представился случай проявить военные таланты. А вот деньги он пытался делать самыми фантастическими способами, включая призыв к финансистам Старого и Нового Света предоставить средства для постройки канала между Тихим и Атлантическим океанами. Его миллионные долги время от времени погашали доброхоты; накануне февральской революции (1848) «актив» и «пассив» у него сходились. Благодетели, более или менее заинтересованные в нем, как, например, мисс Ховард[265]265
Мисс Ховард, Элизабет Энн, настоящее имя Элизабет Энн Хэрриет (1823-1865) – английская актриса и куртизанка, любовница Наполеона III, пожертвовавшая своим состоянием ради его восшествия на престол (прим. пер.).
[Закрыть], щедрой рукой отсыпали золото, чтобы поправить его финансы.
Один памятный эпизод поможет нам непосредственным образом проникнуть в бонапартистский умственный склад, неизменно двойственный. В канун февральской революции, 22-го числа, Луи Бонапарт тайно выехал из Лондона. Он явился в Париж, когда только что было провозглашено временное правительство (и никакого бонапартистского движения на горизонте не наблюдалось). И все же он пишет новому правительству, предлагая сотрудничество: «Спешу вернуться из изгнания, чтобы встать под знамена Республики. Не имея никаких других амбиций, как только служить моей стране, объявляю о своем приезде членам временного правительства и заверяю их в моей преданности делу, которое они представляют». Правительство, боясь, что принц снова начнет плести интриги, 26 февраля, в четыре часа утра, направило ему приказ немедленно покинуть Францию. Уезжая, он послал в правительство новое письмо: «Господа, вы полагаете, что мое пребывание в Париже в настоящий момент может создать затруднения. Итак, я сей же час удаляюсь. Эта жертва явит вам чистоту моих намерений и присущий мне патриотизм». Добравшись до Лондона, переменчивый принц стал свидетелем политических волнений, выступлений чартистов, которым новости из Парижа, очевидно, дали толчок. Луи Бонапарт немедленно записался в особое подразделение, вооруженное палками, предназначенное для того, чтобы расчищать дорогу демонстрантам, которые направлялись к Парламенту (10 апреля 1848).
Во время апрельских выборов во Франции ему не удалось добиться избрания. Зато успех ждал его на дополнительных выборах 3 июня, благодаря кропотливой работе его сторонников, проводивших беседы с избирателями, призывавших народ голосовать, в его лице, за «республиканца, патриота, нашего брата, который борется за возможно более полное развитие демократических принципов». Показательно, что он имел успех – в отличие от остальных избранных – не только в Париже, но и в Нижней Шаранте, Йонне, на Корсике. На этом этапе его пропаганда была обращена к народным слоям, которые охватывал, все разом, «Наполеониен» (орган его избирательной кампании). Но в то время как социалистов, открыто заявивших о себе, поддерживали в основном в Париже, имя принца Бонапарта широко распространилось также и в провинции. Его избрание вывело из себя умеренных. Ламартин попытался возобновить обсуждение закона 1832 года, предписывавшего изгнание лиц, «опасных для дела свободы». Но после долгой дискуссии собрание отклонило закон; таким образом, избрание нового депутата было подтверждено. И Луи Бонапарт занял место на скамьях Горы, то есть, среди левых республиканцев, опиравшихся на самый радикальный опыт Первой республики; рядом со своим наставником и «учителем» Нарсисом Вьельяром[266]266
Этого персонажа вкратце обрисовывает Токвиль, Ricordi, pp. 103-104.
Вьельяр, Нарсис (1791-1857) – воспитатель старшего брата Наполеона III, депутат парламента Июльской монархии, Учредительного и Законодательного собраний после революции 1848 г. (прим. пер.).
[Закрыть]. Об этом с иронией вспоминает Гюго в первой главе «Наполеона Малого».
14 июня на Учредительном собрании было зачитано письмо принца Бонапарта, в котором, в частности, говорилось: «Если бы народ возложил на меня долг, я знал бы, как его выполнить». Кавеньяк потребовал, чтобы депутат, который посмел выразиться в таком духе, был немедленно лишен мандата. На другой день Бонапарт совершил ловкий маневр: немедленно подал в отставку, заверяя при том в искренности своих намерений. Таким образом у бонапартистской пропаганды оказались развязаны руки. Когда три июньских дня в Париже бушевало восстание, бонапартистские агенты внедрялись в ряды повстанцев, смешивались с ними. Дэ и Лар, входившие в группу, совершившую убийство генерала Бреа[267]267
Бреа, Жан Батист Фидель (1790-1848) – французский генерал, убитый повстанцами во время Июньского восстания 1848 г. (прим. пер.).
[Закрыть], несомненно, были бонапартистами. Принц завоевывал доверие во всех слоях и оставался в Лондоне, «вынужденный» к тому остракизмом, которому его подвергли такие люди, как Кавеньяк, вершивший тем временем расправу над восставшими и запятнавший себя кровью. На сентябрьских «дополнительных» выборах Бонапарт, по-прежнему из Лондона, выставил свою кандидатуру и победил в пяти округах. Его программа заключалась в том, чтобы «поставить Республику на более широкую и прочную основу». В своих посланиях он заявлял избирателям: «демократическая республика – мой культ, я стану служить ей, как жрец». Он вернулся на скамьи Собрания 26 сентября, но присутствовал нечасто. Он не хотел компрометировать себя принятием непопулярных решений. Когда стало известно, что его кандидатура выдвинута на выборы в декабре, раздались протесты; несколько дней спустя Бонапарт принялся оправдываться: дескать, он был обязан согласиться с выдвижением в ответ на многочисленные настояния, после стольких побед на предыдущих выборах. Тем временем вне Палаты он обхаживал как вождей социалистов (Прудона и Луи Блана), так и монархистов (Тьера, Монталамбера и т. д.). По всем правилам вел осаду своего главного противника, Кавеньяка. Конечно, результат выборов говорит сам за себя: пять с половиной миллионов голосов за Бонапарта, миллион четыреста тысяч за его основного оппонента (Кавеньяка); но еще более показателен практически полный провал «официальных» социалистов (36 329 голосов за Распая и 370 719 за Ледрю-Роллена!). Новый Бонапарт «сожрал» всю оппозицию, всех недовольных правительством Кавеньяка и вместе с тем использовал провинциальный электорат, свою стабильную и обширную «кормушку».
Его предвыборная программа была в своем роде совершенством. Он обещал поддерживать порядок, защищать религию, семью, собственность; желал мира, децентрализации, свободы печати, отмены законов о ссыльных (а ссыльными были на тот момент тысячи рабочих, депортированных после июньских событий); собирался отменить самые обременительные для народа налоги; поощрять предприятия, создающие новые рабочие места; предоставить средства для поддержки престарелых рабочих – говоря короче, целью его было благосостояние каждого, основанное на процветании всех. Кроме того, Бонапарт заверял, что, пробыв четыре года на этом посту, он передаст власть своему преемнику. Рядом с напыщенными, громогласными или экстремистскими речами других кандидатов, эта программа была обречена на успех. Никогда не умиравшая легенда о первом Бонапарте довершила дело.
От «плебисцита» 10 декабря 1848 года до государственного переворота 2 декабря 1851 года Луи Бонапарт ловко лавировал между народом и парламентом, постоянно обращая на этот последний, на его противоречивые, непопулярные решения все недовольство масс. Он желал, чтобы для всех стал очевиден «беспорядок», происходящий от господства различных партий и фракций, и приступил к решительным действиям, когда убедился, что страна с признательностью поддержит сильную власть.
Решающих моментов было два: кризис 13 июня 1849 года, последовавший за римской экспедицией в поддержку папы Пия IX, которая должна была покончить с последней «аномалией» 48-го года (правительством Мадзини в Риме); и довыборы 10 марта и 28 апреля 1850 года, продемонстрировавшие явное оживление среди левых.
Известно, что экспедицию в Рим, за которую проголосовали и либералы, и антиклерикалы, такие как Франсуа-Андре Изамбер, и многие другие, принц-президент задумал, дабы ублаготворить клерикальную партию, ибо именно на глубинную, католическую Францию он в основном и опирался на выборах. Лицемерием было утверждать, что экспедиция должна была всего лишь вернуть папу в Рим, не свергая Римской республики, что французские войска выступали посредниками, не исполнителями реставрации. Учитывался тот факт, что решение принимало Учредительное собрание (практически перед самым своим роспуском), то самое Учредительное собрание, которое было избрано в апреле 1848 года, и, хотя левых в нем и поубавилось, все же большинство оставалось республиканским. 28 мая 1849 года приступила к работе новая Палата, Законодательная, где большинство составляли умеренные. 2 июня генерал Удино предпринял яростное наступление, в результате которого Римская республика меньше чем за месяц была раздавлена. Только 13 июня яркий представитель левых Ледрю-Роллен поднял в Палате вопрос о том, что интервенция против Рима противоречит конституции, и потребовал выдвинуть против принца-президента обвинение в антиконституционных действиях. Тщетная попытка. Правительство вовремя подавило уличные демонстрации, начались аресты, было объявлено осадное положение. Но после падения Рима, с началом папских репрессий Луи Бонапарт ловко устранился от содеянного, твердя об «истинных целях» римской экспедиции! Еще один способ замаскироваться, поставить себя super partes[268]268
Над сторонами (лат.).
[Закрыть] и переложить ответственность за самые неблагодарные решения на Собрание. С такой целью он обнародовал в августе свое письмо к полковнику Нею, своему офицеру для поручений, где, в частности, говорилось:
Французская республика направила войска в Рим не для того, чтобы задушить итальянскую свободу; наоборот: чтобы ввести ее в русло, спасти от ее собственных крайностей! /.../ С истинной скорбью узнаю, что благие намерения понтифика, да и наши действия, развеялись по ветру. Неужели было необходимо сопровождать возвращение папы проскрипциями и тиранией?
Таким образом ответственность перелагалась на чужие плечи. Таким образом принц-президент не портил отношений с клерикальной партией, но в то же время его «имидж» оставался незатронутым тем неприятным впечатлением, какое вызвали наступление на Рим и (вполне предвидимая) месть папы, его реваншистский террор.
Но подлинным его шедевром явился государственный переворот, произведенный во имя всеобщего избирательного права. Восстановим развитие этих событий, имеющих чуть ли не эмблематический характер. Тактика принца-президента и в этом случае заключалась в том, чтобы постоянно отделять в глазах общественного мнения путем хорошо продуманных, настойчивых маневров свой образ от образа исполнительной власти и Палаты депутатов. В конце октября (1849) провокационное послание президента Собранию явило перед никчемной «политической прослойкой» великую тень Императора (первого Наполеона). Тон послания, казалось, был полон горького разочарования:
Я допустил к управлению государством людей самых разных убеждений[269]269
В самом деле, сразу после победы на выборах 10 декабря 1848 г. он поручил Леону Фоше общественные работы: Фоше был одним из создателей «национальных мастерских».
[Закрыть], но не получил от этой попытки сближения тех результатов, каких ожидал. Среди такой неразберихи Франция, мятущаяся, утратившая ориентиры, ждет руководства, уповает на волю того, кто был избран 10 декабря /.../ Целая политическая концепция /un système/ победила в моем лице, вместе с моим избранием: ведь имя Наполеона само по себе является программой. Оно означает: во внутренней политике порядок, твердая власть, религия и благосостояние народа; в политике внешней – национальное достоинство. Успеха такой политики я собираюсь добиться, опираясь на поддержку страны, Собрания и народа.
Собранию не понравилось такое откровенно программное выступление, хотя впоследствии, по конкретным пунктам – особенно в области народного образования, где были сделаны уступки католической партии, а преподаватели поставлены под надзор префектов, – Палата с ее католическим умеренным большинством и президент явно пришли к согласию.
Этот тяжкий разворот политического механизма вправо считается причиной успеха левых сил на довыборах 10 марта и 28 апреля 1850 года. (Под левыми силами понимаются демократы-республиканцы, которые по-прежнему именовали себя «Горой» и во время февральской революции пользовались большой популярностью, и социалисты разных направлений.) Продолжая свою двойственную политику super partes, Бонапарт тем временем сделал жест сближения с левыми, освободив и вернув домой 1341 заключенного из тех, что попали в тюрьмы и на каторгу после июньского восстания. Этот ход был рассчитан на то, чтобы парламентское большинство выразило свое осуждение, впрочем, ни к чему не ведущее. Парламентское большинство сильно обеспокоилось результатами выборов в марте-апреле 1850 года, и 2 мая была создана парламентская комиссия, призванная разработать закон, который ограничил бы избирательное право. В состав комиссии вошли, в частности, Тьер, Пискатори, Дарю и Леон Фоше. 31 мая Палата утвердила закон, упразднявший всеобщее избирательное право и на практике лишавший права голоса около трех миллионов французов (это «неимущее» меньшинство, которое может победить, если найдет союзников...). Закон прошел 433 голосами против 241. Вот его основные статьи: чтобы стать избирателем, необходимо проживать в кантоне не менее трех лет, и это должно быть подтверждено ведомостью об уплате прямых налогов, или, для рабочих, справкой от работодателя; все осужденные за политические (подстрекательство в печати in primis) и уголовные преступления (включая бродяжничество, адюльтер и нищенство) лишались избирательных прав. Так число избирателей сократилось с 9 миллионов 600 тысяч до б миллионов 800 тысяч. Свой протест высказали Кавеньяк, Ламартин, Виктор Гюго (который прослойке misérables[270]270
Отверженных (фр.).
[Закрыть], совсем не похожей на фабричный пролетариат, в последующие годы посвятит эпопею) и некоторые другие. Тьер ответил: «Никто не собирается оспаривать всеобщее избирательное право и не пускать народ к урнам; это подлую чернь /«подлая чернь»: вот уж в самом деле расплывчатое понятие/ намеревается исключить закон». Тьер, впрочем, разъяснил, кого он имеет в виду: «les mauvaises blouses»[271]271
«Скверные блузы» (фр.).
[Закрыть], и прокомментировал свое определение: «...я имею в виду рабочих-бродяг, всегда готовых подхватить любой лозунг, какой они услышат в кабаке». Будущий палач коммунаров, ставший миллионером за время своего пребывания в правительстве Луи-Филиппа, мог похвастаться последовательностью мнений и поступков.