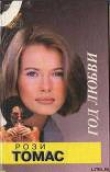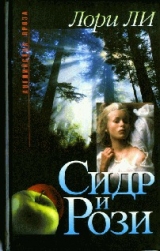
Текст книги "Сидр и Рози"
Автор книги: Лори Ли
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Нашим первым заходом, как всегда, был дом Сквайра, и мы, нервничая, зашагали по подъездной аллее. Лампами нам служили свечки, вставленные в банки из-под мармелада и подвешенные на веревках с петлей. Они бросали слабые лучики света на башни снежных сугробов, которые громоздились по обеим сторонам аллеи. Начиналась снежная буря, но мы хорошо укутались: армейские обмотки на ногах, на головах – шерстяные шапки и несколько шарфов намотано на уши.
При подходе к Большому Дому, пересекая белые, притихшие лужайки, мы тоже почтительно смолкли. Озеро рядом с домом выглядело застывшим, черным пятном, водопад замерз и молчал. Мы, шаркая, выстроились вокруг большой входной двери, потом постучали и сообщили, что пришел Хор.
Служанка понесла новость о нашем прибытии куда-то в гудящую эхом глубину дома, и, ожидая ее возвращения, мы шумно откашливались, прочищая горло. Когда она вернулась, дверь для нас оставили распахнутой и нам разрешили начинать. Мы не принесли инструменты, гимны жили в голове. «Давайте споем им "Диких пастухов"», – предложил Джек. Мы смущенно начали, бросившись в пучину разных тональностей, слов и темпов; но понемногу собрались; тот, кто пел громче всех, повел остальных за собой, и гимн приобрел форму, если уж не благозвучие.
Этот огромный каменный дом с заросшими плющом стенами навсегда остался для нас загадкой – его фронтоны, его комнаты и чердаки, его узкие окна, занавешенные ветвями кедров. Пока мы пели «Диких пастухов», мы вытягивали шеи, пытаясь заглянуть в освещенный холл, куда нас никогда не пускали. Мы успели разглядеть мушкеты и стулья, на которых нельзя сидеть, и огромные гобелены, заросшие мхом из пыли – но внезапно на лестнице появился сам старик Сквайр, слушающий, склонив набок голову.
Он не шелохнулся, пока мы не закончили; потом медленной, дрожащей походкой он приблизился к нам, трясущейся рукой бросил две монетки в нашу коробочку, наградил каждого из нас долгим взглядом своих блеклых, подслеповатых глаз и молча отвернулся.
Будто освободившись от чар, мы сделали несколько степенных шажков, а затем опрометью бросились к воротам. Мы не остановились, пока не покинули поместья. Горя от нетерпения узнать, наконец-то, меру его щедрости, мы присели около коровника, подняли свои лампы над регистрационной книжкой и увидели, что он написал «Два шиллинга». Это было совсем неплохое начало. Никто из зажиточных людей в округе не осмелится дать нам меньше, чем Сквайр.
И так, с первыми деньгами в коробке, мы отправились по долине, поливая презрением выступления других мальчишек. Теперь уверенные в себе, раз признали качество нашего пения, мы стали оценивать, какой гимн лучше другого, и какой подходит нам больше. Горас, велел Уолт, пусть не поет вообще, его голос уже начал ломаться. Горас попытался оспорить это предложение, и завязалась первая короткая драка – они толкались на ходу, лягались, кидали друг в друга снегом, но вскоре все забылось и Горас по-прежнему пел.
Постепенно мы проходили долину, идя от дома к дому, заходя и к менее, и к более важным господам – фермерам, докторам, купцам, майорам и другим достойным людям. Сильно подмораживало, и задувало тоже; но мы совсем не ощущали холода. Снег бил нам в лицо, в глаза, набивался в рот, всасывался в наши обмотки, попадал в ботинки и сыпался с шерстяных шапочек. Мы не обращали внимания. Коробка с монетами становилась все тяжелее, а список имен в книге – все длиннее, и все более интересным, так как каждый дающий пытался превзойти других.
Мы проходили милю за милей, борясь с ветром, падая в сугробы и ориентируясь на светящиеся окна домов. И ни разу так и не увидели своей аудитории. Мы звонили в дом за домом, пели во дворе или на крыльце, под окнами или во влажной темноте прихожей; слышали голоса из далеких комнат; чувствовали запах дорогой одежды и неизвестной горячей пищи; видели горничных, несущих блюда с едой или выносящих кофейные чашки; получали орехи, кексы, инжир, имбирные пряники, финики, леденцы и деньги; но ни разу мы не увидели своих благодетелей. Мы пели, как и у входа в господский дом, независимо от хозяина. Сквайр показался нам, только чтобы доказать, что он еще жив, но и его появления мы тоже, впрочем, совершенно не ожидали.
Вечер шел своим чередом, но тут у нас произошла неприятность с Бони. «Noel», например, пелся на поднимающемся тоне, и Бони настаивал на его исполнении, но пел гимн монотонно. Остальные запретили ему петь этот гимн вообще, тогда Бони бросился драться с нами. Поднявшись после потасовки, он согласился, что мы правы, и вдруг исчез. Он просто повернулся и ушел по заснеженной равнине, не отвечая на наши призывы вернуться. Много позже, когда мы уже дошли до конца долины, кто-то прикрикнул: «Слушайте!», и мы остановились, прислушиваясь. Издалека, из-за полей, со стороны уединенной деревушки, доносился слабый голос, распевающий «Noel», но поющий его плоско, в одной тональности – это был отколовшийся Бони, Бони сам по себе.
Мы подошли к своему последнему дому высоко на холме, к ферме Джозефа. Для него мы выбирали особый гимн, о другом Джозефе, так чтобы прочувствовать, как наше пение добавляет пикантности этому вечеру. Последний отрезок пути на подходе к его ферме был, вероятно, самым трудным из всех. Через ухабистые, пустые поляны, открытые всем ветрам, где зарывали овец и бросали ломаные повозки. Стараясь не отставать, мы шлепали след в след друг за другом. Снежную пыль забивало в глаза, под шарфы, многие свечки почти погасли, некоторые уже совсем задуло, мы говорили громко, стараясь перекричать ветер.
Перейдя, наконец, замерзший мельничный поток – до сих пор мельничное колесо летом вхолостую вращало механизм – мы взобрались к ферме Джозефа.
Укрытая за деревьями, теплая под одеялом из снега, она, казалось, всегда существовала именно в таком виде. Как и всегда, было уже поздно; как всегда, это был наш последний заход. Снег мягко переливался, а старые деревья сверкали, как мишура.
Мы сгруппировались вокруг крыльца. Небо очистилось, и широкий поток звезд хлынул на долину и дальше, на Уэльс на белых склонах Слэда, угадываемого за черными ветвями леса, в некоторых окнах еще горели красные лампочки.
Все было спокойно, вокруг стояла обморочная, потрескивающая тишина зимней ночи. Мы начали петь, нас самих захватили слова и внезапная слаженность собственных голосов. Чисто, очень ясно, сдерживая дыхание, мы пели:
Да, гимн ангелов спустился
К Джозефу в притихший сад:
Царь небес сейчас родился,
Радуйся Христосу, брат.
Появился он не в доме,
Не в усадьбе, не в дворце —
В хлеве, прямо на соломе,
Благостность в его лице.
И две тысячи лет Христианства стали реальностью для нас в этот момент; хижины, усадьбы, райские места – мы все посетили; звезды сверкали, чтобы вести Господина через снега. А на фермерском дворе мы слышали, как животные ворочаются в своих стойлах. Нам дали печеных яблок и горячих сладких пирожков, источающих для наших ноздрей запах мирры, а в нашей деревянной коробочке, когда мы направились домой, находилось довольно злата, чтобы одарить всех.
Лето, июньское лето, с зеленой кожей земли, когда весь мир раскрывается и бурлит, – как и зима, наступало внезапно и узнавалось вами утром, еще в постели, даже не успев как следует проснуться – по кукушкам и голубям, оглашающим лес с самого рассвета, по теньканью синиц в цветущих грушах.
На потолке спальни почти сквозь сон проступало пятно растекающегося солнечного света – отражение озера, отброшенное сквозь деревья быстро поднимающимся солнцем. Все еще в полусне я наблюдал на потолке над собою его перевернутое мерцающее изображение, видел каждое движение его сомнамбулических волн и проекцию жизни на его поверхности. Время от времени его пересекали разбегающиеся стрелки, запоздалые следы шотландских куропаточек; я видел рябь, возникающую вокруг каждого стебля камыша. Мельчайшая подробность жизни озера, казалось, отражалась тут. Затем внезапно вся картина разлеталась на осколки, разбивалась вдребезги, как зеркало, и, обезумев, рассыпалась на крохотные золотые шарики, неистово дрожащие. Я почти слышал сильное хлопанье крыльев по воде, образующее устойчивое крещендо, и вот поперек потолка проносились тени лебедей, уходящие в сонное утро. Я угадывал их крики над домом, наблюдая за хаосом света над собой. Потом все медленно восстанавливалось и собиралось в звездочки, снова образуя тихое изображение озера.
Вид лебедей, улетающих с потолка спальни, регулярно сопровождал пробуждения летом. Но вот я уже проснулся и, выглянув в открытое окно, увидел, как гонят коров, услышал крик петухов. Озеро обрамлял буковый лес, и казалось, долина приглашает к Королевской Охоте. Мы использовали буки для сбора листьев, и даже в июне их молодые, плотно сложенные листики служили прекрасным дополнением в салаты.
На улице едва ли кто-нибудь был способен припомнить, что существовали и другие времена года. Никогда вообще не случалось дождей, мороза, облачности; всегда было именно так. От земли по ночам поднималась волна тепла и разбивалась о подбородок. Сад, кружащий голову запахами и мельтешением пчел, горел горячими белыми цветами, причем каждый цветок ослеплял таким накалом, что становилось больно глазам.
Сельские жители воспринимали лето как род наказания. Особенно женщины никак не могли привыкнуть к нему. Ведра воды растекались по тропкам, пыль сбивалась в комья, одеяла и матрасы языками свисали из окон, тяжело дышащие собаки подползали к дождевым трубам. Какой-то прохожий раз пошутил: «Достаточно ли тепло для вас?», и ему устало ответили истерическим хохотом.
В конюшне строителя, мистера Брауна, хорошо защищенной от солнца, мы помогали его конюху. Мы впитывали жар раскаленной шкуры коня, звук перестука копыт, запах горячей упряжи и навоза. Мы кормили жеребца отрубями, сухими, как ветер пустыни, пока и мы, и конь не закашлялись. Мистер Браун собирался прокатиться с семьей, поэтому мы выкатили двуколку на дорогу, поставили коня в шорах между оглоблями и затянули позвякивающие постромки. Пустая дорога уходила вдаль под слоем пыли, казалось, в долине ничто не шелохнется. Вышел мистер Браун в сопровождении жены, дочери и штафирки-зятя, они взобрались друг за другом в высокую двуколку и расселись, ритуально выпрямившись под нашими взглядами.
– Куда едем, Папа?
– На вершину холма, за глотком воздуха.
– Конь упадет замертво.
– Помолчи, – прикрикнул мистер Браун, уже мокрый от пота. – Еще слово и отправишься домой.
Он передернул поводья, тронул коня хлыстом, и тот с места пошел рысью. Женщины подхватили шляпы при неожиданном рывке. Мы наблюдали за ними, пока они не скрылись из вида.
Когда они исчезли, смотреть больше стало не на что, деревня опять провалилась в тишину. Укатанная дорога, еще незнакомая с автомобилями, пробивалась вверх по долине. Она направлялась к другим деревням, которые тоже застыли, пустые, в жаре долгого летнего дня, ожидая какого-либо необычного зрелища.
Мы посидели у края дороги, пересыпая из руки в руку пыль, строя куличи в сточной канаве. Потом растянулись в траве и немного полежали на спине, глядя в пустое небо. Делать было нечего. Ничто не двигалось, ничего не происходило, кроме лета. Крохотные теплые ветерки обвевали наши лица, семена одуванчиков летали вокруг, запах иссушенной, прожаренной крапивы щипал ноздри, мешаясь с привычным ржавым запахом сухой земли. Июньской высоты трава перемешалась с рогозом. Спутанная масса разнотравья, украшенная цветами и колосьями дикой пшеницы, перевитая цепким горошком, звенела от трудолюбивых пчел и сверкала пурпуром бабочек. Лежа на спине и пожевывая травинку, под пологом травяного леса, мы не слышали ничего, кроме лета; кукушки подчеркивали расстояние до леса порциями своего «ку-ку», мухи жужжали так, что закладывало уши, и иногда на воздушной волне долетала болтовня косилок.
Наконец, мы двинулись с места. Мы отправились в магазин, купили шербета и долго сосали его по очереди со стеблями лакрицы. Если сосать несильно, шербет густо обволакивает язык, так что вы почти задыхаетесь от сладкой пудры; а если вы дунете в пакетик, то он взрывается и вы исчезаете в облаке сахарного бурана. Так, то посасывая, то дуя, кашляя и вытирая слезы, мы шли по лесной тропинке. Мы попили из ручья, чтобы прополоскать рот, поплескали водой друг в друга, устроили радугу. Пруд мистера Джонса кипел жизнью. Он весь зарос крупными белыми лилиями – они поднимались из листьев, как свечки, оплывали и снова возрождались на воде. Беззвучно врезались в воду шотландские куропатки, бегали малые поганки, скользили насекомые. Молодые лягушата прыгали за мухами, ящерки ловили кого-то в траве. Тропа хрустела от корки коровяка, запекшегося и уже не пахнущего.
В тростнике мы встретились с Шестипенсовиком-Робинсоном, и он предложил: «Пошли, повеселимся». Он жил в коттедже дальше по тропинке, как раз за поилкой для овец, около болота. В их семье было пятеро детей, две девочки и три мальчика, и все их имена начинались на С. Их звали Сис и Слопи, Стошер и Сэмми, и наш закадычный друг Сикспенс. Сис и Слопи обе были прехорошенькими и всегда прятались от нас, мальчишек, в крыжовнике. А мы играли с братьями: и Сэмми, калека, был одним из самых проворных парней в деревне.
Их место было прекрасно в любое время года, и с ними приятно было общаться. (Как и мы, они росли без отца; но, в отличие от нашего, их отец умер.) И сегодня, в едкой жаре их болота, мы уселись в кружок на поваленных стволах деревьев, свистели, строгали палочки, играли на губной гармошке, запруживали ручей и строили порты в прохладной глине берега. Потом нашли другую забаву – взяли на голубятне голубей и стали опускать их с головой в бочку с водой и держать до тех пор, пока из клюва не начинали идти пузыри, тогда мы подбрасывали их в воздух. Разбрасывая с крыльев капли, они облетали дом и снова, как последние дураки, возвращались на свои насесты. (У Шестипенсовика был одноглазый голубь по имени Спайк, и он часто хвастался нам, что Спайк может пробыть под водой дольше всех других голубей, но однажды бедолага, побив все рекорды, навсегда закончил карьеру на куче мусора.)
Когда эта игра нам надоела, мы вернулись на луг и поиграли в тени под деревьями в крикет. Сэмми со своей железной ногой всегда умудрялся побеждать. Вечерело, на деревьях расселись курицы и цесарки. Вдруг Сэмми подпрыгнул и бросился на нас, началась новая игра. Мы стали бороться, защищая свои ворота ценою собственной жизни. Обломки бит; крики в камышах; запах птиц и воды; нескончаемый день с высокими холмами вокруг нас, Слоппи, которая все еще наблюдала за нами из крыжовника – казалось, что несчастий просто не существует на свете, что ничто плохое не может коснуться нас. Это место принадлежало Сэмми и Шестипенсовику; место за поилкой для овец, укрытие, не нарушаемое взрослыми, где полуутопленные голуби взлетали, а калеки свободно бегали; где, в некотором роде, всегда стояло лето.
Лето также было временем: внезапного океана замедленного времени и действий, бриллиантовой дымки и пыли в глаза, долины в зеленой летней дремоте; немедленного закапывания мертвых птиц из-за быстрой порчи; тяжелого полуденного сна Матери; исполняющих настоящий джаз ос и стрекоз, стогов сена и липучек чертополоха, снежного облака белых бабочек, яиц жаворонков, орхидей и обезумевших насекомых; вывода в свет волчат и горнов бойскаутов; пота, бегущего по ногам; вареной на костре из ежевичных веток картошки, стеклянно-голубых вспышек на солнце; лежания голышом в холодном ручье; выпрашивания пенни на бутылочку шипучки; голых рук девочек и неспелой вишни, зеленых яблок и молочных орехов; драк, падений и свежеразбитых коленок, рыданий преследователей и преследуемых; пикников высоко в холмах, в осыпающихся каменоломнях, сливочного масла, текущего как растительное, солнечных ударов, лихорадок и прохладной огуречной шкурки, приклеенной на сгоревшее лицо. Все это, плюс ощущение, что лето никогда не кончится, что такие дни пришли навсегда – с высохшим насосом и кишащими живностью водяными бочками, с белой, как мел, землей, твердой, как луна. Все признаки в два раза ярче, все запахи в два раза острее, все дни для игр в два раза длиннее. В два раза активнее становились мы, как и муравьи на лугу. Замершее на небе солнце мы старались использовать до последней фиолетовой капельки, и даже тогда не могли еще спокойно отправиться спать.
Когда падала темнота и поднималась огромная луна, мы начинали вторую жизнь. Мальчишки, перекликаясь условными криками, носились вдоль дорог. Уолт Керри предпочитал чистый носовой тирольский йодль, а Бонни – крик шакала. Как только мы ловили их клич, мы вырывались из дома, из душных спален и ныряли в теплый, как солнечный, лунный свет, чтобы присоединиться к купающейся в лунном свете компании с белыми, как мел, лицами.
Игры при луне. Игры в преследование и пленение. Игры, которые требовали ночи. Самая лучшая, Лисы и Собаки – шла где угодно, вся долина годилась для охоты. Лисами выбирались два мальчика, которые уносились между деревьями, их немедленно поглощало переплетение теней. Мы давали им пять минут, затем бросались за ними. У них были церковный двор, фермы, конюшни, каменоломня, холмы и лес, чтобы выбрать направление. У них была целая ночь, и огромная луна, и пять миль простора, чтобы спрятаться…
Стараясь передвигаться тихо, мы бежали под плавящимися звездами, сквозь резко пахнущий лес, через светящиеся голубыми огнями поля, следуя строгому правилу игры – крику вопрос-ответ. Время от времени, запыхавшись, мы останавливались, чтобы глотнуть воздуха и проверить, где наша дичь. Настороженные головы вскинуты, зубы сверкают в лунном свете. «Ответьте-е-е! Или-мы-не-пойдем-дальше-е-е!» Крик подавался протяжно, на двух нотах. С другой стороны холма, над белыми туманными полями, возвращался слабый ответ лисы. Мы опять срывались сквозь разбуженную ночь, мимо бессонных сов и барсуков, а наша дичь в это время бесшумно скользила в другое место и найти ее было невозможно часами.
Около полуночи мы наконец выслеживали их, измотанных, где-нибудь под стогом сена… И до сих пор мы гоним их по всему миру, в джунглях, в болотах, в тундре, в пампасах, в колосящихся степях, на плато, где падают метеориты, когда зайцы занимаются любовью в серебряной траве и огромная, горячая луна плывет над ними, поднимая приливы в середине ночи – лето кружит там и сейчас.
Больной мальчик
Будучи ребенком, я хвастался редкой особенностью – тем, что был крещен дважды. Второй раз, который происходил в церкви, оказался не совсем приличным, мне было три года, я умудрился надерзить пастору и вырваться из святой воды. А мое первое помазание было намного более серьезным и произошло немедленно после моего появления на свет. Я пришел в этот мир сомневаясь, молча, хилым, крохотным, почти безжизненным комочком; и акушерка, взглянув на мое измученное личико, заявила, что я не протяну и дня. Все согласились, включая доктора, и остались возле матери, решив дождаться моей смерти.
Мать, однако, смирившись с потерей ребенка, твердо решила, что я должен попасть на небеса. Она хорошо помнила маленькие безымянные могилки, возникавшие без церковной церемонии, когда сразу же умерших младенцев – за спиной викария – тайно прятали среди банок с вареньем. Она заявила, что косточки ее сына должны лежать в освященной земле, а не гнить с бедными язычниками. Поэтому она призвала помощника приходского священника. Тот явился и объявил, что родился мальчик, крестил меня из чайной чашки, принял в лоно церкви и дал мне аж три имени, чтобы я мог спокойно умереть с ними.
Это суматошное крещение оказалось, однако, необязательным. Что-то – кто знает, что? – может быть, какое-то наследственное упрямство, благополучно провело меня через мой первый день. Многие месяцы я серьезно болел, был вялым, незаметным, одним из безнадежных долгов жизни, более или менее брошенным всеми. «Ты никогда не шевелился и не кричал, – рассказывала Мать. – Ты лежал там, где я тебя оставляла, как маленькая кукла, глядя в потолок целый день». В таком неподвижном полуобмороке я был просто куском плоти, едва дышащим пакетиком. Целый год я лежал пластом, не реагируя ни на кого, подходящим объектом для оформления в приют для детей-инвалидов – я переболел дифтерией, коклюшем, плевритом, двусторонней пневмонией, имел многократные кровотечения из легких. Мать наблюдала, но ничем не могла мне помочь, ждала, но мало надеясь. В те дни дети мерли, как цыплята, их болезни почти никто не понимал; семьи были большими, чтобы компенсировать потери; считалось нормальным, что четвертая часть малышей не выживает. Мой отец уже похоронил троих детей и был готов, что я последую за ними.
Но потихоньку, скрытно, поддерживаемый неизвестными силами, я уцепился за жизнь, хотя и довольно условно. С самой большой опасностью я столкнулся, когда мне было восемнадцать месяцев, на руках у миссис Мур, соседки. Мать лежала в постели, она рожала моего брата – в те дни нас всех рожали дома. Миссис Мур, негритянку, позвали на помощь, чтобы последила за детьми, приготовила им еду. Это было веселое, с выпуклыми глазами создание, похожее на колдунью. Она принялась заботиться о нас с примитивной небрежностью, и я зашел на второй круг пневмонии. Что произошло, мне рассказали, естественно, много позднее…
Кажется, братику Тому исполнилось как раз два дня, и Мать только начала приходить в себя. Одиннадцатилетняя Дороти поднялась в спальню навестить ее, немножко поиграла с младенчиком, погрызла печенье, потом уселась на подоконник и начала напевать песенку.
– Как вы там поживаете? – спросила Мать.
– Отлично, – ответила Дороти.
– Хорошо себя ведете?
– Да, мама.
– А что вы делаете?
– Ничего особенного.
– Где сейчас Марджори?
– Во дворе.
– А Филлис?
– Чистит картошку.
– А остальные?
– Харольд моет тележку. Джек с Френсис болтают на лестнице.
– А Лори?… Как Лори?
– А Лори умер.
– Что!
– Он совсем пожелтел. Они готовятся вынести его…
Издав один из своих отчаянных воплей, Мать выскочила из постели.
– Никто не имеет права ставить крест на нашем Лори!
Тяжело дыша, она поползла вниз по лестнице и, шатаясь, вошла на кухню: там я и лежал, вытянувшись на кухонном столе, желтый, точно такой, как описала Дороти. Энергичная, веселая миссис Мур обмывала мое тельце, будто готовила курицу к обеду.
– И что это вы себе позволяете? – закричала Мать.
– Бедный мальчик, он ушел, – проворковала негритянка. – Спасся у ангелов. Я решила обмыть его для гробика – не хотела беспокоить вас, мэм.
– Вы жестокая, бестолковая женщина! Наш Лори не умер, посмотрите, какой здоровый у него цвет кожи!
Мать сдернула меня со стола, завернула в одеяльце и понесла назад, в мою кроватку, ругая миссис Мур на все лады и вопрошая у святых, куда же они смотрели. Каким-то образом я умудрился выжить – хотя смерть была очень близка, это правда. Так легко было уступить холодному обтиранию миссис Мур. Только визит скучающей Дороти к матери спас меня.
Вскоре после этого умерла моя сестра Френсис. Красивый, хрупкий ребенок с темными кудряшками, единственная девочка у моей Матери. Ей было всего четыре года, но она ухаживала за мной, как сиделка, целые дни проводя около моей кроватки, разговаривая со мной на особом детском языке. Никто не заметил, что она сама умирает, слишком все были заняты мною. Она умерла внезапно, молча, не пожаловавшись, сидя на стульчике в углу. Этой смерти никто не предвидел, она не должна была случиться – я подозреваю, что Френсис отдала мне свою жизнь.
Но, наконец, ее похоронили. С тех пор не проходило дня, чтобы Мать не лила по ней слез. Мать стала также ревностнее относиться ко всем нам, более заботливо, стараясь, чтобы мы все выжили. Поэтому я вырос и перестал быть бледным, изнуренным мальчиком, но остался все равно больным, только по-другому. Я постоянно переходил от нормальной полноты – когда был равен по силе со своими сверстниками – к монотонному возврату болезни, к состоянию серого привидения, когда бросало то в жар, то в холод, а черты лица резко искажались. Когда я чувствовал себя хорошо, я мог постоять за себя, никто не жалел меня, потому что я не выглядел слабым. Но когда я бывал болен, я просто исчезал со сцены и неделями оставался вне поля зрения. Если лихорадка прихватывала меня летом, я лежал и потел в своей всегдашней постели, никогда до конца не зная, кто из нас не в порядке – я или сырое лето. Но зимой в спальне разводили огонь, и тогда я точно знал, что болен именно я. Ванна могла замерзнуть, со стен свисали сосульки – наши спальни никогда не отапливались; и разведение огня, особенно в комнате Матери, означало, что подкралась серьезная болезнь.
Как только я узнавал возвратное лицо моей болезни – руки летают, как пушинки, в голове все качается, легкие наполняются крутящимися колючками – первое, что я делал, вызывал привычные галлюцинации о своей Королевской миссии и посылал мысленные сообщения встревоженному миру. Проснувшись в лихорадке, я начинал думать о своих верных подданных, и их соучастие всегда дарило мне чувство комфорта. Сигналы, отбитые азбукой Морзе на спинке кровати, передавали сведения кратко и сурово. «Он болен». (Я представлял себе возникшую тревогу.) «Он сообщил Матери». (Некоторое облегчение.) «Он упорно борется». (Массовые молебны в церквях.) «Ему хуже». (Крики протеста на улицах.) Случалось, что я чуть не плакал при мысли о своем тревожащемся народе, о невидимых толпах, горестно собирающихся на улицах при вести об угрозе их Королю. С каким волнением они ждут каждого мрачного бюллетеня. Как они восхищаются моим мужественным поведением. Конечно, мне больно заставлять их так волноваться, но я повелеваю и им быть сильными. «Он не хочет никаких особых приготовлений. Только оркестры и танки. Парад или два. И, может быть, три минуты молчания».
Такие эмоции обычно занимали мое первое утро, при еще свежей лихорадке; но когда наступала ночь, я начинал бредить. Первыми сдавались руки-ноги, становясь похожими на бревна, и к тому же у меня, казалось, вырастала дюжина рук. Потом кровать теряла свои границы и превращалась в целую пустыню горячего, влажного песка. Я начинал разговаривать со второй головой, лежащей на подушке, моя собственная голова отодвигалась, давая ей место. Вторая голова никогда не отвечала, она просто лежала рядом, холодно ухмыляясь прямо мне в лицо. Потом приходила очередь стен: они начинали выгибаться, и зыбиться, и рычать, и размазываться, как паштет, таять, как сахар, и бежать потоками отвратительного цвета. Потом из стен и с потолка шли в наступление ряды неуловимых улыбок – легких, расслабляющих, сначала ничем не угрожающих, но продолжающихся уж слишком долго. Даже улыбка идиота в конце концов пропадает, но эти длились и длились в тишине, становясь все шире и холоднее, все менее добрыми, пока кровь не начинала реветь у меня в венах. То были улыбки Чеширского кота, без лица и форм, я ясно видел сквозь них комнату. Они висели надо мною, как некое пятно в воздухе, занавес улыбок в окружающем меня пространстве – улыбки без жалости, улыбки без любви, ухмыляющиеся улыбки неулыбчивого равнодушия; даже не улыбки незнакомцев, а улыбки, не принадлежащие никому, распространяющиеся в алмазной тишине, неустойчивые, знающие, продолжающиеся без конца… пока я не начинал кричать и биться о стенки кровати.
В ответ на мой крик стены рушились, как от удара молнии, и все снова становилось нормальным. Распахивалась кухонная дверь, по лестнице торопились чьи-то ноги, и в комнату врывались девочки. «Он снова видел эти лица», – шептались они. «Теперь все будет в порядке! – бодро заявляли они мне. – Ну, ну! Ты больше их не увидишь. Попей-ка вкусненькой лимонной водички». Они обтирали меня и поправляли мне постель. Я тихо лежал на спине, пока они суетились вокруг; но что я мог им объяснить? Что я не видел лиц – что я видел только улыбки? Однажды я попытался, но это никуда нас не привело.
Позднее, когда надо мною смыкались красные ночи, я был уже почти без сознания. Я слышал себя: как я пел, стонал, разговаривал, и звуки бегали по моему телу, как прикосновения рук. Кровь закипала, плоть плавилась, зубы стучали и лязгали, колени подтягивались к подбородку; я лежал в липком болоте из пота, который одновременно и тек по мне, и леденил. Моя рубашка, как дождевое облако, влажной примочкой облегала мое тело в гусиной коже, а поверху попеременно дули то раскаленный ветер из Африки, то арктический Борей. Все предметы в комнате снова становились расплывчатыми, и картины менялись по их желанию; вещи носились вокруг, самовольно меняли очертания, ужасно разрастаясь или удаляясь в бесконечную даль. Пламя свечи отбрасывало тени, которые укрывали все вокруг, как плащом – под ним исчезал то один предмет, то другой. Или свет взлетал в виде светящегося святого, который, хихикнув, вдруг опадал, образуя шар. Я слышал голоса, которые не умели контролировать сами себя – они или почти неслышно шептали, или внезапно выкрикивали какие-нибудь совершенно неожиданные слова, например, «Лопата!» или «Ослиные уши!», и затем звенело долгое эхо. Ощущение было такое, будто лошадь лягнула пианино.
Несомненно, именно я сам произносил эти непонятные слова, монолог иногда продолжался часами. Порой я нарочно отвечал, но в большинстве случаев тихо лежал и прислушивался, наблюдая, как темные трещины в комнате начинали куриться, напуская белые ночные кошмары… Такая ночь лихорадки замедляла бег времени, будто кто-то специально засовывал в часы салфетку. Я проскальзывал под поверхностью сна, как ныряет дельфин в тропических морях, но слышал сквозь толщу воды, как в сухом доме разносится эхо, следуя за изгибами глубинного сна. Затем я выныривал из своих глубин, из лет переживаний, из переплетений жизни и смерти, чтобы обнаружить, что мир не стал старше ни на минуту.
Между таким сном и бодрствованием я проживал десять поколений и слабел, пройдя столько. Но когда, наконец, вырывался из бесконечного бреда, реальный мир вдруг представлялся очень дорогим. Пока я спал, он очищался от лихорадки и пота, и теперь лелеял меня, как хрустальную вазу. Освеженный, я с удовольствием прислушивался к его самым слабым звукам: бегу ручья, шуму деревьев, трепету крыльев птиц, кашлю овец на холмах, стуку далекой калитки, дыханию лошади в поле. Из кухни подо мною доносилось уютное бормотание, прошуршали шаги на дороге, какой-то голос произнес: «Доброй ночи», скрипнула дверь, закрывшись, раздался громкий свист, звук прокатился в темноте и ему ответили издалека. Я лежал, растроганный до идиотизма этими дорогими звуками, как будто только что вернулся из мертвых. Но лихорадка возвращалась, как она всегда делала. Комната снова начинала свои шепотки и танцы, обгоревшая свечка вспыхивала последний раз, вздрогнув, я видел, как ее фитиль падал и гас… Темнота била меня наотмашь, разъедающая темнота, темнота, поглощающая, как закрытый короб, с потолка спускались черные светила и, улыбаясь, плыли прямо на меня. И опять я в ужасе тряс прутья кровати и громко кричал, призывая сестер и свет.