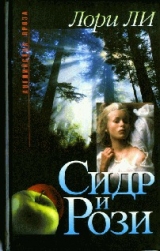
Текст книги "Сидр и Рози"
Автор книги: Лори Ли
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Мы провели на этой набережной больше времени, чем где-либо еще в Уэстоне. Затем прилив ушел, наступил вечер, и мы вернулись к ожидавшим нас автобусам. Усталые люди подходили со всех сторон, с мешками, полными моллюсков и морских водорослей. Могильщика едва оттащили от ям в песке. Нас проверили и пересчитали. Потом все расселись по местам, над нами натянули парусину, и, громко сигналя, мы отправились в обратный путь.
Длинная дорога домой, сквозь красный закат, по уже знакомым местам – машины пыхтят, маленькие дети спят, девчонки щелкают креветками. На закате мы остановились у освещенного паба, чтобы мужчины выпили по последней. Это продолжалось, пока они все не напились – вернулись с красными физиономиями и начали обнимать собственных жен. Потом мы снова расселись в автобусах, совсем сонные, и покатили сквозь темень через Бристоль. Вот показался последний дом: кто-то играл на гармошке; мы, мальчики-хористы, забрались на колени к женщинам, чтобы поспать, и уснули под раскачивание машины, печальное пение мотора и густой храп мужчин.
Наконец, проехали Строуд и выбрались на дорогу, идущую вдоль долины, где, хоть и в полудреме, наши тела узнавали каждый поворот, где каждый склон был нам знаком, но, уловив запах своих домов, мы начали просыпаться. Мы прибыли домой, нас встречали с фонарями – поездка окончена. С еле слышным «спокойной ночи», мы разбивались на семьи, а потом разбредались по постелям. Вскоре я уже лежал, голова гудела от желания спать, в ушах ревели моторы и органы, в закрытых глазах застыл отпечатавшийся образ дня – песок, и красная конфета, и палач…
Сбор во славу приходской церкви и Ежегодное Чаепитие – это зимнее событие в деревне. Прием проводился в школьном зале, в канун Двенадцатой ночи, его посещение стоило один шиллинг. Чай превращался в оргию коллективного обжорства, в которой каждый старался съесть больше, чем на вложенную сумму, а помощники съедали больше, чем участники. Вечер, который следовал затем и проводился по домашним заготовкам, при искусственном освещении, обеспечивал нас достаточным количеством расхожих фраз на целый год.
Перед вечером, регулярно, в течение нескольких недель, на нашей кухне наблюдалась одна и та же сцена – сестры, сидя в разных углах, бубнят себе что-то под нос, улыбаясь, кивая, делая непонятные жесты с сосредоточенным видом отрешенного от мира сумасшедшего. Это они репетировали свои речи для Чаепития. Я тоже считал, что абсолютно недопустимо не выучить их наизусть, поэтому, в течение многих ночей меня преследовали кошмары – три монолога, с одними вопросами без ответов.
В день Праздника мы с утра начинали готовить школу. Из подмостков и досок мы сооружали сцену. Мистер Робинсон нарезал ветчину в гардеробе, он сидел там безвылазно последние три дня, а три хохотушки-помощницы в назначенный день нацепляли мясо на вилки и укладывали его в сэндвичи. Снаружи, во дворе, прибывший Джон Бараклоу устанавливал свою старенькую походную кухню, ломал о колено шесть жердей и наполнял котел водой. На каменной стенке выставлялось тридцать пять свежевымытых чайников для просушки на ветерке. В самый день праздника, когда подготовка шла полным ходом, мы с Джеком носили стулья, помогали устраивать сцену, таскали воду из ручья, в общем, делали все, чтобы нас заметили и выдали бесплатные билеты.
Точно в шесть, когда пиршество было подготовлено, мы возвратились к освещенной школе. Со всех сторон к школе уже стекались жители деревни с фонарями в руках. Мы слышали, как в котле у Бараклоу закипала вода, улавливали сладкий запах дерева от его печки, видели его красное лицо, загорающееся, как круглый фонарь, когда он наклонялся, чтобы поправить пламя.
Мы выстроились на холоде, не замечая его, ожидая, пока откроются двери. Когда двери распахнулись, завертелся водоворот из подбородков, ботинок, локтей – никакой очереди, каждый бился за возможность войти. Освещение и декорации превратили школьное помещение из тюрьмы в банкетный зал. Длинные козлы – столы заставлены едой; воздушные кексы, румяные булочки, сэндвичи. Ревут две печки, парит кокс. Помощники заваривают чай. Мы сидим, окаменев, уставившись на еду; взвинченные, покашливаем в ожидании…
Занавес сцены раздвигается, и перед нами предстает Сквайр, в мантии и в охотничьей войлочной шляпе. Он обводит тусклыми, мокрыми глазами переполненный зал, вздыхает и поворачивается, чтобы уйти. Ему что-то шепчут из-за занавеса; «Благословите меня!» – просит Сквайр и возвращается.
– Сбор во славу приходской церкви! – начинает он и останавливается. – Он снова с нами… Я полагаю. И вечер. Еще год! Прошел еще год!.. Когда я вижу вас всех, собравшихся вместе здесь – снова – когда я вижу – когда я думаю… И вы все здесь! Когда я вижу вас здесь – а я уверен, что вы все здесь – снова… Мне приходит в голову, друзья! – как время – как вы – как все мы здесь – как и было… – Его усы дрожат, по щекам бегут слезы, он с трудом доходит до занавеса и уезжает.
Его место занимает белый, как лунь, викарий, который для начала одаривает нас всех слабой, сияющей улыбкой.
– Какое место самое узкое в мире? – спрашивает он.
– Игольное ушко! – хором выдыхаем мы, без колебаний.
– А самое просторное, позволю себе спросить?
– Место для САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
– Так помните это, – ворчит он сердито.
Взяв себя в руки, он складывает руки: «А теперь, о, Отец, от щедрот твоих…»
Мы отбарабанили молитву, и наши руки метнулись к еде. Мы ели все подряд, в любом порядке. Кексы, булочки, сэндвичи – не имело значения что. Мы работали, идя от одной тарелки к другой. Народ, стоящий у печки, модернизировал сэндвичи, кто-то сообразительный жарил ветчину на плите, дымящиеся коричневые чайники сновали туда-сюда, все были настолько заняты, что не оставалось места для разговоров. Сквозь освещенные окна мы видели, что идет снег – огромные хлопья на фоне темного неба. «Старушка Хоукинс ощипывает гусей!» – объяснил кто-то; отличная примета. Двенадцатая ночь и мамаша Хоукинс за работой там, на небе, вместе со своими гусями. Мы распускали пояса, кивая друг другу; год обещал быть щедрым.
Столы завалены горами объедков – кусками кексов и остатками мяса; кое-какие руки еще шарят в тарелках с едой, но ясно уже, что все сыты. Снова поднялся викарий, мы опять поблагодарили Господа. «А теперь, друзья, подошел – э – момент праздника для души. Если бы вы соблаговолили – э – выйти глотнуть воздуха, желающие уберут холл и подготовят все к – хм – Вечеру…»
Мы столпились снаружи и переминались в снегу, пока не убрали столы. Внутри, за занавесом, гримировались актеры – и мое выступление тоже приближалось. Кружился снег, но я начал потеть, мне хотелось сбежать домой. Двери распахнулись снова, и я прилип к печке, дрожа и стуча зубами от нервного напряжения. Занавес раздвинулся, вечер начался с выступления комика, которого я и не видел, и не слышал…
«Следующим номером, леди и джентльмены, у нас инструментальный дуэт мисс Браун и – э – молодого Лори Ли».
Улыбаясь от ужаса, я пошел к сцене. Лицо Эйлин было белое, как нота половинка. Она села за пианино, криво положив ноты, я попытался их поправить, они упали на пол. Я нагнулся, чтобы поднять их; мы с Эйлин посмотрели друг на друга с ненавистью; аудитория хранила мертвое молчание. Эйлин попыталась дать мне «до», но вместо «до» нажала «ре», я ощетинился, как дикобраз. Наконец, мы были готовы, я поднял скрипку, и Эйлин понеслась, как норовистая лошадь. Я поймал ее где-то в середине вещи – мне казалось, что это должна была быть колыбельная, – и мы доиграли вместе до конца, а потом повторили два раза в том же бешеном темпе, а потом резко остановились, заледенев, не шевелясь, выдохшись.
Раздались тяжелый топот, свист и крики: «Давай еще!» Мы с Эйлин не обменялись даже взглядом, но теперь мы любили друг друга. Мы нашли ноты «Денни бой» и выплеснули все свои эмоции, летая в экстазе по благодарным аккордам и проскакивая высокие места; тут аудитория присоединилась к нам, включив натренированные на гимнах голоса, выказывая этим величайшее к нам уважение. Когда песня закончилась, я вернулся на свое место у печи, ощущая спокойствие и приятность во всем теле. Мать Эйлин рыдала в шляпку, то же самое творилось и с моей мамой, я думаю…
Теперь я был свободен, превратившись в частичку аудитории, и Вечер раскрылся передо мною. То, что мне раньше казалось издевательствами демонов, теперь превратилось в демонстрацию человеческого гения. Номер следовал за номером, очень разные, но все отличные. Мистер Кросби, органист, рассказывал анекдоты и смешные истории так, будто сама его жизнь зависела от них – дрожа от возбуждения, потея, не делая пауз для смеха публики, скосив глаза за кулисы, куда мечтал спастись. Нам он, однако, нравился, и мы не давали ему уйти. Он все больше и больше впадал в истеричное состояние, тараторя монологи, выплескивая песенки о козявках, подпрыгивая, гримасничая и мечась по всей сцене, будто старался развеселить племя дикарей.
Майор Доветон шел следующим номером, выступая с банджо, которое имело еще более жесткий звук, чем моя скрипка. Он уселся на стул и начал борьбу со струнами, ругаясь на чем свет стоит по-английски и на хинди. Затем все струны лопнули, и он, сердито ворча, покинул сцену и принялся гонять банджо ногой по всей раздевалке. За ним шла пьеса, в которой Марджори в роли Золушки сидела в лохмотьях в замке. Ожидая, пока тыква превратится в карету, она пела «Одна-одинешенька у телефона».
Потом следовали две баллады, миссис Пимбури, вдова, спела их удивительно нежно. Первая приглашала нас поехать с нею в Канаду; вторая адресовалась грибам:
Растите! Растите! Растите,
малютки-грибочки скорей!
Я вас приготовлю на мой юбилей.
За вами приду завтра утром —
Ах – ах!
Коль станете больше – поступите мудро!
Растите! Растите! Растите скорей!
Хотя мы никогда не слышали этой песенки раньше, скоро она стала частью нашего духовного наследия, как и песня следующей леди. Эта последняя – Баронесса фон Ходенбург – завершила вечер почти на профессиональном уровне. Она была приглашенной звездой из Шипскомба и выглядела сногсшибательно в облаке таинственности настоящего искусства. На ней было просторное зеленое платье, как у больных в госпитале, а ее длинные волосы позаимствовали цвет у красного дерева. «Она сама пишет, – прошептала Мать, – поэмы и рассказы, представляешь?»
– Я хотель спеть вам, – объявила леди, – маленькая баллада, я их сочинять сама. И слова, и музик. Можно сказать, они моя – они написан для ваша долина.
С этими словами она села, выпрямив прекрасную спину, подняла руки в браслетах над клавиатурой, пробежалась для начала по ней пальцами, изобразила трель и запела. В голосе ее звенел смех:
К нам пришли эльфы из-за холма,
пришли и танцуют повсюду!
Ноты несите, что сводят с ума —
Ноги стоять не будут!
Флейты и трубы тащите скорей —
По сердцу простому люду
Танцы озер, лесов и полей!
Жизнь – бесконечное чудо!
Хей-хей!
Сначала мы решили, что эта песенка уж слишком слащавая, но она запомнилась сразу и навсегда. И потом, когда бы мы не встретили Баронессу на узенькой дорожке, мы начинали мурлыкать эту мелодию. Она же при этом обычно останавливалась, вскидывала головку и мечтательно улыбалась.
Вечер завершился запуском хлопушек; огрубевшие сельчане превратились в малых детей. Парни переоделись девушками. Простой глочестерский народ разделился на джентльменов и деревенщин, причем деревенщинам явно было веселее. Мы просто бесились от радости, даже устроили соревнования по толканию, стоя на стульях; но мы понимали, что конец все ближе. Поднялся викарий, предложил пропеть хором Благодарение и сообщил, что у калитки будут раздавать апельсины. Грянул Национальный гимн, все стали откашливаться, а затем устремились на улицу, в снегопад.
Дома сестры долго обсуждали свои номера, пока по носам не заструились слезы умиления. А для нас, мальчиков, закончилось еще не все; осталось еще завтра; остался еще один незавершенный момент. Завтра, очень рано, мы вернемся в школу, найдем корзины с недоеденным угощением – надкушенные и брошенные булочки, куски ветчины, облепленные крошками кексы – и дружно все прикончим.
Первый укус яблока
Джо всегда была такой тихоней, такой робкой, но готовой угодить любому девочкой, что именно ее я и выбрал первой. Рядом были, конечно же, и другие, много бойчее и гораздо более подходящие, но именно прохладное лицо Джо, волна зачесанных назад волос, хрупкое тело и молчаливая грация создавали секретную прелесть, необходимую мне. Поэтому, не подозревая того, она стала маяком, путеводным светом, за которым я пошел в те гроты, в чьих тенях я вдруг обнаружил себя блуждающим.
Обычно я перехватывал ее по дороге домой со школы и ловко отрезал ее от остальных, завороженный дразнящим позваниванием медных браслетиков. Сколько мне было – одиннадцать или двенадцать? Не помню – но она была младше. Она легко улыбалась мне через канаву.
– Да так, никуда.
– О!
Все было в порядке, пока она стояла и не уходила.
– Тогда пойдем на берег. Пошли? А?
Ответа нет, но и нет попытки сбежать.
– На берег. Как вчера. Согласна, Джо?
Все еще ни ответа, ни жеста, ни взгляда. Она даже не прекращает покручивать браслетики, но, все-таки, направляется к берегу. Переступая на цыпочках через муравьиные кучи, идя только вперед, рядом и молча, она делает вид, что не понимает, зачем она идет, просто идет со мной, и все.
Под тисами с тяжелой листвой мы важно усаживаемся. Старые деревья с красными стволами построили над нами арки, устроив туннели ржавой темени. Джо неподвижна, как росток тиса; она не смотрит ни на меня, ни куда-нибудь в сторону. Я оперся на локоть, кинул камень в дерево и послушал, как тот скачет от ветки к ветке.
– Что будем делать, Джо? – спрашиваю я.
Она, как и всегда, не отвечает.
– Мне все равно.
– Ну давай же – предлагай ты.
– Нет, ты.
Предложение всегда должно было исходить от меня. Она ждала, чтобы я сделал его. Она ждала, замерев, устремив взгляд прямо перед собой, мягко перебирая травинки.
– Доброе утро, миссис Дженкинс, – весело произношу я. – У вас какие-то неприятности?
Не моргнув, не произнеся ни слова, Джо ложилась на траву, уставившись вверх, на тис, усыпанный красными ягодами, красиво вытягивалась на примятой земляной постели, слегка оцарапав икру о сучок, и замирала. Игра велась по четким правилам, серьезно, рисунок ее соблюдался строго. Медленно, так же тихо, как лежала она, начинали двигаться мои руки, даже птицы не прекращали петь.
Ее тело было бледным и казалось молочно-зеленым на фоне яркой травы. Оно напоминало блестящий, в прожилках, слегка изогнутый березовый листик, лежащий на воде и светящийся изнутри. Это уже была не Джо, но кто-то совершенно незнакомый, с лабиринтом обнаженных уголков, более гладких, чем поверхность свечки, нечто, упавшее с Луны. Время шло, но прохладные конечности не шевелились, не двигались ни в мою сторону, ни от меня; она свивала колечки из травинок вокруг пальца и слепо смотрела мимо моих глаз. Склоняющееся солнце задевало острые кончики травы, ложилось тигриными полосками на ее ложбинки, обвивало ее тело малиновыми лентами, свет медленно двигался по ее телу.
Время и дом пропадали где-то вдали. Мы исчезали для мира в ловушке из корней деревьев. С мокрыми от росы коленками я осмысливал в тишине все, чему покорность Джо учила меня. Она начинала слегка дрожать и потирать руки. В кусте рядом вдруг вскрикивал дрозд.
– Отлично, на сегодня все, миссис Дженкинс, – заявлял я. – Завтра я приду снова.
Я поднимался с колен, садился на невидимую лошадь и мчался галопом на ужин. Тем временем Джо медленно одевалась и еще медленнее шла домой, одна между расступающимися деревьями.
Конечно, в конце концов нас накрыли; а мы, должно быть, считали себя невидимыми. «Что это, парень? Ты и Джо – прошлым вечером? Ну как же! Мы видели вас. Да! Да!» Два пастуха остановили меня на дороге. Я все отрицал, но не удивился. Рано или поздно, но тебя обязательно поймают. Происшествие с готовностью забыли; очень мало что в деревне считалось действительно секретным или шокирующим, мы только повторяли себя. Такие ранние сексуальные игры являлись лишь формальной репетицией, развлечением безрогих телят; но нам действительно здорово повезло, что мы жили в деревне, в обстановке, которая открыто демонстрировала естественные проявления, мы их лишь имитировали наилучшим доступным нам образом – если бы кто-нибудь увидел нас вблизи, он бы лопнул от смеха – и не существовало еще полиции нравов, чтобы заклеймить нас, как распутных.
Это преимущество использовалось и молодыми, и взрослыми, и являлось тем благом, которое городу было недоступно. Мы знали, что мы испорченные, как и любое сообщество нашего размера – как любая Лондонская улица, например. Но зато не было сплетен, и никто не бил в колокола; с правонарушителями справлялись при помощи общественного мнения, обструкции, насмешек или прозвищ. Но вот от чего нас тщательно оберегали – потому что деревня защищала себя – так это от холодного занесения преступлений плоти в обвинительный протокол, от сомнительного ареста, от полицейского расследования, от регистрации в магистрате.
Что касалось нас, мальчиков, совершенно точно, что большинство из нас, на той или иной стадии взросления, попали бы под действующий закон, и очень мало кто пошел бы в реформированную школу. Вместо этого нас выпустили – неучами, это правда, но зато не занесенными в криминальные списки. Ни более жестокие, ни более мягкие, чем мальчишки из Баттерси, мы были просто меньше обложены законами. Будучи пойманными на месте преступления, мы мгновенно получали взбучку; и кулак фермера, у которого мы стащили несколько штук яблок или яиц, казался нам гораздо более естественным и справедливым, чем любая бездушная нотация полицейского, который лишь пополнит статистические данные в журнале. Увеличивалось не количество преступлений, а количество их регистраций. Современный город для молодежи – это полицейская ловушка.
Наша деревня, совершенно точно, не была языческим раем, и мы не были сверхсознательными, не демонстрировали чудеса терпимости. Это просто был образ жизни. Мы, конечно, выполняли свою долю нарушений закона. Убийства, поджоги, кражи, изнасилования устойчиво накапливались с течением лет. Тихие кровосмешения процветали там, где были плохие дороги; некоторые предпочитали утешаться с животными; и, конечно, имела место дружба между мужчинами и мальчиками. Такие пары порой встречались в полях, где они гуляли, как любовники. Пьянство, скотство и разъедающая скука – вот причины большинства преступлений. Деревня не одобряла и не осуждала никого, и никогда не доносила властям. Иногда провинившимся задавали чертей, издевались и позорили, но их проступки поглощала местная среда, и их наказание ограничивалось рамками прихода.
Поэтому, когда, в свой час, я ощутил первый слабый мускусный запах сексуальности, моей проблемой стал не вопрос виновности и не вопрос сокрытия, а только вопрос проникновения в проблему. Раннее исследование распростертого тела Джо было изучением карт в одиночку. Ориентиры ее тела открыли путь, по которому нужно идти, потом их сложили и отставили в сторону. Вскоре я встретился в пути с другими путешественниками. Все мы шли в одном направлении. Естественно, они приняли меня, мальчики и девочки моих лет, и мы вместе вступили в мудреный лес чувственности. Дневной свет и полное отсутствие стыдливости освещали наши действия. Берег и кустарник были нашими артистическими уборными, и первоначально нас вело любопытство. Мы были неловкими, импульсивными, но никогда и ничего не делали исподтишка, защищенные тем, что знали друг друга много лет. И все мы находились в том зеленом возрасте, который не позволяет делать ничего дурного из-за полной пока неинформированности. Абсолютно невинные, мы были ненамного более реалистичны, чем мимы в своем искусстве.
Девочки играли свою роль приглашающих и демонстрирующих и были гораздо более уверены в себе, чем мы. Они чувствовали, что наконец вошли в свой возраст. Внезапно они не стали уже созданиями, которым приказывают, не стали одинаковыми с мальчиками, как они временно были; они превратились в обладательниц и понимали, что знают ключ к секретам, даже более важным, чем мы могли себе вообразить. Они стали томными и трудными в обращении – но далеко не невозможными. Стеснительную, молчаливую Джо едва ли теперь можно было принимать в расчет по сравнению с вызывающими Рози и Бет. Бет была просто бесстыжей, а Рози – провокаторшей, и вместе они вызывали нас на поступки. Бет, довольно крупная для своих одиннадцати лет девочка, была вечно растрепанной блондинкой с сонными, дерзкими глазами. «У девушек есть темно-красные выделения, – объясняла она. – Если хотите, покажу». (Про темно-красные выделения она, вероятно, услышала в церкви.) Рози, более хитрая и лицемерная, имела уже налет испорченности; она водила меня гулять вокруг амбаров и птичников и часто оставляла дрожащим, в огне. Что следует делать – и с Рози, и с Бет – требовало значительного времени для выяснения.
Мне постоянно казалось, что меня опустили в кипящее масло, сварили, высушили и повесили болтаться на веревке. Таинственные чувства включались в действие на всю ночь и цвели пышным цветом. Тело выбрасывало из всех знакомых состояний по очереди, пока оно пыталось найти баланс сил. Это было время, когда оно молило о прохладной воде и огурцах, когда эмоции мощно перекатывались между животом и руками, мучительные, сжигающие голодом, затягивающие тяжелыми облаками; а когда ты падал лицом вниз на летнем лугу, то ощущал, что страстность земли пронизывает тебя. Внезапно мы с братом Джеком стали гораздо активнее, мы куда-то постоянно бежали или взлетали на деревья, пытаясь умотаться до полного изнеможения, хотя до того мы, скорее, были склонны к лености. Нельзя сказать, что мы совсем не понимали, что с нами происходит, мы только не знали, что с этим делать. И я мог бы до сего дня лазить по деревьям, если бы не Рози Бардок…
День, когда Рози Бардок решила взять меня в свои руки, был обычным, неподвижным, мутным от жары, янтарно окрашенным летним днем, с застывшими в тяжелом солнечном свете березами, будто облитыми жидким медом. То было время заготовки сена, поэтому, выйдя из школы, мы с Джеком отправились поработать на ферму.
Нас встретило жужжание косилок на покосе, кролики прыгали по полям, как шутихи, остро и сладко пахло сено. Все работники трудились, не разгибая спины, сгребая, переворачивая, загружая сено. Высокие, усатые парни с ежевичными зарослями на груди косили траву. Воздух колебался от взмахов вил, кипы, как крылатые, орлами взлетали на верх повозок. Фермер дал нам короткие вилы и мы принялись кидать сено с остальными…
Я прижал Рози к стогу, она ухмыльнулась и сверкнула озорными глазами своей матери. На ней было клетчатое платье и дешевенькое бронзовое ожерелье, голые ноги золотились от сенной пыли.
– Пошли отсюда, – предложил я. – Давай?
Рози уже стала взрослой, крепкой девушкой – она вселяла в меня страх. В ее кошачьих глазах и изогнутых губах я угадывал неестественную мудрость, пугающую гораздо больше всего, что я мог вообразить. Когда мы встретились недавно на улице, я кинул в нее капустной кочерыжкой. Но она меня не обругала, лишь ухмыльнулась.
– У меня есть что показать тебе.
– Дразнишься, – ответил я.
Внезапно я почувствовал сухость во рту и покрылся раскаленно-ледяным потом. Ее глаза сверкнули, а я застыл, будто врос в землю. Лицо Рози укутывала пульсирующая дымка, а тело казалось мерцающим и испускающим молнии.
– Мучает жажда? – спросила она.
– Не, так просто.
– Ладно, – сказала она. – Пошли.
И я воткнул вилы в звенящую землю и поплелся за нею, как приговоренный.
Мы долго шли до дальнего конца поля, где стояла полунагруженная повозка. Гирлянды плохо уложенной травы свешивались, как занавес, с ее краев. Мы вползли под повозку, между колесами, в пахнущую травами темную пещеру. Рози разгребла траву, нашла мешок и вытащила из него каменный кувшин с сидром.
– Это сидр, – объяснила она. – Но тебе его вредно пить, во всяком случае, много.
Огромный и толстый, кувшин возлежал на траве, как неразорвавшаяся бомба. Мы приподняли его, отвинтили пробку и понюхали вырвавшееся облачко, пахнущее перебродившими яблоками. Я поднял кувшин ко рту и скосил глаза, как делает скотина на водопое. «Давай!» – приказала Рози. Я сделал глубокий вдох…
Никогда не будут забыты тот первый тайный глоток золотого огня, сок тех долин и того времени, вино из диких орхидей, красно-коричневое лето, круглые красные яблоки и горящие щеки Рози. Никогда не будут забыты, и никогда не отведать их вновь…
Сделав большой глоток, я поставил кувшин, едва дыша. Потом я обернулся, чтобы взглянуть на Рози. Она была желтой, в пыльце от лютиков, и, казалось, мурлыкала в полумраке; ее густые волосы были похожи на осиное гнездо, а взгляд жалил. Я не знал ни что с ней нужно делать, ни чего нельзя делать. Она выглядела шелковистой драгоценностью, вещью нереальной, непостижимой и опасной, как зыбучий песок.
– Рози… – прошептал я, стоя на коленях. Меня била дрожь.
Она быстро подползла ко мне, шелестя травой, потрясающе уверенная в себе. Ее рука в моей горела, как маленький влажный костер, который я не в силах был ни держать, ни отбросить. Затем Рози, с бесстыдной, пронзительной силой сорвала меня с трясущихся колен и потянула вниз, вниз, прямо в свою широкую зеленую улыбку и в жуткую подводную глубину.
Потом я мало что помню, да и это малое совсем смутно. В голове выбивали дробь барабаны. Рози крупным планом рядом, соленая от пота, невидимое прикосновение, слишком близкое, чтобы что-то разглядеть или оценить. И казалось, что повозка, под которой мы лежали, отправилась в далекое плавание, как барк, над всей долиной, а мы, невидимые, качались, взлетая, на неподвижных потоках.
Потом она сняла ботинки и набила их цветами. То же самое она сделала и с моими. Ее охрипший голос потрескивал, как пламя, у меня в ушах. Взметнулось еще больше огня. Я отхлебнул еще сидра. Рози рассказывала мне неистовые фантазии. Я ей нравлюсь, говорила она, больше, чем Уолт или Кен, Бони Харрис или даже помощник священника. А я признался ей громким, грубым голосом, что она красивее даже Бетти Глид. Очень долго мы сидели, сдвинув головы, дыша одним раскаленным воздухом. Поцеловались мы только один раз, сухо и застенчиво, будто два листика столкнулись в воздухе.
Наконец, замолчали кукушки, скользнули в глубину леса. Косцы ушли домой, оставив нас. Я слышал, как Джек звал меня, уходя по тропинке, я слышал, как он выкрикивает мое имя, пока голос не пропал вдалеке. А мы все лежали в травяной колыбели, держась за руки. Ее сиплый, отчаянный шепот одурманивал меня, а сидр гонгом гремел в голове…
Когда наступил вечер, мы вылезли из-под повозки. Светлячки сверкали в траве, жара дня смягчилась. Я чувствовал себя великаном; я раскачивался на ветвях деревьев, погружал руки в крапиву, просто чтобы показать себя ей. Что бы я ни делал, все казалось дерзким и легко осуществимым. Рози несла свои ботинки и тихо улыбалась.
Что-то было в этом вечере, что будоражит память даже сейчас. Длинные холмы растянулись, как китайские драконы, пурпурные в свете заходящего солнца. Вьющаяся тропинка связывала ноги, стараясь уронить меня. А озеро, когда мы проходили мимо него, взметнуло свои шипящие волны и попыталось утащить нас в мир рыб-каннибалов.
Вероятно, я не раз падал – хотя и не помню этого. Но где-то я окончательно потерял Рози. Я обнаружил вдруг, что иду домой один, мокрый, во власти чар. Я открыл необыкновенные трюки зрения. Я мог, оказывается, заставить деревья двигаться и играть в чехарду друг с другом, а кусты – превращаться в ревущие поезда. Я мог лизать звездочки – кислые капельки, и мог падать ничком без боли. Я чувствовал себя замечательно – пророком и, впервые в жизни, неуязвимым к опасностям ночи.
Когда наконец я добрался до дома, мокрый, как мышь, меня распирало от мощи и радости. Я уселся на колоду для рубки дров и пропел «Неистовый порыв бури», а потом еще несколько гимнов такого же содержания. Я продолжал петь еще долго после того, как прошло время ужина – разряжался один в темноте. Потом вышли Харольд с Джеком и за руки за ноги утащили меня в кровать. Таким мне больше не довелось быть никогда…
Примерно год спустя, в лесу Брит, имело место быть изнасилование. Если можно так сказать, что оно имело место. К этому времени меня только что приняли в банду, которая бушевала на лесных тропах, устраивала драки, сражения – без особых целей – опасные, провоцируемые нашей силой и скукой. Конечно, что-то подобное обязательно должно было случиться, и оно произошло в воскресенье.
Мы планировали изнасилование неделей раньше, в конюшне строителя. Густой воздух конюшни, насыщенный запахом гниющей соломы, острым запахом пропитанных мочой полов и немытой темноты, создавал необходимую нам атмосферу. Мы регулярно встречались там, чтобы играть в карты, тренировать приемы, учиться свистеть, болтать о девчонках.
В то утро нас собралось с полдюжины, включая Уолта Керри, Билла Шеферда, Шестипенсовика, Бони и Клерджи Грина. Снаружи долина, видная сквозь открытую дверь, омывалась апрельским дождем. Мы уселись в кружок на перевернутых ведрах, перебирая ремни упряжи. Внезапно, и совершенно неожиданно, Билл Шеферд выступил с предложением.
– Эй, – сказал он. – Послушайте. Есть идея…
Он понизил голос до нервного шепота и заставил нас сдвинуть головы.
– Знаете Лиззи Беркли, а? – спросил он. Сильный, ловкий парень с пухлым лицом, он имел постоянно рыщущий, за что бы уцепиться, взгляд. – Она подойдет, – заявил он. – Она чокнутая. С ней все будет в порядке, уверен.
Мы обсудили кандидатуру Лиззи. Действительно, она сдвинулась на почве религии. Приземистая, толстая шестнадцатилетняя девушка с большими, васильковыми глазами, она обычно ходила через лес Брит с набором цветных карандашей, чтобы писать на белых стволах берез отрывки из библейских текстов. Огромные, разноцветные буквы на гладкой коре кричали: «ИИСУС ЛЮБИТ МЕНЯ ТЕПЕРЬ».
– Я видел ее в воскресенье, – сказал Уолт, – она была там.
– Она всегда там по воскресеньям, – подтвердил Бони.
– Иерусалим! – воскликнул Клерджи, как всегда, громовым голосом.
– Ну так что? – спросил Билл.
Мы сдвинулись еще теснее, подальше от ушей лошади. Билл обвел нас круглыми красными глазами.
– Дело обстоит так. Все очень просто. – Мы слушали, затаив дыхание. – После утренней воскресной службы мы удираем в лес. И когда она пойдет из церкви домой, мы ее перехватим.








