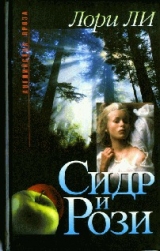
Текст книги "Сидр и Рози"
Автор книги: Лори Ли
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Первый свет
В возрасте трех лет меня ссадили с повозки на землю, и с этого момента ведут начало мои непонимание и страх перед жизнью в деревне.
Июньская трава, в которую меня поставили, оказалась выше меня, и я заревел. Никогда прежде трава не находилась ко мне так близко. Она вздымалась надо мною и повсюду вокруг, каждый клинок переливался солнечными полосками, будто тигровая шкура. С острыми краями, темная, ядовито-зеленая, густая, как лес, и живая из-за кузнечиков. Они стрекотали, трещали и летали в воздухе, как обезьяны.
Я потерялся и не знал, куда идти. От земли тянуло тропической жарой, запахом корней и крапивы. Снежные облака позднего цветения нависали надо мною, я тонул в их лепестках, задыхался в сладком, головокружительном, удушающем аромате. Высоко в небе висели жаворонки, их крики напоминали звук рвущейся ткани, будто рвали само небо.
Впервые в жизни я оказался вдали от людских глаз. Впервые в жизни я остался один в мире, поведение которого невозможно было ни предвидеть, ни понять: птицы тут пронзительно кричат, растения тут отвратительно пахнут, насекомые тут прыгают без предупреждения. Меня потеряли, и я уже не надеялся, что найдут снова. Я закинул голову и взвыл, а солнце резко било прямо в лицо, как настоящий хулиган.
От этого светового кошмара, как и от множества других до того, меня избавило появление сестер. Они карабкались, перекликаясь, по обрывистому, каменистому берегу реки и вдруг наверху, раздвинув траву, обнаружили меня. Румяные рожицы, родные, живые; огромные сияющие глаза встали, как щит, между мною и небом; смеющиеся лица с белыми зубками (некоторые сломаны) возникли как по волшебству, как джинн из бутылки, сметая мой ужас бурным нагоняем и таким же обожанием. Они склонились надо мной – одна, две, три – рты выпачканы красной смородиной, руки мокры от сока.
– Ну, ну, все в порядке, не ори больше. Пошли домой, мы дадим тебе смородины.
И Марджори, старшая, подхватила меня на руки, окунув в копну своих длинных, бронзовых волос, и помчалась, взбрыкивая, по тропинке, через утонувший в розах сад. Она поставила меня у дверей коттеджа, который стал отныне нашим домом, хотя я пока не мог в это поверить.
Это был день нашего переезда в деревню, лето последнего года Первой мировой войны. Коттедж, к которому примыкало пол-акра сада, стоял на крутом берегу над озером; три этажа с подвалом, тайники в стенах, насос и яблони, чубушник и клубника, грачи в калине, лягушки в подвале, грибок на обшивке дома – и все вместе за три с половиной шиллинга в неделю.
Я не помню, где жил до того. Моя жизнь началась в двуколке возницы, который вдоль пологих холмов привез меня к деревне, сбросил в высокую траву и потерял меня там. Я был завернут от солнца во флаг, и, когда я из него выпутался и застыл, громко воя среди жужжащих джунглей на том летнем берегу, я почувствовал, что именно в этот момент я родился. Да и для всех остальных, для всей семьи из восьми человек, этот день стал началом жизни.
Но в тот первый день мы все были растеряны. В разгруженной мебели царил хаос, я ползал по кухне среди леса перевернутых ножек и сверкающих лужиц стекла. Нас вынесло на новую землю, и мы бросились исследовать ее сокровища. Сестры посвятили светлое время этого первого дня сбору ягод с кустов в саду. Как раз поспела смородина, и кисти красных, черных и желтых ягод переплетались с дикими розами. Никогда прежде девочки не встречались с такой щедростью, они кидались, вереща от восторга, от куста к кусту, склевывая ягоды, как воробьи.
Наша Мама, обезумевшая от навалившихся дел, тоже была захвачена роскошью заросшего сада. Весь день она бегала туда-сюда, с горящими щеками, болтая без умолку, наполняя цветами каждый кувшин и каждую банку, которую смогла найти на полу в кухне. Цветы из сада, маргаритки с берега, травы, мхи, листья – они вплывали охапками сквозь дверь коттеджа, пока не стало казаться, что полумрак дома полностью захвачен внешним миром. Дом превратился в стоячий зеленый пруд, залитый медовыми запахами лета.
Я сидел на полу на горе вещей и смотрел в зеленое окно, которое было забито вздымающимся садом. Я видел длинные черные чулки девочек, окаймленные белой полоской тела, мелькающие среди кустов смородины. Иногда одна из них влетала в кухню, заталкивала горсть раздавленных ягод в мой большущий рот и выскакивала снова. И чем больше я получал, тем больше требовал. Это было похоже на кормежку толстого кукушонка.
Длинный день ликовал, щебетал, звенел. Никто ничего не делал, есть было нечего, кроме ягод и хлеба. Я ползал среди разбросанных на незнакомом полу предметов – стеклянных рыбок, китайских собачек, пастухов и пастушек, бронзовых всадников, остановившихся часов, барометров и фотографий каких-то бородатых мужчин. Я обращался к ним – к каждому по очереди – так как они были святынями, предметами из полузабытого старого окружения. И по мере того, как солнце двигалось вдоль стен вместе с радугой от резного стеклянного кувшина в углу, я все больше жаждал восстановления порядка.
Затем, вдруг, день закончился, и дом оказался устроенным. Каждый предмет мебели, каждая чашка, каждая картина были навсегда определены на место; кровати застелены, окна занавешены, соломенные матрасы уложены – и коттедж стал домом. Я не помню, чтобы заметил, как это произошло, но внезапно возникли неколебимые традиции дома со всеми его запахами, хаосом и абсолютной логикой, как будто никогда иначе и не было. Меблировка и обустройство дома произошли сами собой, как приход ночи в этот первый день. Из ужасной неприкаянности раскиданных по кухонному полу вещей все встало на свои места, и места эти никогда больше не подвергались сомнению.
Мы возникли с этого дня. Домашний мир коттеджа потрясался бурями множество раз, кровати, стулья и безделушки носились водоворотом из комнаты в комнату, подгоняемые неуемной энергией матери и девочек. Но все вещи всегда снова вставали на свои места у стен, ничего не исчезало и не менялось. И этот порядок продержался целых двадцать лет.
А я мерил этот первый год жизни по полям, которые неуклонно расширялись для моего видения, по новым фокусам в одежде и по делам, с которыми потихоньку начинал справляться. Я мог теперь открыть кухонную дверь, подпрыгнув, чтобы ударить кулаком по защелке. Приспособился забираться на высокую кровать, подставив утюг вместо лесенки. Научился свистеть, но не умел еще зашнуровывать ботинки. Жизнь превратилась в серию экспериментов, которые приносили то разочарование, то победу: шла оценка и обычных, и таинственных событий в доме, когда золотистое время замирало, и тело из гибкого и подвижного мгновенно превращалось в застывшее, подобно насекомому, надолго цепенело, едва дыша, наблюдая, наблюдая, как частички пыли оседают в солнечной комнате, или неотступно следуя взглядом за муравьем, который преодолевал сучки на потолке спальни. Темные глазки негритятами метались в предрассветных сумерках или бесшумно передвигались от края к краю, но снова оказывались на месте в разлившемся свете дня, ничуть не более страшные теперь, чем куски угля.
Эти сучки на потолке спальни стали для меня целым миром, по ним без конца блуждал взгляд при пробуждении с первым лучом солнца, на которое был осужден ребенок. Они составляли архипелаги в океане кроваво-красного лака, группировались, объединялись в армии против меня, составляли алфавит какого-то мертвого языка – первую книгу, которую я прочитал в своей жизни.
Держа в центре орбиты перемещений дом с его разрушающимися стенами, тяжелыми вздохами и тенями, воображаемыми лисами под полом, я пробирался вдоль тропок, которые удлинялись дюйм за дюймом по мере того, как дни набирали силу. От камня к камню я высылал вперед щупальца чувств в заросшем дворе, преодолевая необозримые океаны, как дикарь с острова Южных морей, покоряющий Тихий океан. Антенны глаз и носа, а также цепкие пальцы выхватывали пучки незнакомых трав, папоротника, слизняков «птичий череп», домики ярких улиток. Длинными летними эпохами этих первых нескольких дней я расширил свой мир и отпечатал в своем мозгу. Его безопасные гавани, его пыльные, голые плеши и непролазную топь, его горы грязи и кусты, плещущиеся на ветру, как флаг. С пересохшим горлом я возвращался назад снова и снова к нескольким, неизменно пронзающим ужасом, предметам: легкие птичьи косточки в клетке из старых прутьев; черные мухи в углу, слизкие, мертвые; сухие шкурки змей; и целый, гниющий, безмолвно грозящий, не закопанный труп кошки.
Однажды найденные, эти реликвии оставались в глубине изученных земель, о них вспоминалось с гулом в ушах, только когда желудок не мог отреагировать тошнотой. Они стали первыми реальными жертвами той разрушающей силы, чья работа, как я уже знал, шла днем и ночью, хотя я никак не мог поймать ее в действии. Тем не менее я был им благодарен. Хотя они постоянно попадались мне на глаза и внедрялись в сны, они смягчали для меня первый удар ужаса. И сдерживали воображение доказательством ограниченности страшного.
Из портового устья кухонной двери я выходил изучать скалы, рифы и каналы, где можно отстояться в безопасности. Я открывал материальность пирамиды коттеджа, его этажей и лабиринтов – средоточия магии, и зеленого, разросшегося острова-сада, в центре которого стоял коттедж. Моя Мать и сестры проплывали в домашних платьях мимо, как галионы, а я изучал запахи и звуки, которые появлялись по их пробуждении, – волны вздохов, дуновение карболки, песни и воркотня, звон бьющейся посуды.
Как красиво они выплывали под полными парусами, эти огромные, как башни, девочки с летящими волосами, во вздымающихся кофточках, с белыми мачтами рук, обнаженных для стирки или другой какой-нибудь работы. Они постоянно кормили кого-то, целовали и застегивали или высоко подбрасывали, как извивающуюся рыбку, чтобы поймать и прижать к своей кружевной груди.
Кухня была той шахтой, где добывались все ценности. Тут я открыл для себя воду – элемент абсолютно отличный от зеленой ползучей пены, которая воняла в садовой бочке. Воду можно было накачивать из-под земли прозрачными голубыми фонтанчиками, можно было покачаться на рукоятке помпы, и вода вырывалась из плена, как жидкое небо. Она разбивалась и бежала, сияла на кафельном полу, или дрожала в кувшине, делала одежду тяжелой и холодной. Можно было ее пить, с ней рисовать, мылить ее мылом, отправлять жуков вплавь или пускать в воздух пузыри. Можно было подставить голову и открыть под водой глаза, и увидеть изгибы стенок бадьи, и услышать бульканье собственного сдерживаемого дыхания, и двигать ртом, как рыба, и ощущать запах известняка земли. Суть волшебства – это то, что ее можно признавать или нет, принимать или отбрасывать, или просто выплеснуть в отхожее место, но нельзя ни сжечь, ни сломать, ни разрушить.
Кухня – это была вода, так как там стоял старый насос. И там находилось все имеющее отношение к воде: густой пар по понедельникам с запахом крахмала; кипящая мыльная пена с надувающимися и лопающимися пузырями, со щелчками и шепотками, с радугой солнечных лучиков, мерцающих миллионами окошечек. В пене обитали, с трудом проворачивались и ворчали, всплывали и тонули простыни и рубашки. Мать, задыхаясь, орудовала красными руками, как веслами, в испускающих пар волнах. Затем белье на палке вылетало из бака, похожее на пирожное со взбитым кремом, или ком мыльной пены, или на пласты слипшегося снега.
Тут без конца мыли пол и обувь, руки и шеи, красные и белые овощи. Войти в утренний беспорядок этого помещения – значит найти на столе все дары сада в каплях росы. Нарезанная морковь, похожая на медные пенни, редиска и луковицы, накрошенные брусочками, отмытый, почищенный картофель в воде, длинные раковинки зеленых жемчужин гороха и вырванные из бархатистых гнезд клейкие бобы.
Тайно пробравшись сюда во время готовки, приходилось выедать себе место, как крысе, прокладывающей путь сквозь корни и листья. Горох перекатывался под языком, свежий и прохладный, как твердая вода; зубы дробили зеленую плоть яблок, очень кислых, и сладкую, белую, хрумкую брюкву. Выброшенный мокрыми руками в перчатках из муки, страждущий упрямо возвращался снова, с мрачным, безответным вожделением. Росли кучки сырого печенья, уже слепленного, теплого, в форме мужчин и женщин – с головами и руками, из несоленого теста, без начинки – с легким намеком на каннибализм.
Большие трапезы тоже готовились в этом помещении – целые котлы мяса для ненасытной, вечно голодной восьмерки. На этих щедрых берегах нагуливалось всевозможное мясо. Оно сдабривалось шалфеем, окрашивалось какими-то специями и украшалось косточками ягненка. В то время, честно говоря, мы редко ели мясо; изредка фунт голых ребрышек для навара или случайный кролик, положенный к двери соседом. Но существовало огромное количество сезонных овощей, а также чечевица и хлеб для балласта. Каждый день в дом приносилось до десяти буханок, и они никогда не успевали черстветь. Мы разрывали их на куски, пока хрустящая корочка была еще теплой, а однообразие скрашивалось предметами, которые мы находили внутри – пружина, гвозди, бумага, а однажды даже мышь; это когда выдавались счастливые дни удачливой выпечки. Буханки выпекались в огромной форме, в ней же по субботам грели воду для мытья. А наша маленькая дровяная печка могла нагреть достаточное количество воды для наполнения лишь одной ванны, и дети мылись по очереди. Так как я был предпоследним по возрасту, моя вода всегда была предпоследней по загрязненности, и суть этой привилегии осталась со мной до сего дня.
Проснувшись однажды утром в отмытой добела спальне, я, открыв глаза, обнаружил, что ослеп. Как ни таращился, как ни старался разглядеть углы комнаты, не видел ничего, кроме золотого сияния, которое трепетало на моих веках. Я ощупал тело – оно было на месте. Я слышал пение птиц. Но ничего, ни крупицы окружающего мира не было видно в этом дрожащем желтом сиянии. Может быть, я умер? Может быть, я на небесах? Чем бы это ни было, оно мне жутко не нравилось. Я слишком резко вынырнул из сна о крокодилах и не был готов к дальнейшему продолжению угрозы. Затем послышались звуки шагов на лестнице.
– О, Марджи, – закричал я. – Я ничего не вижу! – И заревел.
По полу пронеслось шлепание босых ног, раздался голос сестры Марджори.
– Только гляньте на него, – рассмеялась она. – Кто-то раздобыл кусок фланели. Дот, – его глаза снова залеплены.
По лицу мазнул прохладный край фланели, обдали водяные брызги, и я снова вернулся в окружающий мир. И кровать, и лучики, и солнечный свет, очерченный окном, и хихикающие девчонки, склонившиеся надо мной.
– Ктооо это сделал? – рыдал я.
– Никто, дурачок. Твои глаза замотались, вот и все.
Как же сладка топь сна; такое случалось и прежде, но как-то всегда забывалось. Поэтому я пригрозил девочкам, что завяжу им глаза тоже: но я проснулся, видел, и был счастлив. Я немного понежился и выглянул в зеленое окошко. Мир снаружи пылал малиновым цветом. Никогда прежде я не видел его таким.
– Дот, – спросил я, – что случилось с деревьями?
Дороти одевалась. Она выглянула из окна, медленно, сонно, и свет прошел сквозь ее ночную рубашку, как песок сквозь сито.
– Ничего не случилось, – ответила она.
– Нет, случилось, – настаивал я. – Они разваливаются на куски.
Дороти почесала темную головку, широко зевнула, из волос вылетели белые пушинки.
– Это всего лишь опадают листья. Уже наступила осень. Осенью листья всегда опадают.
Осень? Осенью? Мы действительно дожили до осени? Когда всегда падают листья и всегда этот запах. Я представил себе, что вдруг так было бы всегда, без изменений – влажное пламя лесов, горящих без конца, как куст Моисея, как часть чуда этой новообретенной земли, подобно вечным снегам полюсов. Как мы попали в такое место?
Марджори, которая уже спустилась вниз помочь с завтраком, внезапно влетела по лестнице назад.
– Дот, – прошептала она, испуганная и возбужденная одновременно. – Дот… он снова пришел. Помоги Лолу одеться и спускайся, быстро.
Мы спустились и увидели его, сидящего перед огнем – улыбающегося, мокрого, продрогшего. Я взобрался на обеденный стол и уставился на него, на незнакомца. Мне он казался, скорее, не человеком, а конгломератом предметов из леса. Лицо красное и морщинистое, склизкое, как гриб-поганка. В спутанных, грязных волосах торчали листья. Листья и ветки облепляли его рваную одежду, и всего его. Ботинки напоминали черную слипшуюся массу, которую можно найти, копая землю под деревом. Мать дала ему каши и хлеба, он слабо улыбнулся нам всем.
– В лесу, должно быть, ужасно, – произнесла наша Мама.
– У меня есть несколько мешков, мэм, – ответил он, размешивая кашу. – Они защищают от сырости.
Вовсе нет; они, скорее, впитывали влагу, как тампон, и образовывали на нем компресс.
– Вам не следует так жить, – продолжила Мать. – Нужно вернуться назад домой.
– Ну уж нет, – улыбнулся мужчина. – Этого не будет. Они вскочат мне на шею быстрее, чем вы успеете произнести «ох».
Мать печально покачала головой, вздохнула и дала ему еще каши. Мы, мальчики, обожали наблюдать за мужчиной; девочки, более разборчивые, не знали, как к нему относиться. Но он не был бродягой, иначе не попал бы к нам на кухню. В кармане у него лежали четыре яркие медали, он доставал их, чистил и выкладывал на стол, как монеты. Он говорил не так, как все, кого мы знали; мы даже не понимали многих его слов. Но Мать, казалось, понимала его, задавала вопросы, смотрела фотографии, которые он носил в кармане рубашки, вздыхала и качала головой. Он рассказывал что-то о сражениях и о полетах, для нас это все звучало потрясающе.
Он был не из этих мест. На нашем пороге он появился однажды рано утром и попросил чашку чая. Мать ввела его в дом и накормила полным завтраком. У него на лице запеклась кровь, он казался очень ослабевшим. Но теперь, когда он находился на кухне вместе с женщиной и множеством детей, его глаза ярко сияли, а усы улыбались. Он рассказывал нам, как спит в лесу, это показалось мне отличной идеей. И он был солдатом, потому что так сказала нам Мать.
Я слышал о войне; все мои дяди участвовали в ней; с самого рождения мои уши были полны разговорами о войне. Иногда я влезал на плетеное кресло у огня, закрывал глаза и видел загорелых мужчин, перебегающих по полю боя. Мне было три года, но я видел, как они ползли и умирали, и ощущал себя старше них.
Этот человек не выглядел солдатом, потому что не носил форму, перетянутую кожаными ремнями, и не имел нафабренных усов, как мои дяди. У него была борода, а его хаки превратился в лохмотья. Но девочки настаивали, что он солдат, и говорили об этом шепотом, будто о секрете. А когда он приходил в наш дом завтракать и, облепленный листьями и грязью, сидел, сгорбившись, у огня, дымясь влагой, я думал о том, как он там спит в лесу. Представлял его спящим, затем идущим в бой, затем приходящим к нам на чашку чая. Он сам был войной, и война вдруг оказывалась тут; мне хотелось спросить его: «Как там война, в лесу?»
Но он никогда и ничего не рассказывал нам. Он пил свой чай, громко глотая и отдуваясь, огонь вытягивал влагу из его одежды, как будто от него отлетали привидения. Когда он ловил наши взгляды, то улыбался из-за бороды. А когда брат Джек однажды выстрелил в него, наставив ложку, как пистолет, и объявил: «Я – солдат», – он мягко ответил: «Конечно, и станешь гораздо лучшим солдатом, чем я, сынок».
Когда он это сказал, я удивился, что же случилось с войной. Почему он в этих лохмотьях, потому что он такой плохой солдат? Уж не проиграл ли он войну там, в лесу?
Вскоре он перестал приходить, и я понял, что он действительно ее проиграл. Девочки видели, как полицейские увозили его куда-то в повозке. А Мама вздыхала и печалилась о бедняге.
Установилась погода, которая для меня опять оказалась новостью – наступили холода с громкими, хулиганскими ветрами – и моя Мать исчезла, уехала навестить отца. Это оказалось далеко, вне поля моего зрения, и я не помню, как она уходила. Но вдруг в доме остались одни девочки, мечущиеся вокруг с вениками и кухонными полотенцами, они спорили, ссорились и отправляли нас спать в любое время суток. Дом и пища приобрели новый запах, еда появлялась будто в результате скучного фокуса – холодная и сырая, либо черная, сгоревшая от слишком сильного жара. Запыхавшаяся Марджори находилась одновременно повсюду; ей исполнилось 14, и вся семья оказалась на ее руках. У меня слезали носки, там и оставались. Я подолгу ходил немытым. Черные листья залетали в дом и скапливались в углах; шел дождь, полы отпотевали, а мытье лишь добавляло грязных полос через всю кухню, всюду и на всех падали печальные капли.
Но мы все-таки что-то ели; и девочки хихикающим шквалом носились по всему дому, смертельно уставая от такой игры без выигрыша. По мере того как проходили дни, через дом прокатилось столько волн разных путаниц, что я уже не знал, чья комната чья. Жил вольно, копаясь в земле, сколько душе угодно, и понемногу стал грязным, как барсук. Из носа бесконтрольно текло, бесконтрольными были и мои ноги. Я отправил свои ботинки в путешествие по ручью, я разрезал простыни, чтобы соорудить краги, и маршировал, как настоящий солдат, сквозь топи опавших листьев. Почуяв свой шанс, уходил далеко, поедал любые сырые объекты, по цвету похожие на ягоды, жевал ветки, пробовал личинок. Живот болел каждый день, но я гордился этой болью.
Все это время сестры молниями летали по дому вверх-вниз, взятые в осаду бесконечными дождями, мальчики становились все грязнее, простыни коробились, сковородки горели, из горшков все выкипало. Кукольный дворец стал сумасшедшим домом, а девочки превратились в хрупких птичек, летящих сквозь ветер хаоса. Дот беспомощно хихикала, Фил рыдала над кучей овощей, а Марджори повторяла, когда день заканчивался: «Я бы легла и умерла, если бы тут нашлось где-нибудь местечко, чтобы лечь».
Я нисколько не удивился, когда услышал о конце света. Все указывало на это. Низкое, с вихрящимися тучами небо; ревущий ночью и днем лес, мешанина океана звуков. Однажды вечером мы сидели вокруг кухонного стола и кололи орехи нашим лучшим бронзовым подсвечником, когда Марджори вернулась из города. Она вошла, мокрая от дождя, неся хлеб и булочки. Была она необыкновенно бледной.
– Война прошла, – произнесла она. – Она закончилась.
– Не может быть, – возразила Дороти.
– Так мне сказали в магазине, – настаивала Марджори. – И они раздавали чернослив. – Она протянула нам пакетик чернослива, который мы немедленно съели.
Девочки готовили чай, обсуждая новость. А я был уверен, что пришел конец света. Всю мою жизнь шла война, война и была формой жизни. Теперь война окончилась. Таким образом, пришел конец света. Другого понимания для меня не могло существовать…
– Давайте выйдем и посмотрим, что происходит, – предложила Дот.
– Ты же знаешь, мы не можем бросить детей, – ответила Марджи.
Поэтому мы вышли тоже. Было темно. Мерцающие крыши деревни отражали звуки пения. Мы шли, держа друг друга за руки, по улице. В одном из садов трещал костер, в его свете плясала женщина, красная, как черт, в руке она сжимала кувшин. Она вопила что-то, но не песню. Дальше по дороге, в других садах, тоже горели костры. Из одного дома выскочил мужчина, перецеловал всех девочек и пустился в пляс прямо на дороге, кружась на носочках. Затем он рухнул в грязь и раскинулся, дергая ногами, как лягушка, громко вопя песню.
Я хотел остановиться. Я никогда не видел такого человека – в таком добром расположении духа. Но остальные торопились. Мы домчались до паба и прилипли к его окнам. От множества зажженных ламп казалось, что бар горит. Через залитые дождем окна мы видели, что краснолицые мужчины сдвинулись прямо в пламя. Они выдыхали дым и пили огонь из золотистых кувшинов. Я слушал создаваемый ими гам с великим благоговением. Теперь могло случиться что угодно. И оно произошло. Какой-то мужчина поднялся, раздавил в руке, как орех, стакан и, смеясь, стал всем показывать порезы. Но кровь потерялась в общем красном свете. Двое других, как бы вальсируя и сжимая друг друга в объятиях, вынырнули из двери. Они дрались и ругались, потом свалились за ограду и покатились в темноту, на берег.
Послышался крик женщины, которую мы не видели: «О, Джимми! Ты же убьешь его! Я сейчас позову викария, правда! О, Джимми!»
– Вы только посмотрите на них! – воскликнула Дороти, пораженная, но довольная.
– Дети должны уже быть в постелях, – вдруг вспомнила Марджори.
– Ну еще минутку. Только минутку. От этого не будет вреда.
Вдруг из каминной трубы школы вырвалось пламя. Фонтан искр ударил высоко в ночное небо, крутясь и изгибаясь на ветру, опадая и несясь вдоль дороги. Камин свистел, как фейерверк, ракеты пламени взвивались вверх, опустошая крохотное здание, так что я вот-вот ожидал увидеть, как следом полетят стулья и столы, ножи и вилки, раскаленные, горящие. Заросшая мхом черепица стреляла раскаленной сажей, желтые струи дыма изрыгались из трещин трубы. Мы застыли, как вкопанные, на дожде и наблюдали в состоянии транса – как будто действо как раз приберегли к этому дню. Как будто дом сохраняли вместе со всем его бумажным мусором специально, чтобы именно сегодня превратить его в пламя и радость.
Как все кричали, обнимались и пели, пили пиво и любовались огнем! Но что же будет теперь, раз война окончилась? Что будет с моими дядьями, которые жили в ней? – со всеми этими громадными далекими мужчинами, которые иногда неожиданно появлялись в нашем доме, пахнущие кожей и лошадьми. Что произойдет с нашим отцом, который носил хаки, как и все остальные, и все-таки был особенным, не таким, как остальные мужчины? Его сильно потертый портрет висел над пианино – важный человек, в фуражке с кокардой, с остроконечными усами. Я путал его с Кайзером. Он что, теперь умрет, раз война окончилась?
Пока мы любовались пламенем из школьной каминной трубы и запах гари расползался по долине, я понял, что происходит что-то важное. В этот момент я наблюдал красочный конец своей уже долгой жизни. О, конец войны и света! В моих ботинках хлюпал дождь, Мама исчезла. Я больше не надеялся встретить следующий день.








