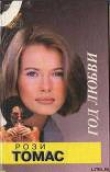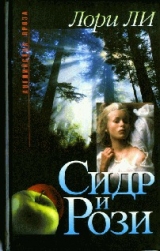
Текст книги "Сидр и Рози"
Автор книги: Лори Ли
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Во всем, что я считаю теперь прекрасным – смена времен года, сверкающая птичка в кустах, глаза орхидей, вода, подсвеченная закатом, чертополох, картина, стихотворение, – во всем, что доставляет мне удовольствие, я нахожу долю долга ей. Она изо всех сил пыталась приподнять меня. И с самого рождения я познавал, как я это понимаю теперь, весь мир сквозь ее веселый нрав.
До самых тех пор, пока не ушел из дома, я не видел жилья, где комнаты чистые, в коврах, где видны углы, а подоконники пустые, и где можно сесть на кухонный стул, не перевернув его сначала, чтобы стряхнуть с сиденья лишнее. Наша Мать была одним из тех обуянных коллекционеров, которые проводили все свое время, заполняя щели своей жизни балластом всевозможных предметов. Она собирала все, что приходило в руки, никогда ничего не выбрасывала, даже лоскут и пуговица аккуратно складывались, будто их потеря подвергнет всех нас опасности. Газеты за два десятилетия, пожелтевшие, как старый саван, привязывали ее к мертвому прошлому, к годам, которые она берегла для отца, быть может, желая показать ему там что-нибудь… Но и другие символы – различные обломки – также громоздились в доме: пружины от стульев, обувные колодки, пласты битого стекла, корсетные кости, рамы от картин, подставки для дров у камина, остовы шляпок, разрозненные шахматные фигурки, перья и статуэтки без голов. Большинство этих предметов приносили непостижимые приливы и оставляли, как отступившее наводнение. Но в одном – старом китайском фарфоре – Мать действительно была сознательным коллекционером, и в этом деле имела глаз эксперта.
Старый китайский фарфор для Матери был азартной игрой, пристрастием, запретной любовью – всем вместе; той чувственностью прикосновения и сутью вкуса, для которых она была рождена, но никогда не могла себе позволить. Она охотилась за старым китайским фарфором по всей округе, хотя и не имела денег на него; посещала лавки древности и распродажи с тоскующей страстью и то лестью, то хитростью, то по непонятному капризу случая, но умудрилась принести домой несколько прекрасных вещиц.
Помню, однажды в Брислее был большой аукцион, и Мать не могла спать от мыслей, какие там выставлены сокровища.
– Это великолепное старинное поместье, – втолковывала она нам. – Семья Делакорт, знаете ли. Их очень ценили, во всяком случае, ее . Просто преступление не поехать и не посмотреть.
Когда пришел день распродажи, Мать поднялась очень рано и надела особое платье, для аукционов. Нам подали холодный, сборный завтрак – Мать слишком нервничала, чтобы стряпать – и она ринулась к двери.
– Я только гляну одним глазком, покупать ничего не буду, конечно. Я просто хочу увидеть их Споуда…[1]1
Знаменитый изготовитель фарфора.
[Закрыть]
Виновато заглянув в наши пустые глаза, она выбежала под дождь…
Вечером, как раз когда мы собирали чай, мы услышали, что она кричит нам с берега.
– Мальчики! Мардж! Дот! Я дома! Идите посмотрите!
Заляпанная грязью, раскрасневшаяся и немножко не в себе, она с трудом доплелась до калитки.
– О, вы же должны быть дома. Такой китайский фарфор и стекло! Я ничего подобного никогда раньше не видела. Агенты, агенты по всему поместью – но я их всех обвела. Взгляните, ну не красота ли? Я просто обязана была взять… и стоило-то всего несколько медяшек.
Она вытащила из сумки чашку с блюдцем костяного фарфора, тоненькие, как бумага, бесценный эксклюзив – если не считать того, что чашка и ручка к ней существовали раздельно, а блюдце состояло из двух деталей.
– Конечно, я могла отдать их склеить, – ворковала Мать, подняв кусочки к свету. Лицо ее излучало мягкость и нежность, как и кусочки яичной скорлупки в руках.
В этот момент вдоль тропинки протопали два грузчика с огромным ящиком на плечах.
– Вносите сюда, – велела Мать. Они свалили ящик во дворе, взяли деньги и со стонами удалились.
– О, Боже, – хихикнула Мать, – я совсем забыла… Это шло с чашкой и блюдцем: мне пришлось это взять, оно продавалось вместе. Я уверена, что найду всему применение.
С помощью колуна мы вскрыли упаковку и собрались вокруг, чтобы рассмотреть содержимое. Внутри оказались: шар-флюгер, связка лестничных перил, плюмаж, лопата без черенка, несколько разбитых глиняных трубок, коробка овечьих зубов и фотография Лемингтона Бейтса в рамке…
Таким ли, другим ли образом, но мы приобрели несколько прекрасных образцов китайского фарфора, некоторые вообще в идеальном состоянии. Я помню Севрские часы, украшенные ангелочками, позолоченную группу «Награждение на Дерби» и несколько воздушных фигурок из Дрездена или еще откуда-то, которые смотрелись как пенящийся солнечный свет. Непонятно, чем они были для Матери, но она ласкала их, вытирала с них пыль, улыбаясь про себя, ставила под разное освещение или просто стояла рядом и любовалась ими, со щеткой в руках, вздыхая и покачивая головой от удовольствия. Вероятно, они для нее были всем, как магическое окно в мир. Некоторые имели трещинки, некоторые были испещрены дефектами, но каждая распахивала секретный мир, который она интуитивно ощущала, но никогда не смогла увидеть. Однако она не могла себе позволить хранить некоторые из них долго. Зато у нее всегда находилось свободное время, чтобы разглядывать их в книгах, проникаться их формами и историями, затем чувство вины и необходимость посылали ее в Челтенхэм продать что-нибудь. Иногда – но редко – она получала на шиллинг-другой больше, что слегка облегчало ей сознание вины. Но обычно ее возглас звучал: «О, Боже, я сглупила ! Я могла бы взять с них вдвое больше…»
Отец Матери говорил на одном языке с лошадьми; она – с цветами. Она могла их вырастить где угодно, в любое время, и, казалось, они даже жили дольше ради нее. Она растила их с примитивной, почти поспешной, любовью, но ее руки обладали таким пониманием их нужд, что они, казалось, разворачивались к ней, как к солнцу. Она могла вырыть сухой корешок на поле или у изгороди, ткнуть его в саду, потрясти – и почти немедленно он зацветал. Чувствовалось, что она может вырастить розу из палки или ножки стула, таким замечательным был ее дар.
Наша полоса сада вдоль террасы была памятником Матери, и она разрабатывала его по наитию, без всякого плана. Она никогда не удобряла и не полола землю, просто нежно любила все, что там появлялось. Она непредвзято помогала всему, что росло, как колдовской глоток чудной солнечной погоды. Она ничего не насиловала, ничего не прививала, не сажала рядами; она приветствовала самосей, позволяла каждому жить собственной головой, и была врагом очень малому количеству сорняков.
В результате наш сад напоминал, скорее, кусок джунглей, и никогда ни один дюйм не пустовал. Чебушник взлетал, золотой дождь свисал, белые розы усыпали яблоню, цветущая красная смородина (резко пахнущая лисой) заполонила все пространство вдоль единственной тропки; такой хаос цветения приводил к тому, что воздух гудел от обилия удивленных пчел и ошалевших птиц. Картофель и кабачки были натыканы как попало среди наперстянки, маргариток и гвоздик. Часто какой-нибудь вид полностью захватывал сад: один год – незабудки, штокроза – другой, затем – море маковых головок. Что бы это ни было, ему позволялось расти. И Мать проплывала мимо дикарей, останавливаясь, чтобы прикоснуться к какому-либо странному цветку, снисходительная, грациозная, дружелюбная и пытливая, как королева в приюте для сирот.
Наша кухня служила продолжением этого наружного изобилия, так как ее всегда переполняли пучки трав. В зеленую замкнутость этого места, забитого листьями и цветами, солнце пробивалось едва-едва сквозь занавешенные зеленью окна. Я часто чувствовал себя муравьем в джунглях, перенасыщенных пышными гроздьями. Почти все, что ловил ее блуждающий взгляд, Мать собирала и приносила в дом. В бутылки, в чайники, на блюдца, в кувшины – во все, что казалось ей подходящим или красивым, она ставила розы, ветви бука, петрушку, морозник, чеснок, стебли кукурузы или ревень. Она также выращивала растения во всем, что могло их содержать, – в кастрюлях, в чайниках, в жестянках. Удивительно, но однажды она вырастила прекрасную герань в полости утюга. Мы, мальчики, нашли его, выброшенный, в лесу – и только она одна могла придумать, как его применить.
Хотя в жизни Матери существовал единственный мужчина – если можно считать, что он был, – она часто с умилением вспоминала своих девичьих ухажеров и любила рассказывать о завоеванном внимании. О почтальоне, которого она отвергла из-за его шевелюры, о мяснике, который истекал кровью из-за ее пренебрежения, о фермере, которого она спихнула в ручей, чтобы охладить мучившее его пламя. Казалось, существовало множество мужчин по всем долинам, чью любовь она погубила. Иногда, когда мы возвращались с прогулки, или тащились под дождем из Строуда, нас, позвякивая колокольчиком, обгонял в своей двуколке какой-нибудь толстый, усатый фермер или сдельщик-строитель. Мать останавливалась и следила за ним, потом решительно стряхивала дождь со шляпы. «Знаете, я могла бы выйти замуж за этого человека, – сообщала она, – если бы верно раскинула карты…»
Романтические воспоминания Матери нельзя было считать надежными, потому что их характер часто менялся. Но из всех историй, которые она рассказывала нам о себе и других, одна, о Кузнеце и Кондитерше, оказалась правдой…
Много лет назад, рассказывала она, в деревне С. жил страдающий от безнадежной любви кузнец. Много лет любил он местную незамужнюю женщину, но был застенчивым, как большинство кузнецов. Женщина, которая перебивалась изготовлением на продажу конфет, также чувствовала себя одинокой и отчаянно хотела найти себе мужа, но тоже была слишком скромной и гордой, чтобы искать мужчину. С годами отчаяние девушки росло, как и невысказанная страсть кузнеца.
Однажды девушка зашла в церковь и бросилась на колени. «О, Боже! – молила она, – пожалуйста, позаботься обо мне, пошли мне мужчину, чтобы я вышла замуж!»
Случайно кузнец в это время находился на колокольне, где чинил старые церковные часы. Каждое трепетное слово девушки ясно доходило туда, где он находился. Когда он услышал ее молитву «Пожалуйста, пошли мне мужа!», он чуть не свалился с крыши от возбуждения. Но он взял себя в руки, обратил свой голос в глас Всемогущего и рявкнул: «Кузнец подойдет?»
– Есть ли человек лучше, чем он, дорогой Боже! – заплакала благодарная девушка.
При этом кузнец помчался домой, оделся в лучшее платье и встретил девушку при выходе из церкви. Он сделал ей предложение, и они поженились, и жили в довольстве, используя его горн, чтобы варить конфеты.
Пытаясь восстановить образ Матери, я дергаю за порванные нитки. Годы отматываются назад сквозь разную разность. Ее цветы и песни, ее непоколебимая верность, ее покушение на порядок, ее падение в нищету, ее психические срывы, ее плач по ерунде, ее почти ежедневные рыдания по своей умершей дочке, ее игривость и веселость, ее припадки крикливости, ее любовь к мужчине, ее истеричная ярость, ее справедливость по отношению к каждому из нас, детей – все это погоняло мою Мать и сидело на ее плечах, как на насесте для воронов и голубей. Также я помню, как она расцветала, становясь вдруг очень красивой и одинокой. В те летние ночи – когда мы, мальчики, уже в постелях – зелень деревьев заполняла тихую кухню, она переодевалась в шелка, надевала свои немногие украшения и садилась играть на фортепиано.
Играла она плохо; ее огрубевшие пальцы спотыкались, они дрожали, ища ноты, – и все-таки, она вела музыку с грациозной лихорадкой, запинающимися волнами чувства, которые пульсировали сквозь кухонные окна, как сигналы из затворенной клетки. Одинокая, с закрытыми глазами, в шелках и секретах, срывая арпеджио с желтых клавиш, мягко переходя от звучных, золотистых аккордов в область чего-то очень личного, она создавала в тихих сумерках историю о мужчине, который вернулся к ней.
Я лежал без сна в слегка освещенной спальне, прислушиваясь к звукам фортепиано внизу, дроби аккордов, мучительным паузам, мгновенным пробежкам трясогузки. С изжогой, но и с меланхолией, грубая, но и тоскующая, музыка взлетала нестройными взрывами, потом опадала и дрожала, мягкая, как вода, обвиваясь вокруг моей настороженной головы. Обычно она играла несколько вальсов и, конечно, «Killarney». Но иногда я слышал, как она поет – холодным, одиноким голосом, неуверенно летящим вверх, адресуясь к собственному отражению. Это были странные звуки, на грани сил, но тревожащие, трогающие почти скандально. Хотелось бежать к ней, обнять ее. Но я этого ни разу не сделал.
С течением времени Мать протестовала все меньше. Она приобрела знакомства и с благодарностью их поддерживала. Но по мере того, как мы, дети, взрослели, по очереди покидая дом, черты ее характера проявлялись все ярче; горшки с цветами и газеты, беспорядок и вырезки растеклись по всему дому. Теперь она больше читала и никогда не шла спать в постель, а спала, сидя в кресле. Ее дни и ночи не разделялись больше беспокойными нуждами детей. Она могла поспать час, потом подняться и вымыть пол или отправиться в лес за дровами посреди ночи. Как Бабуля Трилль, она начала игнорировать время и делать что и когда хотела. И при этом, когда бы мы ни приехали навестить ее, огонь горел, она была в полной боевой готовности, приветствуя нас…
Я помню, как приехал домой посреди войны, прибыл около двух часов утра. Но она сидела в кресле, читая книгу при помощи лупы. «А, сынок, – сказала она, – она не знала, что я приеду, – подойди-ка, взгляни сюда…» Мы обсудили книгу, потом я отправился спать и провалился в сон-смерть. Поднявшись наверх ко мне, Мать разбудила меня в темный, промозглый час занимающейся зари. «Я принесла тебе обед, сыночек», – объяснила она и поставила на постель огромный поднос. Постанывая от желания спать, я разодрал глаза – овощной суп, большущий кусок мяса и пудинг. Мальчик вернулся домой, его нужно накормить ужином, и она полночи готовила. Она села ко мне в ноги и заставила съесть все – она и не подозревала, что наступало утро.
Итак, семьи не стало. Мать жила, как хотела, зная, что она делает все, что в ее силах: счастлива, видя нас, рада жить в одиночестве, высыпалась, сажала растения, вырезала картинки, отправляла нам письма о птичках, совершала поездки на автобусе, посещала друзей, читала Раскина или жития святых. Медленно, уютно, она врастала в свое окружение, в теплоту своего травянистого берега, пробираясь при обходе сада сквозь цветущие кусты, взъерошенная, сияющая, как они. Спокойными, неорганизованными были эти последние годы, свободными от конфликтов, сомнений или страха, когда она потихоньку поворачивалась к деревенской простоте, как роза столистная превращается в шиповник.
Затем внезапно умер наш отсутствовавший отец – возясь с машиной в окрестностях Мордена. И с этим, с его смертью, которая стала также смертью ее надежды, наша Мать бросила жить. Их долгая разлука подошла к концу, и холод этой мысли убил ее. Она подняла две его семьи, честно, одна: тридцать пять лет она ждала его благодарности. И все это время лелеяла она одну фантазию – что старым и разбитым, нуждающимся в помощи, он однажды, может статься, вернется к ней. Его смерть убила это ожидание и завершила смысл ее существования. Зрелое спокойствие, которое она взрастила, оставило ее навсегда. Она стала болезненной, простодушной, вернулась в свою юность, к тому девичеству, которое не знало его. Она никогда больше не упоминала его имени, но стала разговаривать с тенями, видеть разные видения, а потом умерла.
Мы похоронили ее в деревне, под тисом, рядом с ее четырехлетней дочерью.
Зима и лето
Времена года моего детства казались (конечно) такими яростными, такими напряженными и соответствующими своей природе, что они стали для меня с тех пор эталоном завершенности, когда бы названия сезонов ни упоминались. Они завладевали нами так полно, что, казалось, даже меняли наше гражданство; и когда я оглядываюсь назад на долину, она никак не может быть одним и тем же местом, я вижу деревню зимнюю и деревню летнюю совершенно по-разному. В городской жизни стало необыкновенно легко игнорировать полярность их нравов, но в те дни зима и лето управляли всеми нашими действиями, врывались в наши дома, формировали наши мысли, руководили нашими играми и строили нашу жизнь.
В нашей долине зима вовсе не была более типичной, чем лето, она не была даже противоположностью лета; это просто было другое место. И как-то так получалось, что никто не мог вспомнить пути туда; ты прибывал, а там зима. Внезапно приходил день, когда все детали полностью изменялись, и долину приходилось открывать заново. Нос вдруг отмерзал, так что больно становилось дышать, а на окнах появлялись морозные зигзаги. Дом наполнялся светом с зеленоватым полярным сиянием; а снаружи – во всем видимом мире – стояла странная, тяжелая тишина или раздавался легкий металлический треск, слабый трепет ветвей и проводов.
Этим утром кухня была полна пара, поднимающегося над кастрюлями и чайниками. Насос на улице снова замерз и работал, дребезжа, как разбитый глиняный горшок, поэтому девочки собрали с карниза сосульки, и мы пили чай из кипяченых льдинок.
– Какая гадость, – заявила Мать. – Бедные, бедные птички. – И она в отчаянии всплеснула руками.
Они с девочками укутались во все, что у них было теплого – пальто, шарфы, натянули даже рукавицы, – но все равно дрожали, кое у кого под носом висела капля, а бедняжка Филлис раскачивалась в кресле, сжимая в коленях ноющие ладошки, будто искусанные роем пчел.
В конце садовой дорожки прогремели железные башмаки, и дверь распахнул молочник. Молоко в его бидоне промерзло до самого дна. Ему приходилось отбивать куски молока молотком.
– Снаружи – убийство, – заявил молочник. – Вороны замучили овец. Лебеди на озере вмерзают в лед. А синицы падают замертво… – Он выпил чашку чая, брови его наконец-то оттаяли, он шлепнул Дороти пониже спины и вышел.
– Бедные, бедные птицы, – снова вздохнула Мать.
Они скакали по подоконнику, выпрашивая хлеб и сало – малиновки, черные дрозды, дятлы, сойки – птицы, которых теперь уже не увидишь. Мы немного покормили их, удивляясь, что они совсем ручные, потом закутались в длинные шерстяные шарфы.
– Можно погулять, мама?
– Ладно, только не простудитесь. И не забудьте принести дров.
Сначала мы нашли несколько старых жестянок из-под какао, наковыряли в них дырок и набили их тлеющим тряпьем. Если их держать в руках и время от времени продувать, они сохраняли тепло в течение нескольких часов. Они были теплее, чем перчатки, и гораздо приятнее пахли, само собой. В любом случае, перчаток у нас все равно никогда не было. Вооруженные таким образом и с горячим завтраком внутри мы вышли в мир зимы.
Он оказался миром травы, сверкающей и неподвижной. Туман сел на деревья и превратил их в засахаренные сласти. Все стало жестким, зажатым в тиски, запечатанным. Мы вдыхали воздух, который пах острыми иголочками, забивал ноздри и заставлял нас чихать.
Высосав несколько сосулек и постучав по бочке для воды – чтобы послушать ее утробный голос – и продышав дырочку в рисунке на оконном стекле, мы помчались на дорогу. Мы рыскали вокруг, ожидая, что что-нибудь непременно должно случиться. Мимо протрусил пес, похожий на привидение в облаке, частое дыхание образовывало вокруг него видимую ауру. Далекие поля в свете низкого, слабого солнца съежились, как устрица в ракушке.
Наконец, к нам присоединилось еще несколько мальчиков, укутанных, как русские, с разноцветными носами. Мы сбились в кучку и уставились друг на друга, ожидая, пока кто-нибудь выдаст идею. Худые стояли, светясь голубизной, вздернув плечи, с руками, засунутыми глубоко в карманы, трясясь. Толстые цвели красными розами на щеках и отдувались, как киты; и у всех были мокрые глаза. Чем бы заняться? Мы не знали. Поэтому толстые начали толкать тощих, которые скрючившись, вскрикивали: «А чтоб тебя». Потом тощие стали толкать толстых, задыхающихся от кашля. Потом мы все попрыгали немного на месте, хлопая руками, потом раздули жестянки из-под какао.
– Так что же будем делать , э?
Мы притихли, чтобы хорошенько подумать. Дрожащий худенький паренек втянул губы и пожевал воздух. «Скачки», – выкрикнул он резко, высоко подскочил и помчался, радостно заржав и погоняя себя. Мы рванули за ним по дороге галопом, брыкаясь и храпя, натягивая невидимые поводья и настегивая себя по заду.
Теперь зимний день обрел движение, мы бешено скакали по его хрустальному королевству. Мы обследовали всю деревню, отыскивая причуды мороза, все, что угодно, лишь бы это можно было как-то использовать. На обочине мы нашли вмерзшую пружину, огромную, как высокий цветок. Вокруг нее болтались водяные висюльки, нарушая ее спокойную суровость, капли снова и снова падали вниз, чтобы рассыпаться на льдинки-перышки. Потом мы понаблюдали за потоком в долине, черным, застывшим – дегтярная тропа, пробивающаяся сквозь ивы. Нам казалось, что деревья как бы срезаны кромкой льда, что коровьи тропы превратились в мелкие выбоины в скалах. Овцы на склонах облизывали острую траву черными языками. Церковные часы остановились, флюгер замерз, так что и время, и ветер застыли; и ничто, казалось, не в состоянии взбудоражить сильнее, чем это вмешательство незнакомой руки, руки зимы. Без обычаев, без законов – зловещей, ужасающей, долгожданной.
– Пошли помогать фермеру Уэллсу, – предложил толстый мальчишка.
– Ты-то иди – я пас, – ответил худой.
– А не пойдешь, так двину – улетишь.
– У-у-у, хулиган.
– А вот и нет.
– А вот и да.
Но мы все-таки отправляемся на ферму на краю деревни. Ферма построена на месте давно исчезнувшего монастыря. У Уэллса, фермера, маленький больной сын, красивый, как ангел. Он машет нам рукой из окна, увидев, что мы входим во двор. Мы знаем, что он не переживет эту зиму. Навоз на фермерском дворе, коричневый и затвердевший, присыпанный изморозью, похож на хлебный пудинг. Из сараев доносится дребезжание ведер под ударами струек молока, звон цепей, скрип корзин, глубокие вздохи коров, стук переступающих копыт и звук равномерного пережевывания сена.
– Нужна помощь, мистер Уэллс? – спрашиваем мы.
Он пересекает двор с двумя корзинами на коромысле; как всегда, одежда его в навозе. Он маленький и лысый, но с длинными, серповидными руками, которые вытянулись от тяжелой работы.
– Давайте, – отвечает он. – Но никаких фокусов с козами…
Внутри коровника было тепло и возбуждающе сладко пахло молочным дыханием, вздымающимися шкурами, свежим навозом и выменем, паром и ферментами. Мы вытаскивали сено из стога и укладывали его слоями, как табак, перемежая травой, щедро пересыпанной полевыми цветами – в наших руках благоухало лето.
Я взял ведро молока, чтобы напоить теленка. Тот открыл рот, похожий на горячую, влажную орхидею. Он начал сосать мои пальцы, булькая горлом и хлопая глазами с длинными ресницами. Сначала молоко снималось для изготовления масла, теленок выпивал ведро такого молока в день. Мы пили такое же молоко иногда дома; мистер Уэллс продавал его по пенни за кувшин.
Когда мы закончили кормить животных, мы получили по несколько яблок и по печеной картофелине каждый. Яблоки были такими холодными, что ломило зубы, зато картофелина была горячей, с маслом. У нас получился отличный обед. Затем мы помчались назад, в деревню, где налетели на Уолта Керри.
– Хотите узнать кое-что? – спросил он.
– Что?
– А вот не скажу.
Он посвистел немного, поковырял в ухе и начал выдавать информацию маленькими порциями.
– Так вот, если вы действительно хотите знать, я, может быть, так и быть…
Мы ждали, сбившись дрожащей от нетерпения кучкой.
– Пруд Джонса замерз, – наконец сообщил он. – Я катался все утро. Съехалась куча людей на лошадях в попонах покататься и просто развлечься.
Мы рванули по замерзшей тропинке, кровь в щеки, локти в стороны.
– Не забудьте, это я рассказал. Я попал туда первым. И вернусь, только попью чаю!
Мы оставили его стоять на фоне низкого розового солнца, маленькую червоточинку на розе, тонкую колючую палочку, которая непременно должна была встретиться с ножницами. Сбегая по холму, мы уже слышали пруд – крики, которые возникают только на воде, визг коньков, звон льда, вздохи пустот под ним. Потом мы увидели его, черный и плоский, как поднос, конькобежцев, несущихся по кругу, как шарики. Мы завопили и скатились на пруд, сразу попадав, рассыпавшись во всех направлениях. Эта магическая субстанция с ее подарками-обманками оказалась для меня миром, с которым я никогда так и не смог совладать. Сначала она надевала на пятки крылья и дарила полет Меркурия, а потом бросала носом вниз. Она выбирала своих собственных любимчиков, из тех, на кого вы бы никогда и не подумали, неуклюжих медведей в классе, которые проносились мимо на одной ноге, которые вращались и выписывали всякие фигуры, и носились, как стрижи; и никогда не падали – падания были не для них.
Я же оказался пешеходом. Мы накатали свою дорожку на блестящей черной поверхности. Такую гладкую, что, только ступив на нее, вы скользили вдаль, а долина скользила мимо вас, как по маслу. Можно было также лечь ничком и пытаться плыть по льду, суча руками и ногами. Из такого положения глубоко внизу были видны малюсенькие пузырьки, похожие на холодные зеленые звезды, острые, зловещие трещины, мертвые ленты лилий, утонувший камыш, торчащий вверх, как готовые к пуску ракеты.
Замерзший пруд холодным зимним днем доставлял нескончаемый ряд удовольствий. Время не замечалось; ощущение было почти чувственное; мы играли до изнеможения. Мы без конца разбегались и скользили, пот тек ручьем; шарфы украсили жемчужины, образовавшиеся от жаркого дыхания. От тростника и хвоща на берегу пахло едко, как от мужских пальцев. Свешивающиеся ветви ив, схваченные льдом, казались цветущей сиренью в свете заходящего солнца. Позже за угольным рисунком ветвей появилась морозная луна, и мы поняли, что пробыли на пруду слишком долго.
Но мы обещали Матери, что принесем дров. Зимой нам приходилось доставать их каждый день. Мы с Джеком, руки в карманах, молча поплелись по тропинке; уже стемнело, мы были напуганы. Березовая роща казалась лабиринтом из лунного света и теней, мы жались друг к другу.
Сучья на земле были хорошо видны, они мерцали свежим ночным инеем. Мы выдирали их, залепленные землей и листьями, руки ломило от холода. Лес стоял молчаливый, застывший, белый, с запахом волков. Наверное, именно такую ночь увидели затерянные в просторах охотники, когда впервые отправились на север во время ледникового периода. Мы мечтали о пещере, теплых мехах и костре, когда подхватили жалкие палки и рванули домой.
Потом обязательное «Где-же-вы-пропадали?», «Неважно», «О-Бог-мой» и «Быстрее-к-огню-вы-похожи-скорее-на-мертвецов». Первая долгая, медленная мука, пока отходят руки, тихая агония возвращения крови в пальцы. Боль страшнее, чем зубная; не в силах удержаться, я всхлипываю, но потихоньку боль проходит… И вот мы получили по огромной кружке чая и горячему тосту с жиром; а потом вернулись сестры.
– В Строуде настоящее смертоубийство. Я два раза упала – на Гайстрит – и порвала чулки. Уверена – все продемонстрировала. Это было ужасно, Ма. А лошадь свалилась в витрину Мэйполов. А старый мистер Фоулер не мог спуститься с горки, ему пришлось сесть на зад и скатиться. Сейчас еще холоднее. Завтра никто не сможет ступить ни шагу.
Они сидели за чаем и продолжали обсуждать возбужденными голосами несчастья этого дня. А мы, мальчики, были рады, что зима пришла, настоящая зима, новые занятия…
Позднее, ближе к Рождеству, прошел обильный снегопад, который поднял дороги до верха изгородей. Миллионы тонн прекрасного материала, послушного, чистого, годного для всевозможных целей, который не принадлежал никому, который каждый мог лепить, есть или просто кидать, прокладывать в нем туннели. Он укрыл холмы и отрезал деревни от мира, но никто и не думал об избавлении; потому что в кормушках было сено, а на кухнях мука, женщины пекли хлеб, скот был укрыт и накормлен – в конце концов, мы и раньше бывали отрезаны.
За неделю до Рождества, когда снежный покров, казалось, стал еще толще, пришел момент для рождественских песнопений; и когда я мысленно возвращаюсь к тем вечерам, я вспоминаю хруст снега и пятна света от ламп, расплывшиеся на снегу. Песнопения в моей деревне были особой статьей дохода для мальчиков, девочки к этому не имели никакого отношения. Как и заготовка сена, сбор черной смородины, чистка камней, пожелание людям счастливой Пасхи, они являлись одним из наших сезонных приработков.
Абсолютно инстинктивно мы знали, когда пора начинать; на день раньше мы бы оказались непрошеными гостями, на день позже мы бы получали только недоуменные взгляды от людей, чья щедрость уже исчерпана. Когда подходил настоящий, точно сбалансированный момент, мы безошибочно узнавали его и были наготове.
Поэтому, загрузив поленья в печь, чтобы они просохли к утренней топке, мы закутались в шарфы и вышли на улицу. Мы громко прокричали несколько раз в сложенные лодочкой у рта ладони, пока все мальчики, которые прекрасно знали этот сигнал, не выскочили из домов, присоединяясь к нам.
Один за другим они подходили, спотыкаясь и раскачивая фонари над головой, тоже громко сигналя и кашляя.
– Отправляемся петь?
Мы все ходили в церковный хор, поэтому ответа не требовалось. Целый год мы славили Господа, пусть не в тон, и в качестве награды за службу – на вершине торжества – мы имели сейчас право обойти все большие дома, пропеть наши гимны и собрать дань.
Обойти их все – означало пять миль пешком по дикой и обычно заснеженной целине. Поэтому первое, что мы делали, – составляли план своего движения; формально, так как маршрут никогда не менялся. Все равно, мы дули на пальцы и спорили; а потом выбирали Предводителя. Это никого не ограничивало в поступках, так как каждый считал себя Предводителем, и тот, кто начинал вечер в этом качестве, обычно возвращался домой с разбитым носом.
В этот вечер нас собралось восемь человек. Шестипенсовик, который вообще никогда в жизни не пел (даже в церкви он просто раскрывал рот); братья Горас и Бони, которые всегда со всеми дрались и при этом им всегда больше всех доставалось; Клерджи Грин, проповедник-маньяк; Уолт – хулиган и два моих брата. Пока мы спустились по тропе, мальчишки из других деревень были уже у холмов, громко распевая «Kingwenslush» и крича в замочную скважину каждого дома: «Бей, молоток! Звони звонок! Подайте нам пенни, мы с песней прекрасной стоим на коленях!» Они не имели никакого права на подаяние, это мы были Хором, тем не менее в воздухе повеяло духом конкуренции.