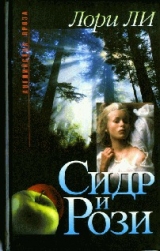
Текст книги "Сидр и Рози"
Автор книги: Лори Ли
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
– Вы слышите его, миссис? – со знанием дела сообщила она. – Он непрерывно кричит с полуночи. – Ворон смерти был личным знакомым и осведомителем Бабули Валлон, она дернулась, сообщая нам это известие. – Он звал несколько раз. Со своего тиса. Она уходит, помяните мое слово.
И именно в этот день Бабуля Трилль умерла, ее кости оказались слишком старыми, чтобы их могли починить. Как нежный, светлый шарик, ее забросило ветром чуть выше и дальше, чем других девочек ее поколения. Он плыл достаточно долго, чтобы мы успели заметить его, потом завис на мгновение перед нашими глазами; а затем лопнул вдруг, внезапно, и исчез навсегда, ничего не оставив в воздухе, лишь исчезающий образ и тончайшее облачко нюхательного табака.
Маленькая церквушка была переполнена на ее похоронах, так как пожилая леди олицетворяла собою эпоху. Они пронесли ее гроб вдоль кромки леса, а затем провезли на повозке через деревню. Бабуля Валлон, окутанная черным облаком, следовала на некотором расстоянии сзади; и во время всей службы она хоронилась в церкви за людьми, и все восхищались ею.
Все шло прекрасно до момента опускания гроба, когда произошла внезапная и мучительная сцена. Бабуля Валлон с развевающимися лентами, в перекошенной шляпке, пробилась к могиле.
– Ложь! – пронзительно закричала она, указывая на гроб.
– Эта обманщица моложе меня! Она говорит, девяносто пять! – а ей не больше девяноста, ведь мне девяносто второй! Просто преступление, что вы позволяете ей уходить к Создателю с такой наглой ложью! Выкапывайте старую дьяволицу! Доставайте ее бронзовую пластинку! Это оскорбление живой церкви!..
Ее увели, хотя она билась и кричала, колотила по ногам подбитыми железом башмаками. Ее вопли становились все слабее и вскоре их заглушили лопаты могильщиков. Комки глины, падающие на гроб Бабули Трилль, укрыли ее вместе с пластинкой навсегда; чтобы никто не узнал правды о ее возрасте – в деревне не осталось уже никого достаточно старого, чтобы знать наверняка.
Бабуля Валлон оказалась триумфатором, она закопала свою соперницу; и теперь больше нечего было делать. С тех пор она стала слабеть и усыхать день ото дня, сидела дома и не показывалась. Иногда мы слышали мистические стуки по ночам, странные, зовущие звуки. Но днем все было тихо, никто не ходил в саду, никто не приходил под наше окно. Огонь под вином в кухне захирел и умер, как и сладкий огонь вражды.
Примерно двумя неделями позже, без какой-либо определенной болезни, Бабуля Валлон ушла во сне. Ее нашли на постели, в шляпке и шали, с сигнальной метлой в руке. Открытые глаза смотрели в потолок, будто прислушиваясь к смерти. Не осталось ничего, что могло бы поддерживать ее жизнь; ни мотива, ни остроты, ни ярости. «Та-что-внизу» присоединилась к «Той-что-наверху», бывшей, оказывается, гораздо ближе, чем можно было себе вообразить.
Коллективное преступление, самоубийство
Вскоре после окончания Первой мировой войны в деревне произошло дикое событие, которое бросило нас всех в паутину молчания и отрезало на некоторое время почти полностью от внешнего мира. Я был слишком маленьким в то время, чтобы удивляться событию, но тем не менее был знаком со всеми втянутыми в него и сразу узнал о самом происшествии. Хотя его редко обсуждали – и никогда с незнакомыми – факты той ночи были известны нам всем, но, по общему согласию, их глубоко закопали и заровняли следы вокруг. Таким кровавым, больным и внезапным оно оказалось. Оно походило на всплеск семейного сумасшествия, которое мы постарались скрыть из стыда и гордости, и ради тех, кто оказался заражен.
Преступление произошло за несколько дней до Рождества, в ночь густого снегопада, при возвращении в отчий дом; в то время, когда семьи собираются на праздничного гуся. Ночь была одной из самых холодных в Котсворде, с ветром, примчавшимся прямо из Арктики. Дети уже лежали в постели, согревая коленки дыханием; женщины грели ноги у очага; а мужчины и парни находились в пабе, попивая горячий сидр, перекидываясь в картишки у яслей с младенцем Иисусом, наблюдая, как исходят паром их ботинки.
Но в эту ночь успели сыграть лишь несколько партий. Вмешалось провидение. Дверь распахнулась, и в бар влетели снежный заряд и высокий мужчина. Выпивавшим мужчина показался и чужаком, и знакомым одновременно; у него было резкое, задубевшее лицо, гнусавый выговор, и свое приветствие он адресовал каждому по имени, а названные опускали глаза и кивали. Хлопнув по стойке, он заказал выпивку для всех и только потом заговорил.
Все, кроме молодежи, конечно, вспомнили этого человека; и теперь они изучали изменения, произошедшие с ним. Много лет назад, бледным, худющим подростком его отправили в одну из колоний, он был послан по разнарядке прихожанами церкви, как многие бедные мальчики до него. Обычно они уезжали, и никто и никогда не слышал о них снова, об их существовании вскоре забывали. Теперь один из них вернулся, как позолоченное привидение, преуспевший, богато одетый. Вернулся назад, чтобы поучать остававшихся дома своими хвастливыми рассказами и деньгами.
Этим утром он сошел с судна в Бристоле, так он сказал, нанятый экипаж застрял в снегу, поэтому он завершил свой путь пешком. Он направлялся в коттедж своих родителей, чтобы преподнести им рождественский сюрприз; еще одна миля вверх по долине, еще одна миля сквозь снега – он просто не мог пройти мимо старого паба, разве же он мог?
Он стоял, картинно отставив ногу, привалившись спиной к стойке, выставив себя на обозрение всей компании. В угоду его резкому голосу паб сохранял молчание. Люди внимательно разглядывали его. Он там вполне преуспел, рассказывал он. Выращивая коров, он заработал кучу денег. Это довольно легко, если есть характер и не увязнешь в трясине, как некоторые… Старики слушали, а молодые настороженно наблюдали; масляные лампы отражались красными бликами в их глазах…
Он еще раз послал выпивку по кругу, и мужчины проглотили ее. Он рассказывал о мире, о его широте и богатстве. Он выговаривал старикам за их прожитые впустую жизни, а молодым за их безропотное смирение. Они батрачат на Сквайра и фермеров-арендаторов за нищие двенадцать шиллингов в неделю. Они живут на картошке и на поклонах, у них не найти даже жалкого лишнего соверена, они не видели в жизни ничего, кроме навоза и друг друга – ну, может быть, еще Строуда в субботу вечером. Знаете ли вы, чем он занимался? что он видел? что он сделал? Его бурое лицо пылало от виски. Он рассыпал пачку фунтовых банкнот на стойке и выудил массивные золотые часы из кармана. Это ерунда, хвастался он, это лишь малая толика. Они еще увидят его огромную ферму в Новой Зеландии – лошади, экипажи, мясо каждый день, и он никогда, никому не говорит униженно «сэр».
Старики продолжали молчать, проглотив бесплатную выпивку и время от времени хмыкая себе под нос. Молодые, прячась в тени, жадно глазели на мужчину, на его качающиеся золотые часы, и, по мере того, как он все больше пьянел, они все чаще переглядывались, а затем стали незаметно исчезать один за другим…
Внезапно погода снаружи сорвалась в настоящий снежный буран; ночь захлебнулась ослепляющим холодом, деревня плотнее закуталась в одеяла. Когда пивная закрылась и погасли лампы, новозеландец, наконец, собрался уходить – последним. Он отказался от фонаря, объяснив, что родился тут – не так ли? – и заплатил по счету золотом. Потом он застегнулся, прокричал «доброй ночи» и пошагал в сторону воющей долины. Согретый виски и мыслями о близком теперь доме, он быстро поднимался вверх по холму, горланя песню. Нашлись потом те, кто из своих постелей слышали эту его последнюю песню, прорывавшуюся сквозь вой бури.
Когда он дошел до каменного креста, навстречу ему выступила молодежь, тесная компания с набыченными от ветра головами.
– Эй, Винсент? – окликнули они его; он остановился и прекратил петь.
Они били его по очереди, сначала свалив на колени, потом вколачивая в снег. Чтобы обезопаситься, они наносили удары и после того, как он распростерся на земле лицом вниз, но еще стонал. Потом они разрезали на нем пальто, опустошили карманы, забросили тело за изгородь и убежали. Он был без сознания от ран и выпивки; буря бесновалась над ним всю ночь. Он не шелохнулся, оставшись на том месте, где лежал, и утром его нашли замерзшим до смерти.
Конечно, прибыла полиция, но ничего не нашла. Их расспросы натыкались на пустые взгляды. Но история быстро распространилась из уст в уста, ее намеренно довели до нас, детей, она была рассказана каждому взрослому и ребенку, чтобы мы знали все детали и могли спрятать подробности. В конце концов полиция уехала, оставив преступление неразгаданным; но ни мы, ни они не забыли…
Примерно десятью годами позже в деревне умирала одна старушка, и к концу у нее начались нелады с головой. Предмет ее сдвига каким-то образом выплыл наружу: ей казалось, что ее преследуют часы. «Часы, – без конца бормотала она, – они могут найти часы. Попросите мальчиков спрятать их получше». Внезапно у ее постели появился незнакомый мужчина в темном костюме, с блокнотом в руках. И пока она металась и бормотала, он сидел рядом и молча ждал, склонив голову к ее шевелящимся губам. Он был терпелив. Безымянный, он не суетился; он тихо просидел у ее постели целый день с открытым блокнотом, с карандашом наготове, с пустыми страничками, насторожившимися, как уши.
Наконец у старушки на мгновение прояснилось в голове, и она увидела сидящего около нее незнакомца. «Кто это?» – потребовала она у снующей рядом дочери. «Все в порядке, мама», – заботливо ответила дочь. Она склонилась над постелью. «Этот джентльмен – полицейский. Он пришел вовсе не для того, чтобы причинить нам неприятности. Он просто хочет узнать о каких-то часах».
Старушка кинула на незнакомца резкий, ясный взгляд и больше не издала ни звука; она просто откинулась на подушки, сомкнула губы, закрыла глаза, сложила руки и умерла. Это был конец слабости, которая могла бы стать опасной для ее сыновей; и незнакомец в темном костюме прекрасно понял это. Он поднялся, положил блокнот в карман и на цыпочках вышел из комнаты. Ее старый, пошатнувшийся, умирающий мозг был их последним шансом. Никаких других следов давнего события больше не объявилось, и загадка никогда не была решена.
Но молодые люди, которые собрались тем зимним вечером в засаде, продолжали жить среди нас. Я часто видел их в деревне: простые, веселые, тяжело работающие, добрые – надежные главы семейств. К ним никто не относился как к париям, и они явно не жили под каким-нибудь особым напряжением. Они принадлежали деревне, и деревня заботилась о них. В любом случае, теперь они уже все мертвы.
И беды, и сумасшествие не были таким уж личным делом, хотя их старались удержать в рамках деревни. Они разыгрывались перед нашими глазами под аккомпанемент пониженных голосов. Хорошо известен был случай мисс Флинн – самоубийство в Ашкомбе одинокой, отвергнутой красавицы, чей молчаливый, страдающий, отвернувшийся от жизни образ остается со мною до сего дня.
Мисс Флинн жила на другой стороне долины, в коттедже, повернувшемся лицом к Северну, чьи ряды аккуратно покрашенных окон дружно вспыхивали пламенем на закате. Она была высокой, худой, с белой, как одуванчик, огромной копной волос – настоящей прерафаэлитской красавицей. В ее саду, на яблоне, висела маленькая ветряная арфа, которая исполняла собственные мелодии, раскачиваясь под ветром. Мы с мамой часто проходили мимо ее дома и всегда заходили к ней. Но если приближались незнакомые люди, она поступала непредсказуемо – бросалась при виде них или в подвал, или к ним в объятия. Когда мы спрашивали о ней, Мать отвечала уклончиво: «Существуют и другие, гораздо большие, грешники – бедная душа».
Мисс Флинн любила нас, мальчиков, угощала яблоками, трепала волосы длинными желтыми пальцами. Мы любили ее тоже, хотя и побаивались ее метаний, ее волос, ее арфы на дереве, ее странной манеры разговаривать. Красота ее казалась нам замечательной, другой такой женщины в нашей местности не было; ее длинное, снежно-белое, светящееся лицо казалось нам таким же прекрасным и холодным, как у ангела в церкви.
Я помню, когда мы последний раз проходили мимо ее коттеджа. Наши глаза, как всегда, стали искать ее. Она сидела за витражным окном, которое раскрасило ее лицо во множество цветов. Мать весело окликнула ее: «Эй, мисс Флинн! Вы дома? Как поживаете, дорогая?»
Мисс Флинн выскочила к порогу, сначала долго рассматривала свои руки, потом взглянула на нас.
– Такие щекастые мальчики, – услышал я ее голос. – Так похожи на Моргана. – Потом она почему-то подняла ногу и показала на носок туфли. – Мне очень плохо, миссис Эр, – пожаловалась она.
Раскачиваясь на ходу, она пошла к нам, накручивая на палец прядь волос. Ее лицо сияло белизной дневной луны. Мать разразилась квохчущими сочувствующими междометиями, а потом заявила, что западный ветер вреден для нервов.
Мисс Флинн обняла Тони с какой-то отвлеченной страстностью и тяжело уставилась в даль над нашими головами.
– Мне очень плохо, миссис Эр – из-за того, что я должна сделать. Опять моя мать – вы же знаете. Я пытаюсь держаться подальше от ее злого призрака. Но она не оставляет меня в покое по ночам.
Вскоре мы уже спешили прочь, хотя нам, детям, уходить вовсе не хотелось. «Бедная, бедная душа, – вздыхала Мать. – А она ведь почти госпожа…»
Несколькими днями позже, утром, мы сидели у себя на кухне, ожидая, когда Фред Бейтс принесет молоко. Вероятно, было воскресенье, так как завтрак оказался испорченным; а на неделе это не имело значения. Все ворчали; каша подгорела, а чай задерживался. Когда Фред наконец появился на полтора часа позже, его глаза туманились от слез.
– И где же это вы задержались, Фред Бейтс? – закричали сестренки; никогда прежде он не опаздывал. Это был худой, невысокий паренек лет семнадцати, с головой, похожей на ершик для мытья бутылок. Но этим утром кошка не стала виться у его ног, и он не ответил девочкам. Он просто зачерпнул нам нашу обычную меру, сопя и бормоча «черт побери» себе под нос.
– Что произошло, Фред? – взорвалась Дороти.
– А вам что, никто еще не рассказал? – спросил он. Голос был неискренне удивленным, но гордым, это заставило девочек подняться. Они втянули парня в кухню, налили ему чашку чая и заставили на минутку присесть. Потом они обступили его с широко распахнутыми глазами, я видел, что они учуяли происшествие.
Сначала Фред лишь старательно дул на свой чай и бормотал: «Кто бы мог подумать такое?» Но потихоньку, исподтишка, девочки разговорили его, и в конце концов они выудили всю историю…
Он возвращался с дойки; было рано, занималась заря, он как раз проходил мимо пруда Джонса. На минутку он остановился, чтобы швырнуть камень в крысу – он получал по два пенса за хвост, если удавалось ее поймать. Вдруг он заметил, что что-то плавает внизу, в зарослях лилий. Оно колыхалось белым в воде. Сначала он подумал, что это белый лебедь или что-то вроде того, или, в крайнем случае, одна из коз Джонса. Но потом он подошел поближе и увидел, что прямо на него из-под воды смотрит белое лицо мисс Флинн. Ее длинные волосы свободно развевались – что и заставило его сначала подумать о лебеде – и на ней не было ни единой ниточки. Глаза были широко раскрыты, она пристально вглядывалась в небо сквозь воду, как будто смотрела в окно. Да, он испытал такой шок, что бросил ведра с молоком и полез в пруд. Он немножко постоял в воде, убеждаясь: «Это действительно мисс Флинн»; а вокруг вообще не было ни души. Потом он помчался назад на ферму и рассказал там о своей находке, и они пришли и выудили ее оттуда граблями. Он больше не пялился, нет, ему нужно разносить молоко.
Фред посидел немного, прихлебывая чай, а мы смотрели на него с изумлением. Мы все знали Фреда Бейтса, мы хорошо знали его, и наши девочки часто говорили, что он размазня; и вот всего два часа тому назад, совсем рядом, в конце тропинки он видел утонувшую мисс Флинн совсем без одежды. Теперь, казалось, он излучал какую-то жгучую энергию, так что нам всем хотелось притронуться к нему, ощутить его; и возбужденные девочки попытались удержать его подольше и упросить рассказать всю историю сначала. Но он, громко пыхтя, допил чай и покинул нас, говоря, что ему еще нужно завершить свой молочный круг.
Новость вскоре распространилась по всей деревне, женщины начали собираться у калиток.
– Вы слышали?
– Нет. А что?
– О бедняжке мисс Флинн… Взяла и утопилась в пруду.
– Не может быть!
– Да, да. Фред Бейтс нашел ее.
– Правда – он только что пил чай у меня на кухне.
– Не могу поверить. Я виделась с ней на той неделе.
– Я тоже. Встретила ее вчера. Я сказала: «Доброе утро, мисс Флинн»; и она ответила: «Доброе утро, миссис Айрес», – знаете, как она обычно отвечала.
– Она ведь только что ходила в город, это было в пятницу! Я видела ее в Министерстве колоний.
– Бедное, отчаявшееся создание – что же могло заставить ее сделать это?
– У нее было такое милое лицо.
– Так хорошо относилась к моим мальчикам. Она была сама доброта. Страшно даже подумать, как она лежала там.
– Говорят, она была не совсем в порядке.
– Вы имеете в виду ее приятелей?
– Нет, гораздо большее.
– Так что?
– Тс-с-с.
– Ну, конечно, не все знают…
Мисс Флинн утонула. Женщины смотрели на меня, насторожившись. Я повернулся и побежал от них по тропинке. Я горел от возбуждения, нервы натянулись от страха; я рвался взглянуть на пруд. Группка сельчан, включая моих сестер, стояла на берегу пруда, уставившись на воду. Пруд был плоским, зеленым, абсолютно пустым, только молочное облачко прилипло к водорослям. Я спрятался в тростнике, надеясь, что меня не заметят, и тоже уставился на это колышущееся пятно. Это же был тот самый пруд, который задушил мисс Флинн. Очень странно и совсем не случайно. Она пришла сюда одна, голая, ночью, и легла в него, как в постель; она лежала там, внизу, натянув на себя воду, тихо утонув в водорослях. Я смотрел на корни лилий, вьющиеся глубоко внизу, на губчатые листья вокруг. Так вот где она лежала на зеленой подушке, неподвижно, одна, всю долгую ночь, глядя вверх сквозь воду, как через окно, ожидая, когда придет Фред. Одна из моих коленок начала дрожать; я легко представлял ее там, с плывущими волосами и светлыми открытыми глазами, точно так, как Фред Бейтс нашел ее. Я ясно видел ее, слегка увеличенной, как сквозь лупу, и слышал ее нечеткий, сухой голос: «Мне плохо, мисс Эр. Это призрак моей матушки. Она не дает мне покоя по ночам…»
Пруд был пуст. Ее унесли домой на куске забора, женщины видели ее тело. Но для меня, сколько мне дано будет помнить, мисс Флинн останется лежать в пруду.
Что касается Фреда Бейтса, он целый день наслаждался вниманием и приглашениями, куда бы ни пришел. Он повторял свой рассказ снова и снова, выпил дюжину чашек чая. Но его слава совершенно внезапно обернулась для него бедой; потому что последовало еще более зловещее продолжение. Прямо на следующий день, при поездке в Строуд, на его глазах карета задавила человека.
– Дважды за два дня, – говорили сельчане. – Следующий раз он увидит Дьявола.
Фреда Бейтса стали избегать. Мы переходили на другую сторону дороги, встречаясь с ним. Никто с ним не разговаривал и не смотрел ему в глаза, и ему больше не разрешали разносить по домам молоко. Его отослали прочь работать в одиночку в каменоломне, и прошло много лет, прежде чем он смог реабилитироваться.
Эти убийство и самоубийство случились давным-давно, но для меня они все еще события огромного масштаба; острый вкус смерти, неистовство до зубной боли, податливость воде этой отчаявшейся красоты, кричащая кровь на снегу. Они произошли в те времена, когда деревня была для нас целым миром, ее происшествия – это все, что я знал. Деревня представляла собою глубоко уходящую в века пещеру, все еще крепко привязанную к своему гротескному прошлому, пещерой, чьи темные углы загромождали призраки, а законы царили смутные, родовые. Та пещера, которую унаследовали мы, смотрела назад сквозь свои камины, которые вели в наше духовное начало; и до сих пор нас не привели в порядок, не выскоблили начисто электрическим светом, не превратила в горожан Викторианская церковь, не цивилизовали экраны кино.
Это именно то, на что хватило времени для унаследования, для унаследования и смутного узнавания – кровь и вера поколений, которые жили в этой деревне с Каменного Века. Этот непрерывный контакт поколений был, в конце концов, разрушен. И более глубокие пещеры исчезали навсегда. Но, появившись, как исхитрился появиться я, в конце того века, я уловил дуновение чего-то древнего, как ледники. Духи жили в камнях, в деревьях, в стенах, а каждое поле и каждый холм имели по несколько. Старые люди помнили о них и обращались к ним лично. У долины существовали четкие метины – кущи деревьев, потайные уголки в лесу – они носили индивидуальные, древние, полусекретные имена, которые абсолютно точно появились задолго до появления христианства. Тогда в разговорах женщины пользовались этими именами, теперь они уже не употребляются. Существовало искреннее, безбоязненное отношение к смерти и отношение к насилию, как к роду некоего ритуала, который никто не осуждал, но и не извинял.
В нашей серой каменистой деревне, особенно зимой, такие истории никогда не казались странными. Сидя дома среди щебечущих сестер или рядом со старушкой, пережевывающей свои челюсти, я выслушивал подробнейшие детали о десятках жутких случаев – злополучные самоубийства, драки на свободе заснеженных полей, печальные концы беспомощных вдов, заколотых собственными быками, свиньи, пожирающие детей, и так далее. Я выглядывал в окно и видел мокрые стены, черные деревья, клонящиеся на ветру. Для меня эти истории были живыми, случившимися тут, воочию, как прошедшие в незапамятные времена землетрясения. И хоть я слушал их с пересохшим от страха ртом, меня ничто в них не удивляло.
Хоть я родился и недавно, дата рождения не имела особого значения; существовал еще один аспект, который необыкновенно интересовал меня. Смерть была всепроникающей, я видел ее множество раз; она постоянно сопровождала мое детство. Вот кто-то еще ушел. Они уходили ночью, и никто не прятал их ухода. Старухи, блестя глазами, приносили новость, труп отпевали и хоронили; потом на кухне Мать с девочками хором обсуждали последние часы ушедшей. «Бедная старушка. Она боролась до последнего. У нее больше не оставалось сил». Они плакали светлыми слезами, сморкались и весело умывались; точно так же они оплакивали бы и смерть собаки.
Зима была, конечно, самым тяжелым временем для стариков. Тогда они съеживались, как улитки в рассоле. Однажды в воскресенье мы заглянули к чете Девисов, которая жила рядом с магазином. Стоял холодный серый январь, мороз буквально валил с ног, уже трое стариков, каждый в свою счастливую субботу, были отвезены к могилам. Мистер и миссис Девис тоже были древними старичками, но они упрямо боролись за выживание; они следили друг за другом, как мне помнится, с видом расчетливых картежников. В то утро жена принялась обсуждать похороны с Матерью. Мы, мальчики, прижались к огню. Миссис Девис была весела, перебирала присутствовавших на похоронах, оценивая состояние их здоровья. Она покачала белой головой, бросила взгляд на мужа и начала гадать, кто же может быть следующим.
Старик какое-то время слушал, потом подкинул несколько поленьев в огонь и выбил трубку о гамаши
«Лучше бы ты поплотнее заткнула окна, миссис, – проскрипел он. – Старый пидер-ветер совсем оборзел к выходным».
Несколько минут он тяжело дышал и даже немного покашлял. Затем снова впал в блаженное молчание. Жена окинула его острым взглядом, а потом со вздохом повернулась к матери.
– Когда-то приходилось пошевеливаться, чтобы ладить с ним, – сообщила она. – Теперь с ним можно договориться. Он уже не тот, каким я помню его. Годы притормозили.
Муж только хмыкнул и уставился в огонь, делая вид, будто в рукаве у него припрятано еще несколько карт.
Через пару недель он не встал с постели. Он плохо себя почувствовал, и врач сказал, что дело идет к концу. Мы снова пошли в коттедж на берегу поинтересоваться здоровьем старика. Миссис Девис, которая выглядела даже игриво в новой желтой шали, приняла нас в своей похожей на коробок кухоньке – крохотной закопченной пещерке, в которой за долгую жизнь скопилось множество хрупких трофеев, включая какие-то остатки фарфора: часы с ангелочком, свиток с мудрым изречением над камином, бюст Виктории, несколько разбитых чайников и курительных трубок. И гравюра английского солдата на стене.
Миссис Девис варила в кастрюльке овсянку, ее худая спина напоминала круглый садок для угрей. Она пригласила нас сесть, энергично помешала кашу и сама опустилась в плетеное кресло.
– Он плох, – сообщила она, мотнув головой вверх, – и не приходится удивляться. У него много лет немония… легкие – как губка. Он не знает, но мы считаем, ему конец.
Она протянула нам, мальчикам, горсть сухого гороха поточить зубы и уселась поудобнее, чтобы поболтать с Матерью.
– Вот как оно было, миссис Ли. Он заболел в пятницу. Я послала за дочкой, за Мардж. Мы привели к нему двух докторов, доктора Вилльса и доктора Пакера, но они разошлись во мнениях по поводу операции. Доктор Вилльс, знаете ли, вообще не верит, что нужно резать, поэтому он прописал мужу курс лечения. Но доктор Пакер, он ужасно увлечен хирургией, он жестко стоял за нож. Но Альберта было ни за что не уговорить. Он сказал, что не намерен быть зарезанным. «Дайте мне немного вареного бекона и оставьте меня ждать», – так заявил он. Конечно, тут я с ним заодно. Правда ведь – если вас разрежут, вам уже никогда не стать, как прежде.
– Давайте я доварю овсянку, – предложила Мать, вставая. – Вы пытаетесь взвалить на себя слишком много.
Миссис Девис рассеянно уступила ложку и плотнее завернулась в шаль.
– Видите ли, миссис Ли, я сидела тут одна весь вечер и перебирала в уме всех, кого Он забрал; и, начиная с фермера Ласти, я насчитала почти сотню. – Она набожно скрестила руки и подняла глаза к потолку. – Дай мне сил бороться с миром и со всем, что мне предназначено…
Позже нам позволили подняться на второй этаж и навестить старика в постели. Он лежал в ледяной, неопрятной спальне, дыхание вырывалось резко, тяжело, тонкие коричневые пальцы впились в простыню, как крючки медной проволоки. Голова казалась черепом, обернутым в желтую бумагу с двумя сверкающими дырами. Волосы дыбом стояли на голове, как примороженная трава на камне.
– Я привела мальчиков навестить вас! – прокричала Мать, но мистер Девис не ответил; он смотрел в сторону, в какую-то сияющую даль, на что-то, чего мы видеть не могли. Последовала долгая пауза, пахнущая одеколоном и постельной пылью, сырыми стенами и яблочным уксусом, применяемым против лихорадки. Потом старик вздохнул и стал еще меньше, осталась лишь яркая влага на подушке. Он облизнул губы, кинул взгляд на жену и издал хриплый полусмешок, полукашель.
– Когда я уйду, – выдавил он, – проследи, чтобы все было пристойно, миссис. Заверни мои достоинства в красный шелковый носовой платок…
Сырые зимние дни временами казались нескончаемыми, и очень часто они приводили к покушениям на собственную жизнь. Девушки прыгали со стен, юноши резали себе вены, старые девы запирались в доме и морили себя голодом. В этих жестах звучало что-то расточительное, презрение к жизни, но и жалоба. Тех, кто прибегал к такому, никогда не осуждали, о них говорили особым, пониженным голосом, как будто такой поступок поднимал их над жизнью и побеждал страдания мира. Кроме того, такие выплески часто становились заразительны и иногда приводили к волнам самоубийств; и действительно, во время одного уж очень мрачного сезона дурному примеру последовал даже один следователь по делам о самоубийствах.
Но если вы умудрялись как-то выдержать свою меланхолию и искалеченные легкие, становилось вполне возможным жить в этой долине долго. Джозеф и Ханна Браун, например, показали пример стойкости. Потому что, сколько я себя помню, они жили вдвоем в том же доме у пустыря. Говорили, что они прожили там пятьдесят лет, что мне казалось вечностью. Они подняли большую семью, и вывели всех детей в мир, и продолжали жить одни, от их шумного выводка не осталось ничего, кроме фотографий и нескольких зачитанных писем.
Старики жили друг для друга, как молодожены, довольные жизнью и самодостаточные; они никогда не покидали ни деревни, ни друг друга, они жили в своей скорлупе, как два прильнувших каштанчика. Днем из их камина вился голубой дымок, вечерами светились красные окна; коттедж, когда мимо него проходили, заявлял: «Тут живут Брауны», они как бы стали частью самой природы.
Седые и высохшие, они были достаточно активными, но распоряжались своими жизнями без спешки. Старушка готовила, кидала корм цыплятам, развешивала постиранное белье на кустах; старик приносил дрова и рубил их топориком, немножко возился в огороде, иногда сидел на улице и смотрел на долину или просто дремал. Когда наступало лето, они заготавливали фрукты и овощи, а когда приходила зима – ели их. Они не делали ничего сверх необходимого для выживания, но то, что делали, делали основательно, умело – потом сидели рядышком на своей кухне с часами-ходиками, наслаждаясь полувековой тишиной. Кто бы ни зашел навестить их, получал степенное приветствие, будь то человек, животное или ребенок; по мне, они походили на двух рыжевато-коричневых муравьев, медленных, но искусных в своих действиях; довольно прожорливых, но бережливых к пище, с бесконечным запасом спокойствия. Они разговаривали друг с другом только тихим голосом, короткими, щебечущими фразами, похожими на птичье пение, а когда они двигались в своей крохотной кухоньке, они делали это очень плавно, вслепую скользя по обкатанным знакомым рельсам, никогда не сталкиваясь и не мешая друг другу. Они были любящие, розовощекие, похожие на две вишенки, проросшие друг в друга за долгие совместные годы, с одинаковой внешностью и даже выговором.
Казалось, что старые Брауны принадлежат вечности, и чудо их выживания стало возможным благодаря длительности их любви – если можно это назвать любовью – такой вот баланс. Затем внезапно, буквально за пару дней, их обоих подкосила слабость. Выглядело это так, будто бы две машины, притертые и синхронизированные, сломались одновременно. Их взаимозависимость была такой легендарной, что мы сначала не заметили их состояния. Но через неделю отсутствия их возле дома соседи решили, что надо бы зайти. Они нашли старую Ханну на кухонном полу. Она кормила мужа с ложечки. Он лежал в углу, слегка прикрытый циновкой. И оба они были слишком слабы, чтобы подняться. Она нарезала тарелку корок, объяснила старушка, но не смогла разжечь огонь. Но они в порядке, правда, просто немножко обессилены; они справятся, не стоит беспокоиться.








