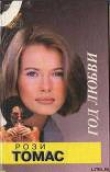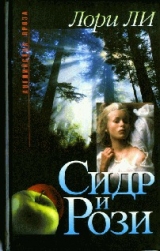
Текст книги "Сидр и Рози"
Автор книги: Лори Ли
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Сообщили властям; наконец, нашлось занятие для Дам Попечительниц. И было решено, что им нужно переехать. Они стали слишком слабыми, чтобы помогать друг другу, а их дети слишком далеко, слишком заняты. Есть лишь один выход; и это к лучшему; их нужно перевезти в Приют.
Старички были шокированы и напуганы, они лежали, схватившись за руки. «Приют» – это слово позора, серые тени, попадающие за забор жизни, то, чего больше всего боятся старики (даже когда это называется Больница); слово, ненавидимое больше, чем слова «долг», или «тюрьма», или «попрошайничество», или даже позор сумасшествия.
Ханна и Джозеф поблагодарили Дам Попечительниц, но взмолились оставить их дома, сделать так, как они хотят, беспокойства не будет, просто оставьте их вместе. Приют не мог предоставить им милость, которая им необходима, он может лишь разделить их из благородных побуждений. Для них лучше спрятаться и умереть в канаве или от голода на родной кухне, среди предметов, которые окружали их всю жизнь – потертый, пустой стол, тарелки и сковородки, холодная плита, белые, остановившиеся часы…
– За вами будут хорошо ухаживать, – убеждали Дамы, – и вы будете видеться дважды в неделю. – Бодрые, деловые голоса авторитетно обхаживали, а старики не привыкли оказывать сопротивление. Поэтому, в тот же день, бледных и безмолвных, их забрали в Приют. Ханна Браун была уложена в женском крыле, а Джозефа положили в мужское отделение. Впервые за пятьдесят лет их разделили. Они больше не увиделись, так как через неделю обоих не стало.
Меня потрясла их смерть, как никакая другая, как и убивающая доброта Властей, которые все организовали. Разделенные, их жизни ушли из них, они прекратились, будто по молчаливому согласию. Их коттедж стоял пустой, беззвучный, с запертой дверью на краю пустыря. Камни быстро стали холодными и отталкивающими, жизнь ушла отсюда слишком внезапно. Через год он упал – сначала крыша, потом стены, он рассыпался и утонул в зарослях шиповника. Его распад был таким неистовым и непреодолимым, как будто старики разграбили его сами.
Вскоре все, что осталось от Джо и Ханны Браун, и от их длинной жизни вместе, это кучка заросших травой камней, заброшенный сад, несколько проржавевших кастрюль и куст одичавшей розы.
Мама
Моя мать родилась в Глочестере, в деревне Кведжли, примерно в начале 1880-х. По линии матери она происходила из длинного рода Годсвольдских фермеров, которые лишились своих земель после бесконечного ряда бедствий, в котором пьянство, наивность, игра и воровство составляли более или менее равные доли. Со стороны отца, Джона Лайта, кучера из Беркли, она имела какую-то таинственную связь с Замком, что-то неясное и интимное, полузабытое, кто знает, что? – но подразумевающее где-то вдали кровную связь. Действительно, говорили, что вассал по имени Лайтли возглавлял убийство Эдварда II – по крайней мере, таково было убеждение местного учителя. Мать принимала эту историю со стыдом и удовольствием – таким же образом слух смущает и меня до сих пор.
Но какова бы ни была законная знатность ее предков, Мать родилась в заурядной бедности и была единственной сестрой среди большого количества мальчиков, ответственность за которых она неистово несла всю жизнь. Отсутствие сестер и дочерей – предмет ее постоянных сожалений; братья и сыновья занимали все ее время.
Она была, как мне кажется, живым и мечтательным ребенком, с любознательным, жаждущим умом; и ей была дана неуместно элегантная внешность, которая всегда не соответствовала ее окружению. К тому же она была гордостью школьного учителя, который делал все от него зависящее, чтобы защитить и развить ее. В то время, когда деревенская школа была не более чем палочно-воспитательной интерлюдией, в которой мальчики набирались не так знаний, как синяков, а девочек едва выучивали считать, мистер Эжолли, школьный учитель в Кведжли, выделил одного способного ребенка, заметив его жадный интерес, оригинальный и неукротимый. Это был пожилой человек, который вбивал рудименты знаний в несколько поколений фермеров. Но в Анни Лайт он увидел искру интеллигентности, которую, как он чувствовал, он обязан был взрастить и сохранить.
– Мистер Джолли был по-настоящему образованным человеком, – рассказывала нам Мать, – и из-за меня ему досталось много огорчений. – Она хихикнула. – Он часто оставался после занятий, чтобы помочь мне с арифметикой – цифры никогда мне не давались. Я и сейчас вижу его, как он вышагивает взад-вперед, подергивая короткий белый ус «Анни, – обычно говорил он, – у тебя чудная рука. Ты пишешь лучшие сочинения в классе. Но ты не умеешь считать…» И я, действительно, не умела; цифры будто вязали меня внутри в узлы. Но он был терпелив; он заставил меня научиться; и он давал мне читать свои замечательные книги. Он мечтал, чтобы я стала учительницей, видите ли. Но, конечно, отец и слышать не хотел об этом…
Когда ей исполнилось тринадцать, мать заболела, и девочке пришлось оставить школу. На ее руках оказались пять малышей-братьев и отец, за всеми нужно было ухаживать, и некому было помочь. Ей пришлось отложить книги и тайные амбиции, что от нее, естественно, и ожидалось. Учитель был в ярости и обозвал ее отца подлецом, но не в силах был вмешаться. «Бедный мистер Джолли, – с любовью вздыхала Мать. – Он так и не сдался. Он часто приходил к нам домой и, пока я стирала, рассказывал мне об Оливере Кромвеле. Обычно он сидел, такой печальный, и объяснял, какой это грех и позор, а отец только издевался и ругался…»
Может быть, во всем свете не было существа, менее приспособленного воспитывать пять взрослых братьев, чем эта мечтательная, полувзрослая девочка. Но, по крайней мере, она делала, что могла. Постепенно она оформилась во взрослую девушку с пышными волосами, стремительную в домашней работе, но с приступами рассеянности, порой впадающую в транс над горой овощей. Она жила больше ожиданием, чем домом: мистер Джолли и его книги погубили ее. В редкие часы отдыха она делала высокую прическу, втискивала тело в облегающее платье и садилась у окна, или уходила далеко в поля – там она сердцем впитывала поэзию, иногда набрасывала пейзажи нежными, как снежинки, мазками.
Для остальных деревенских девушек Мать была особым случаем, но их тянула к ней, как ни странно, сила ее фантазий. Ее безумная веселость, ее изобретательность, остроумие и элегантность манер, должно быть, интриговали и сбивали их с толку в равной степени. Когда они собирались вместе, временами случались и ссоры, и слезы, они ревновали и обзывались. Но избранный кружок девушек Кведжли, в котором Мать была раздражающим центром, продолжал существовать. Ходили по кругу книги, организовывались экскурсии, острые язычки ставили в тупик юношей. «Бити Томас, Ви Филлипс – мы постоянно подшучивали над ними. Бог знает, что мы вытворяли. Были просто ужасными ».
Когда братья стали достаточно взрослыми, чтобы ухаживать за собой, Мать ушла в прислуги. Надев свою лучшую соломенную шляпку, с обвязанной шпагатом коробкой в руках, семнадцати лет, стройная, полузадумчивая, полувозбужденная, она одна вышла в мир больших домов, которые в те дни почти целиком поглощали ей подобных. Посудомойка, горничная, няня, уборщица в богатых домах по всему западу – там она увидела роскошь и изысканность, которые никогда не смогла забыть, и к которым она некоторым образом принадлежала по рождению.
Понятие Госпожа, как и понятия Любовь и Театр оставались с нею до конца ее жизни. Из-за нее эти понятия прилипли и к нам. «Настоящая Госпожа не будет такого слушать, – часто говорила она, – Госпожа всегда сделает вот так». Тон ее голоса, когда она обращалась к этим темам, становился полным благоговения, благовоспитанности и тоски. Она говорила о стандартах культуры, уровня которой мы и не надеялись никогда достичь, и только сетовали о невозможности совершенства.
Изредка на кухне, например, перед жалкой пищей, которую едва наскребли, Мать заносило в дальние уголки памяти. Тогда в ее подернутых дымкой глазах появлялся огонек, а телу возвращалась особая осанка, она легко раскидывала по столу тарелки и грациозно переплетала пальцы…
– На обед они так накрывали каждое место; персональный прибор каждому гостю… – Мы угрюмо усаживались за свою зелень с беконом: теперь не существовало способа ее остановить. – Серебро и салфетки обязаны лежать строго, как положено, полный комплект около каждой тарелки… – Наши старые гнутые вилки должны были выстраиваться по линеечке, а не валяться беспорядочно по всему столу. – Прежде всего дворецкий подал бы суп (хлюп-хлюп) и начал бы обслуживание с дам. Потом бы последовала речная форель или свежая семга (шлеп-шлеп), слегка приправленная зеленью и соусом. Затем вальдшнепы, а может быть, цесарки – о да, и запеченный окорок обязательно. И холодная ветчина в буфете тоже, если желаете. Конечно, только для джентльменов. Леди никогда не едят много, лишь чуть-чуть. Почему нет? – О, это считалось дурным тоном. Затем повар присылал фиалковые пирожные и, непременно, грецкие орехи и фрукты в бренди. Вам бы, конечно, с каждым блюдом подавали вино, причем каждое в свой бокал… – Ошеломленные, мы слушали, скрипя зубами и глотая слюни в пустые, голодные желудки. Тем временем Мать напрочь забывала о нашем собственном супе, который тут же убегал и гасил огонь.
Но у нее были и другие рассказы о жизни Большого дома, которые мы находили все же менее раздражающими. О череде балов с их блестящей публикой, о сверкающих свечами люстрах. (Мы вычищали бочку огарков на следующее утро.) А еще о помолвке мисс Эмили. (Ну и картинка же она была – нам позволили глянуть на нее одним глазком с лестницы. Чтобы сделать ей прическу, приезжал парикмахер из Парижа. Платье украсили тысячей жемчужин. На галерее разместились скрипачи в черных сюртуках. Все джентльмены – во фраках. Затем танцы – полька, тустеп, шотландка – о, мои милые, меня уносило прямо на небо. Мы толпились на верхней площадке, подслушивая; я знаю, я тогда была дрянной девчонкой. Я подхватила буфетчика и потащила его танцевать. «Пошли, Том», – и мы танцевали в коридоре. Но дворецкий увидел нас и надавал нам пощечин. Ужасный человек, этот мистер Би…)
Перед балами у девушек начинались длинные, тяжелые дни: подъем до восхода, вас знобит от желания спать, но нужно разжечь двадцать-тридцать каминов, потом подметать, скрести, вытирать пыль и полировать – пусть это уже делалось, нужно делать снова; перемыть пирамиды хрусталя и серебра; стремглав носиться вверх-вниз по лестницам: и еще эти несносные звонки, которые начинают звонить без конца как раз в тот момент, когда вам наконец удается чуть-чуть дать передохнуть ногам.
Заработок был пять фунтов в год, за четырнадцать часов работы в день и маленькую мансарду для провального сна. В остальном – служебные помещения в подвале с кастовой системой, более жесткой, чем в Индии.
И все равно под лестницей шла нормальная жизнь, это было «дно», но с теплом и одеждой, обильным столом, накрытым для всех, уютно бок о бок, с жареным мясом и кружкой портера каждому. Руководимые деспотичным или подобревшим от джина дворецким, и порой едким, а порой веселым разжиревшим поваром, молодая стайка девушек, конюхов и лакеев бурлила и варилась в одном бульоне. Случались ухаживания в коридорах, жгучая любовь в прачечной, пламенные поцелуи за шторами зеленого сукна – такие приключения и свидания заполняли редкие часы, когда ряды бронзовых колокольчиков молчали.
Как Мать вписывалась во все эти дела? – думал я. Что могли сделать с нею те королевы гостиных с аккуратными пальчиками, чопорные горничные, царственные повара, свирепые няни – все те, кто помыкал ею, озорной, с неразберихой в голове, полной сверкающих фантазий, глупенькой, полуразбуженной интересом ко всему вокруг? Она была чем-то абсолютно вне их мира и часто становилась причиной раздражения. Но она пользовалась популярностью внизу, в холлах, стала чем-то вроде и талисмана, и клоуна; к тому же она была красива, необыкновенно хороша в то время. Вероятно, она даже не догадывалась об этом, но ее фотографии ясно показывают правду; а она только удивлялась, что ее замечают.
Два рассказа особенно ясно отражали ее эмоциональность. Я помню их очень хорошо. Каждая история – не более чем инцидент, но когда она рассказывала их нам, они звучали восторженно, что не позволяло нам считать их избитыми. Мне пришлось выслушивать их множество раз, особенно в последние ее годы. Но при каждом повторении она вспыхивала и сияла, опускала взгляд вниз, на свои руки, с удивлением, снова и снова переживая те две необыкновенные встречи, которые на мгновение подняли ее над Анной Лайт, прислугой, на трон из мирта.
Первый случай имел место в конце века, когда Мать работала в доме в Кавистоне. «Это было старинное здание, ну, ты знаешь, очень обшарпанное, темное и довольно примитивное. Но они принимали много гостей – не только знатных, но из всех слоев общества, даже иногда чернокожих. Их хозяин объездил весь мир и был джентльменом с характером. Мы никогда не знали, на что напоремся в следующий момент, – это временами надоедало нам, девушкам.
Ну и вот, однажды зимой они устраивали большой прием, и дом был переполнен гостями. Было слишком холодно, чтобы пользоваться туалетом на улице, но всего один туалет располагался в доме, в конце коридора. Прислуга не имела права пользоваться им, конечно, но я решила, что заскочу туда на секундочку. Но, представь, только я протянула руку к двери, она внезапно распахнулась. И за ней, огромный, как слон, стоял индийский принц, в тюрбане и с драгоценными камнями в бороде. Я почувствовала себя ужасно, знаешь ли – я ведь была всего лишь девушкой в доме – хорошо бы, чтоб земля поглотила меня. Я сделала реверанс и сказала: «Извините, Ваше Высочество», – я чувствовала себя парализованной, ну, ты же понимаешь. Но он только улыбнулся, сложил руки на груди, низко поклонился и ответил: «Пожалуйста, мадам, входите». Я гордо подняла голову и вошла, и воспользовалась туалетом. Вот так. И почувствовала себя Королевой…»
Второй случай Мать всегда описывала так, будто в реальности его никогда не было – каким-то особым, утренним, туманным голосом, который отделял событие от обычной жизни. «Я тогда работала в большом красивом доме в местечке с названием Фарнхамсуррей. В свой выходной по субботам я обычно ходила в Альдершот навестить подругу Ами Ледышку – Ами Хоукинс, которая жила в Черчдауне до того, как вышла замуж, вот. Ну и как раз в эту субботу я постаралась одеться получше и, думаю, выглядела, как картинка. На мне были чудесные ботиночки на шнуровке, полосатая блузка со стоечкой, новая шляпка и вязаные перчатки. Я пришла в Альдершот немного рановато, поэтому решила прогуляться по городу. Ночью прошел дождь, и улицы сверкали, я как раз стояла совсем одна на тротуаре. Когда внезапно из-за угла, неожиданно для меня, показался взвод солдат при полном параде. Я застыла, как парализованная; все эти мужчины и я одна; я не знала, куда смотреть. Офицер впереди – у него были роскошные усы – поднял саблю и скомандовал: «Равнение направо!». И тогда, ты не поверишь, забили барабаны, взревели трубы, и все как один, красавцы-парни промаршировали мимо меня, повернув головы и глядя мне прямо в глаза. А я стояла совсем одна в выходной одежде, и у меня перехватило горло. Все эти барабаны и трубы, и салют для меня одной – и я заплакала, так это было волнительно…»
Наш дедушка решил оставить лошадей и пойти в питейный бизнес. Он стал хозяином в «Пахаре», маленькой гостиничке в Шипскомбе, и когда бабушка умерла, год или два спустя, Мать ушла со службы, чтобы помогать ему. То были дни простых напитков – эля за пенни, рома за два пенни, домашнего сидра, но до шатания, до грубости. Мать не одобряла такую жизнь, но она справлялась благодаря силе духа. «Именно там я научилась быть вышибалой, – рассказывала она, – и немало пьяниц получило по заслугам! Паг Солларс, например; самый громадный бычина в Шипскомбе – сидр доводил его до сумасшествия. Он хватал столы и крушил их, как зверь, а посетители прятались за пианино. «Анни! – молили они, – ради Бога, спаси нас!» Я одна могла справиться с Пагом. Бессчетное число раз я хватала его за ворот и гнала к выходу. Да и других тоже – если они доводили меня до ярости, я просто вышвыривала их на улицу. Отец проявлял слишком большое терпение, поэтому мне приходилось делать эту работу… Они до сих пор ухмыляются, когда видят меня».
Гостиница «Пахарь» была построена как одна из ряда станций на старой каретной дороге в Бердлип; но во времена Матери дорога пришла в упадок и не служила больше главным путем хоть куда-нибудь. Одна или две кареты, проезжавшие по старой привычке, еще пользовались дорогой и гостиницей. Мать подавала им эль и бекон на ужин и укладывала их спать в конюшне. Иными словами, очень мало путешественников следовало этим путем, и дорога, в основном, была пуста. Поэтому долгими часами Мать могла предаваться праздным мечтам, нарядившись в лучшее платье и сидя на террасе, читая или рисуя цветы. Она была молодой, одинокой, таинственно-отрешенной, с приятным лицом и фигурой. Большинство деревенских парней боялись ее буйного темперамента, исключительного ума, непредсказуемых интеллектуальных опытов.
Несколько странных лет провела Мать в этом деревенском пабе, живя двойственной жизнью, переключаясь с грубости бара на террасные медитации и ожидая, пока пролетят молодые годы. Дедушка, со своей стороны, проводил все время в винных погребах, играя в подпитии на скрипке. Владение гостиницей определялось для него так же, как Шоу определял женитьбу – как некое сочетание максимально приятного и, по возможности, максимально доступного. Поэтому он появлялся редко и лишь поздно вечером, когда выныривал из отверстия в полу в растрепанной одежде, с мокрым от пьяных слез лицом, распевая «Сынок военного».
Он намертво присосался к Матери, которая разносила выпивку, старела и ожидала избавления. Однажды она прочитала в местной газете: «Вдовец (четыре ребенка) ищет домоправительницу». К этому времени она уже была по горло сыта Пагом Солларом и звуками скрипки из подвала. Поэтому, переодевшись в лучшее платье, она отправилась на террасу, расположилась там и ответила на объявление. Вскоре пришел ответ, ее предложение приняли; так она встретила моего отца.
Когда она перебралась в его крохотный домик в Строуде и начала ухаживать за четырьмя малышами, Матери уже исполнилось тридцать, но она все еще была очень хороша. Я думаю, она никогда раньше не встречала человека вроде него – весьма самоуверенного молодого человека, претендующего на аристократизм. Его самомнение и манеры, музыкальность и амбициозность, его шарм, бойкая речь и приятная внешность захлестнули ее, как только она его увидела. И она немедленно в него влюбилась – сразу и навсегда. Так как она была хорошенькой, тонко чувствующей и обожала его, она привлекла внимание отца тоже. И он женился на ней. А позднее он оставил ее – со всеми своими детьми, часть из которых были и ее.
Когда он ушел, она перевезла нас всех в деревню и стала ждать. Она ждала тридцать лет. Не думаю, что она когда-нибудь поняла, почему он бросил ее, хотя причины достаточно ясны. Она была слишком прямой, слишком естественной для этого перепуганного мужчины; слишком далекой от педантичных законов его жизни. Она была все-таки деревенской девушкой, беспорядочной, истеричной, любящей. С винегретом в голове, озорная, она напоминала галку на каминной трубе, так как строила свое гнездо из тряпок и украшений, была счастлива солнцем, громко вскрикивала при опасности, гордилась, была ненасытно любопытна, забывала поесть вообще или ела целый день и пела при виде красивого заката. Она жила по честным, прямолинейным законам, любила мир, не строила планов, имела острый глаз на чудеса природы и не могла содержать дом в идеальном порядке постоянно. А моему отцу нужно было все как раз наоборот, что-то, что никогда не подведет его – защищающий порядок безупречного окружения, которого он, в конце концов, и достиг.
За три года из четырех, которые Мать провела с отцом, она исчерпала долю счастья, отпущенную ей на всю жизнь. Ее счастье в эти годы стало ее путеводной звездой, которая, как она надеялась, приведет отца к ней снова. Она говорила о нем почти с благоговением, удивляясь не тому, что он ушел, а тому, что вообще встретился.
– Тогда он гордился мною. Я умела рассмешить его. «Нэнси, ты – убийца», – говорил он. Он любил рухнуть на ступеньку у двери совсем без сил от смеха, слушая истории и случаи, которые я ему рассказывала. Он обожал меня, любил, как я выглядела; он по-настоящему любил меня, правда. «Подойди-ка, Нэнси, – часто говорил он. – Вынь шпильки из волос. Дай им упасть – смотри, как они сияют!» Он любил мои волосы; он искал в них золотые искорки, когда они рассыпались по всей спине. Поэтому я усаживалась у окна и распускала волосы по плечам – они были такими тяжелыми, вы не поверите – и он перекладывал и устраивал их так, чтобы они ловили солнце, а потом садился рядом и смотрел, смотрел…
– Иногда, когда вы, дети, все были в постелях, он откладывал в сторону книги. «Давай, Нэнси, – говорил он, – я уже наелся книгами. Споем что-нибудь!» Мы шли к пианино, я садилась к нему на колени, и он играл, обхватив меня руками. А я пела ему «Killarney» и «Only Rose» – две его любимые…
Когда она рассказывала нам историю своих отношений, это уже был вчерашний день – его околдованность ею. А позднее возникшее презрение она просто отбросила, и обожаемый снова стал обожающим.
Она улыбалась и не замечала свою удушающую вдовью стезю, всегда надеясь на его возвращение назад.
Но отношения закончились окончательно, он ушел навсегда, так-то вот. Мать боролась за то, чтобы одеть и накормить нас, и ей это давалось достаточно тяжело. Денег никогда не бывало много, вероятно, только-только, чтобы перебиться, несколько фунтов, которые отец высылал нам; но именно ее собственная путаница в голове вынуждала Мать бороться так тяжело, ее паника и неопытность, забывчивость, расточительность и наступающее наводнение долгов. А также взрывы ее своенравности, экстравагантности, которые великолепно игнорировали наши нужды. Рента, как я уже говорил, составляла всего три шиллинга шесть пенсов в неделю, но часто мы отставали в оплате на целые шесть месяцев. Иногда мясо отсутствовало с понедельника по субботу, затем, в воскресенье – баснословный гусь; без угля и новой одежды мы могли жить целую зиму, но потом она тащила нас всех в театр; Джека, оставшегося без ботинок, вдруг вели в дорогую фотографию или вдруг прибывал новый спальный гарнитур; затем нас всех застраховали на тысячи фунтов, а полисы теряли силу через месяц. Внезапно стальные клещи голода сжимали дом, чтобы быть сброшенными следующей оргией займов, причем наши более разумные соседи не раз выплескивали ей очень резкие слова. Люди старались сбежать в сторону, увидев, что мы приближаемся.
Несмотря ни на что, Мать верила только в хорошее и, отдельно, в газетные конкурсы. Кроме того, она свято верила, что если вы похвалите товары какой-либо фирмы, они засыплют вас образцами и деньгами. Однажды ей заплатили пять шиллингов за отзыв, который она послала в фирму пищевых продуктов. С тех пор она бомбардировала рынок письмами, отправляя по несколько каждую неделю. Восторженными фразами, вознося их за сверхъестественные достижения, она элегантно намекала на новые горизонты, открываемые только из-за, или спасение только благодаря: порошкам от головной боли, бутылям с липовым соком, вытяжке из говядины, искусственным сосискам, мыловарням, торговцам предметами любви, чиновникам, штукатурке на кукурузной муке и Королям. Она никогда больше не получила ни пенни за все свои усилия; но таков был ее стиль, страстность ее натуры и убежденность, что письмо обязательно напечатают. Подборки вырезок с заголовками «Благодарный страдалец», или «После года мучений», или «Я кричала до потери сознания, пока не наткнулась на ваше средство» валялись по всему дому… Она часто зачитывала их вслух громким голосом, полностью забывая об их первичном предназначении.
Одинокая, вся в долгах, вздернутая, сбитая с толку, обреченная на амбиции, которые никогда не осуществлялись, наша Мать все-таки обладала несокрушимой веселостью, которая била, как термальный ключ. Ее смех, как и рыдания, вспыхивали мгновенно, по-детски, и отключались без предупреждения – и без запоминания. Ее эмоции выхлестывались без остатка; она давала вам затрещину в одну секунду и хватала в объятия в следующую, разрушая вам нервную систему неровностью отношения. Если она разбивала горшок или резала палец, она издавала леденящий кровь вопль – а затем полностью и мгновенно забывалась в танце, прыжках или пении. Мне кажется, что я все еще вижу ее неловкую толкотню на кухне; слышу вскрики и стоны тревоги, иногда проклятия, учащенное дыхание при удивлении, резкую команду вещам стоять смирно. Упавший кусок угля поднимал волосы дыбом, громкий стук заставлял ее подскакивать и вскрикивать. Ее мир был лабиринтом малых ловушек и силков, сразу же узнаваемых по крикам и испугу. Мы поневоле подскакивали вместе с нею, сочувствуя, хотя понемногу научились игнорировать эти сигналы тревоги. Они были, в конце концов, не более чем формальным салютом дьяволам, которые хватали ее за пятки.
Часто во время работы, когда не вскрикивала, Мать произносила внутренние монологи. Или рассеянно подхватывала ваше последнее замечание и возвращала его вам, пропев ужасными стихами. «Дай мне кусочек торта», – могли попросить вы, например. «Дать торта? Конечно… И дай мне сердце тоже! Оно без ласки не может. С ним буду добр и смел, моя красавица Нэлл. Пастух ведет своих овец, а я поведу тебя под венец, тра-ла-ла-ла…»
Когда же образовывалась пауза в битье посуды и Мать была в настроении, она выдавала стишата о местных жителях, которые могли ранить, как трезубец:
Миссис Окей
Заставит меня волноваться сто лет:
Попала ей по ноге. Но это – крокет.
Вот типичная острота, структура и свобода стиха. Миссис Окей была нашим местным почтальоном.
Мать, как и Ба Трилль, никогда не жила по часам, непунктуальность была у нее врожденной. Она становилась совсем неуправляемой, когда дело касалось автобусов, и гораздо чаще пропускала рейсы, чем успевала на них. В те дни, когда не существовало еще строгого расписания и только кареты связывали со Строудом, она часто задерживала их на целый час, но когда начали ходить автобусы, она не поняла разницы и продолжала вести себя по-старому. Она не начинала собираться, пока не услышит рожок, доносящийся от Шипскомба. Тогда она наспех нахлобучивала шляпку, мечась по кухне с привычными воплями и стонами.
– Где мои перчатки? Где моя сумочка? Проклятие – где мои туфли? В этой дыре невозможно что-либо найти! Помогите же мне, идиоты – не галдите – из-за вас я пропущу его, уверена. Звонок! Вот он подходит! – Лори, беги и задержи его. Скажи им, что я через минутку буду…
И я мчался на берег, как раз вовремя, как обычно, чтобы увидеть, как заполненный автобус отходит от остановки.
– …Сейчас придет, она сказала. Ищет туфли. И минуты не пройдет, она сказала…
Какая мука для меня; я стоял, сгорая от стыда; водитель дергал звонок, а все пассажиры высовывались из окон и сердито грозили зонтами.
– Опять эта Мать Ли. Снова потеряла свои туфли. Поехали, трогай!
Но тут с берега доносился нежный и веселый успокаивающий голос Матери.
– Иду – эй, эй! Только переложила в другое место перчатки. Подождите секундочку! Иду, мои дорогие.
Отдуваясь и улыбаясь, в съехавшей шляпке, с волочащимся шарфом, таща корзины и мешки, она, наконец, хромая, перебиралась через жгучую крапиву и усаживалась, задыхаясь, на свое место в автобусе.
Если не было ни автобуса, ни кареты, Мать шла четыре мили до магазинов пешком, таща назад, домой, полные корзины овощей и падающих в грязь пакетов чая. Когда она уставала от подобных путешествий, она брала велосипед Дороти, хотя так никогда толком и не освоила механизм. Она была уже вполне счастлива от того, что машина двигается – но загадка того, как он стопорится и трогается, всегда ставила ее в тупик. Проезжающим односельчанам без конца приходилось сажать ее, а чтобы остановиться, она въезжала в изгородь. С кооперативными магазинами Строуда, где она была зарегистрирована как покупатель, она заключила особое соглашение. Успех зависел от быстроты и остроты слуха, а наблюдать саму операцию было огромным удовольствием. Когда она выезжала на последнюю прямую и уже виден был главный вход в магазин, она издавала один из своих знаменитых воплей. Помощник продавца, имеющий особое задание, должен был выскочить из магазина через боковую дверь и поймать ее в объятия. Он обязан был быть молодым и ловким, потому что, если бы он промахнулся и не поймал ее, она бы свалилась прямо в полицейский участок.
Наша Мать по природе была клоунессой, экстравагантной и романтичной, ее никогда не принимали всерьез. Внутри же она лелеяла деликатный вкус, чувствительность, ясность духа, которые, хотя и выколачивались постоянно жестокостью ее существования, все-таки до конца остались не сокрушенными и не отравленными. Откуда она черпала их или как умудрялась сохранять их – Бог знает. Но она любила этот мир и видела его свежим, сохраняла надежду, которую никогда не затягивали облака. Она была актрисой, дарящей с радостью, оригиналкой, хотя никогда не заподозрила этого, даже на мгновение…
Мой первый образ Матери – прекрасная женщина, сильная, щедрая, с налетом породистости, что всегда было заметно под нервной болтовней. Через несколько лет она стала и согнутой, и изношенной, ее природное здоровье быстро подточили более поздние испытания и неосуществленные устремления. На этом втором этапе я помню ее гораздо лучше, потому что на этой стадии она задержалась намного дольше. Я вижу, как она бродит по кухне, опускает сухарь в чашку с чаем, волосы спутаны, шпильки падают, одежда на ней бесформенно горбится, глаза остро всматриваются в игру света, она издает «А-а-а», или «О-хо-хо», или «Ага», рассуждая о Тонксе или пересказывая Теннисона и требуя моего внимания.
Со своей любовью к прекрасному, неубранными постелями, неоконченными письмами, подшивками вырезок из газет, с табу, суевериями, щепетильностью, трепетом перед титулами, с детальным знанием фамильного древа любого королевского двора Европы, она была неорганизованной массой непримиримых противоречий, девочкой-прислугой, рожденной для шелков. И все-таки, несмотря на все это, она вбила в наши нескладные мозги твердую, хоть и незаметную, тягу к красоте. Испытывая наше терпение и трепля наши нервы, она постоянно строила вокруг нас неосознаваемой демонстрацией своей любви интерпретацию человеческого, естественного мира, да так непринужденно и легко, что мы никогда не осознавали этого, но в то же время такого подлинного, что мы не забыли его до конца своих дней.