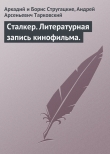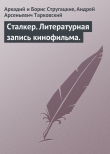Текст книги "Литературная Газета 6297 ( № 42 2010)"
Автор книги: Литературка Литературная Газета
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Прошлое – зеркало будущего
Планетарий
Прошлое – зеркало будущего
КНИЖНЫЙ РЯД

Янис Урбанович, Игорь Юргенс. Черновик будущего . – М.: Институт современного развития, Балтийский форум, 2010. – 347 с.: ил. – 1000 экз.
Эта книга весьма оригинально задумана и написана. Её авторы – граждане разных стран, соучредители постоянно действующего «Балтийского форума»: Янис Урбанович – председатель фракции «Центр согласия» в латвийском парламенте, Игорь Юргенс – председатель правления Института современного развития, попечительским советом которого руководит президент России Дмитрий Медведев.
Кроме того, как утверждают авторы, существует ещё и третий автор. «Зовут его Янис Юргенс. Нет, это не наш псевдоним, состоящий из имени одного и фамилии другого автора. Это реальный человек, третий секретарь ЦК Компартии Латвии в 1946 году, ответственный за сельское хозяйство. Этот человек в трагическое послевоенное время, оставившее глубокий след в памяти многих прибалтов, попытался остановить или хотя бы притормозить идущую в регионе гражданскую войну (некоторое образное представление о ней даёт знаменитый фильм Витаутаса Жалакявичуса «Никто не хотел умирать»). Янис Юргенс был коммунистом с опытом подпольной работы, отличался независимостью суждений.
Используя этот образ «третьего автора», Урбанович и Юргенс ведут диалог о взаимоотношениях России и Латвии, полный драматизма и одновременно ощущения неразрывности многовекового геополитического процесса. Начинается повествование с экспансии Немецкого ордена в Прибалтике и завершается современными проблемами: транзитная экономика, положение русскоязычного населения, перспективы российско-латвийских отношений. При этом раскрываются неизвестные и малоизвестные страницы истории, например такие: во время Гражданской войны в России воевали не только красные латышские стрелки, которые охраняли Ленина и самоотверженно дрались с белыми армиями генералов Деникина и Врангеля, но и латышские белые воинские части у адмирала Колчака. В такой же широкой оптике, позволяющей понимать связь явлений, авторы рассматривают и другие проблемы. Например, во Второй мировой войне мы видим тот же раскол: латыши сражались в составе советских латышских дивизий и в составе вспомогательных легионов СС на стороне гитлеровцев.
То есть политический, социальный и культурный водораздел, берущий начало со времён «германского крестового похода ради христианизации», в видоизменённой форме, можно сказать, существует и поныне. Осознавая это драматическое обстоятельство, авторы подвергают прошлое взвешенному анализу, опираясь на важнейшие события латышской национальной истории ХIХ века, когда под политическим и культурным прикрытием Петербурга вырастала латвийская национальная интеллигенция и как «имевшая немецкое сердце Рига» в конце концов стала латвийской. Особое внимание уделено судьбам «отца латышской интеллигенции» Кришьяна Вальдемарса и «отца нации» Карлиса Улманиса.
Страницы, посвящённые геополитической борьбе великих держав за Прибалтику, читаются как исторический бестселлер. Оказывается, был и «прибалтийский Мюнхен», когда Великобритания, озабоченная умиротворением Гитлера, фактически отвернулась от Риги. И нелишне будет подчеркнуть, что советское руководство понимало специфику Прибалтики и даже рассматривало перспективу создать здесь «второй Гонконг», чего, впрочем, не случилось.
Авторы этой глубокой и непредвзятой книги не обходят острых вопросов, в этом убедительность их позиции. «История – это черновик будущего», – говорят они. Она может быть как разрушительной, так и созидательной.
Виталий ДОНЕЦ
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Как понимать Россию
Планетарий
Как понимать Россию
ВЗГЛЯД

Клаус фон Байме – профессор института политических наук университета г. Гейдельберга, единственный из немцев, входящий в десятку ведущих политологов мира, первый западный политолог, удостоившийся титула почётного профессора МГУ.
– Уважаемый профессор, в современной немецкой политологии для тех, кто хорошо относится к России, придумали насмешливое словечко Russlandversteher – «пониматель России». Что если и вас теперь так назовут?
– А что же плохого в том, чтобы быть «понимателем России»? Я лично считаю это комплиментом.
– Однако у современных немецких политологов и журналистов этот термин носит весьма негативную окраску. Коллеги, «задвинутые» в лагерь «русскопонимателей», теряют в Германии некую политическую салонность. В официальной немецкой русологии к России принято относиться критически…
– По-моему, в данном случае подразумевают не столько Россию, сколько авторитарные тенденции правительства. Разумеется, у нас были – да и теперь есть – учёные, которые, задавая тон критическим исследованиям России, не знают русской культуры, не читают русскую литературу, по-русски говорят плохо, да и вообще почти не бывают здесь. Любой дружеский жест в отношении России они могут расценить как «близость к системе».
Однако я должен сказать, что в современной Германии немало учёных, знающих и любящих Россию. Есть и талантливая молодёжь, не обременённая стереотипами прошлого. Только вот бюджет исследованиям Восточной Европы у нас урезали ещё в 90-е годы, был, например, закрыт широко известный институт в Кёльне. С одной стороны, сокращения оправданны – времена конфронтации закончились, страны Восточной Европы вступили в Евросоюз и в НАТО. С другой – утерян научный потенциал.
– Но Евросоюз эти страны ещё полностью не переварил…
– Да, поляки европеизируются очень быстро, а вот Болгария и Румыния…
– А в перспективе к ним добавятся и новые члены…
– Может быть, когда-нибудь мы примем в Евросоюз и Турцию. Я надеюсь, это будет очень и очень нескоро. Евросоюз сначала должен консолидироваться, разработать действенные механизмы принятия решений, чтобы его новые, пока ещё недостаточно европеизировавшиеся члены не подавили нас количественно.
– Однако в самом ЕС есть мнение, что Евросоюз просто обязан втянуть в себя Украину, да и Грузию тоже… Может быть, мышление в старых категориях конфронтации, застарелая неприязнь к «русским» и желание оторвать у них как можно больше «пространства» перевешивают реальные потребности ЕС в консолидации?
– Единого мнения о будущем ЕС у его членов нет, поэтому и общеевропейские стратегии в вопросах расширения, политики соседства и внешней политики досконально ещё не разработаны, они лишь намечают приоритеты. Я считаю, что нынешний ЕС будет просто не в состоянии переварить такую большую страну, как Украина. Мы и Болгарию с Румынией приняли слишком рано. Вступление Украины не только расщепит Евросоюз, но и повлечёт конфронтацию с Россией.
То же самое относится к НАТО. Если принять в него Украину, то нужно принимать и Россию. Однако её вступление качественно изменит этот блок, по сути, взорвёт его.
С моей точки зрения, оптимальным решением вопроса была бы славянская федерация из Украины, Белоруссии и России. Она стала бы естественным партнёром ЕС и НАТО, тут возможно обширнейшее сотрудничество. Правда, многие у нас считают, что предпосылка такого сотрудничества – демократический общественный строй в этих государствах. А как раз с этим проблемы. По оценкам учёных, разработавших «индекс демократизации», украинская демократия считается «дефектной», российская, извините, – «сильно дефектной», а Беларусь вообще относят к «умеренным автократиям». Поэтому даже если славянская федерация и возникла бы, демократичной в западном смысле она бы не стала.
Однако медлить с сотрудничеством, ожидая, пока эти страны станут совершенными демократиями, – значит упускать шанс. А ведь на постсоветском пространстве столько замороженных конфликтов. Достаточно назвать Крым или Нагорный Карабах.
– Замороженных конфликтов и в ЕС немало, особенно после расширения. Например, немцы всё чаще вспоминают о депортациях гражданского немецкого населения в послевоенные годы, а новые члены ЕС воспринимают это болезненно. Похоже, у них в отношении немцев всё ещё действуют старые нормативы, противоречащие общеевропейскому праву?
– Они недолго ещё будут действовать… Однако, по-моему, вопросы послевоенных этнических депортаций не влияют и не будут влиять на современную политику, они ушли в историю. Я сам – депортированный из Силезии. Однако ни я, ни кто-либо из моих знакомых не думаем туда возвращаться. Конечно, центр памяти жертвам этнических преследований в Европе нужен, хотя бы для молодёжи, но вовсе не обязательно в Берлине, а например, в мультикультурной Праге…
Германия постепенно становится таким же государством, как и все другие. Даже воодушевление европейской идеей, в старой ФРГ необычайно сильное, у нас несколько снизилось. А вот наш политический вес в Евросоюзе возрос. Но в то же время мы, немцы, помним о своей исторической ответственности. Поэтому, например, правый радикализм у нас в стране значительно слабее, чем в других европейских странах. Мне кажется, иногда мы даже слишком помним о своей ответственности. А ведь до Гитлера антисемитизма в Германии практически не было. Дело Дрейфуса было во Франции, не в Германии.
– Немцы говорят иной раз о своих «особых отношениях» с государством Израиль. В рамках ЕС они подчёркивают «особые отношения» с Францией. А вот в России есть немало желающих поговорить об «особых отношениях» с Германией. Правда, в Германии такие рассуждения особого понимания не встречают. Как вы думаете, почему?
– С моей точки зрения, говорить об «особых отношениях» между нашими обоими государствами было бы неверно уже потому, что мы слишком часто бывали в противоположных союзах. Однако я бы сказал, что Россия и Германия имеют более «сентиментальное» отношение друг к другу, нежели, например, к Франции. И у вас, и у нас любят и ценят французский шарм, но эмоционально мы, немцы и русские, ближе друг другу, чем к французам. Если бы Германия следовала политике Бисмарка, Первой мировой войны не случилось. А по-моему, именно та, первая война, и была главным, эпохальным злом – всё остальное, что произошло в ХХ веке, – её последствия.
– Скажите, западные учёные, придумавшие «индексы демократизации», не задавались вопросом, почему трансформационные процессы в постсоветской России пошли в таком… интересном направлении? Ведь Запад поддерживал Ельцина, он открыл страну демократизаторам, они так старались, а результат…
– Направление трансформации в стране в решающей мере зависит от её политических, экономических, да и культурных элит. А в России в отличие от стран Восточной Европы реальной смены политических элит не произошло, они по большей части остались прежними, номенклатурными, только переименовали себя в демократов. Да к тому же ещё и поделили между собой гигантскую государственную собственность. Знаете, так просто не составляли свои первоначальные капиталы даже американские мафиози, тем всё-таки приходилось трудиться…
В студенческие годы, в конце 50-х годов, я впервые приехал в Москву в МГУ – я был первым западногерманским студентом в СССР. Я помню Москву и люблю её. Но когда я сейчас иду по Тверской, вижу, что там не осталось ни одного разумного магазина, кругом только банки да бутики. Пропали и мои любимые книжные магазины. Конечно, модернизация города необходима, я понимаю, но правильным ли путём она пошла? Зайдёшь в подмосковный лес – повсюду кучи мусора. Те, кто застраивает своими особняками подмосковные леса, по-видимому, сами не собираются там жить. Ваши капиталисты хотят заработать, не думая о будущем. Строят уродливо, в ущерб природе! Для меня такая застройка – манифестация бессовестного капитализма!
– А бывает и «совестливый» капитализм?
– Бывает демократическое, конституционное правовое государство, которое укладывает капитализм в строгие рамки закона и не позволяет ему выбиться из них. Именно такое правовое государство жизненно необходимо современной России. Между тем у вас даже Конституционный суд не имеет решающих полномочий.
– В правовое государство, в возможность его построения верилось на рубеже 90-х годов. А вот ныне российские СМИ говорят уже не о праве и законе, а о «ворах в законе» и их разборках…
– Знаете, может, это звучит цинично, но любой капитализм – если брать его естественное развитие – начинается разбоем. Вспомните американскую мафию. Прошли десятилетия – и американский капитализм «нормализовался». Так и в России когда-нибудь да будет нормальный капитализм. В 1990-е годы у России был шанс, не возвращаясь к «первоначальному накоплению капитала» и сопряжённому с ним беззаконию, сразу перейти к демократическому общественному строю и социальному рыночному хозяйству. Однако это небывалый по сложности процесс. Вашим элитам не удалось мобилизовать народ для победы демократии и права. Да они этого и не хотели…
Беседу вела Светлана ПОГОРЕЛЬСКАЯ
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 4,0 Проголосовало: 1 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Что накинешь ты, мама, на плечи?
ТелевЕдение
Что накинешь ты, мама, на плечи?
ЭКРАН ПИСАТЕЛЯ
Герберт КЕМОКЛИДЗЕ, ЯРОСЛАВЛЬ

На телеканале «Культура» в течение одной недели прошли три фильма о больших поэтах, которым в советское время привелось иметь дело с «тоталитарным правосудием», – Иосифе Бродском, Науме Коржавине и Викторе Бокове. И при такой общности воздействия крутящего момента, называемого также моментом силы, в трёх биографиях выявилось неодинаковое отношение к стране, где поэты родились, – к России.
Пятисерийный фильм о Бродском почему-то назывался «Возвращение», хотя его действие протекает не на Васильевском острове, куда поэт когда-то по молодой горячности поклялся прийти умирать, а в Венеции, где он по своему завещанию похоронен. «Возвращение» – это, в общем-то, и не фильм, а развёрнутое интервью, даваемое Бродским в венецианских кофейнях в один из последних годов жизни двум молодым журналистам в присутствии Евгения Рейна, изредка задающего наводящие вопросы и вступающего в саму речь Бродского на правах его старого друга.
Разговор больше идёт о поэзии, о культуре, о гуманизме, но тема России настойчиво просачивается в него, как «водичка», – это слово то и дело употребляет Бродский, как бы соединяя им стоящие на воде Венецию и Ленинград в один застывший в своём совершенстве памятник жизни, где позволено меняться только водичке.
Бродский говорит, что он считает себя лесным братом, партизаном века, что ему не жалко ни гибели старой России, ни гибели СССР и вообще никаких империй, главное, что язык сохраняется, вот сам он говорит на двух имперских языках, хотя самих империй уже нет. Эти слова поглощают покаяние стихотворных строк «Бросил страну, что меня вскормила…» А другие поэтические строки – «…Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря» – вообще никак не подтверждаются биографией их автора.
«Красное колесо» по Бродскому не проехалось, а только задело его идеологической ступицей. Жизнь его в кратковременной ссылке была, по свидетельству Якова Гордина, «нормальной деревенской жизнью». Он мог писать. А что касается вынужденной сельхозработы, то Бродский и сам говорит в фильме, что так же, как и он, шла по утрам по грязи в сапогах получать разнарядку бо’льшая часть населения страны, и не по приговору суда, а по жизненной необходимости.
Наума Коржавина то же «колесо» зацепило сильнее. Его ссылка затянулась: время было ещё не оттепельное, а морозное послевоенное. Но всё же была только ссылка, и это он воспринимает как удачу в сравнении с тем, что могло быть. В передаче «Линия жизни», снятой к его восьмидесятилетию пять лет назад и теперь повторенной на «Культуре», он с уверенностью и не один раз говорит, что наверняка бы погиб, попади в лагерь. А в ссылке всё же можно, как и Бродскому, заниматься и своим главным делом – стихами. Это и в них самих отразилось:
Стопка книг… Свет от лампы… Чисто...
Вот сегодняшний мой уют.
Я могу от осеннего свиста
Ненадолго укрыться тут.
Правда, свист этот непростой, он – напоминание, что ещё не раз придётся промокнуть и застыть на идеологическом холоду.
Боязнь промокнуть и застыть увела Наума Коржавина в Америку, на берег морского залива, но родина для него не то место, где «водичка», а то, где он родился и стал поэтом. И «Красное колесо» не может быть для него олицетворением родины. Как бы споря с Бродским, приветствовавшим распад империй, он публикует в 1991 году статью «К распаду империи отношусь как к распаду жизни». И в разных своих интервью повторяет, что и на сцене в «Линии жизни», – «Без России меня нет». В отличие от Бродского для Коржавина расставание с Россией – это не долгожданная удача, а страдание:
Помнить прежнюю боль,
Прежний стыд, и бессилье, и братство…
Мне расстаться с Тобой –
Как с собой, как с судьбою расстаться.
И не один раз настойчиво: «Как можно быть русским поэтом и не быть русским патриотом? Разве поэзия оторвана от сути страны и жизни?»
Бродский не вернулся в Россию, потому что он не для того её покидал, а Коржавин только потому, что уже не осталось здоровья начинать жизнь заново – «с ложки-плошки». Но после перестройки, хоть и считая, что она «открывает дорогу крайне отрицательным веяниям», Коржавин не раз приезжал. Бродский – ни одного разу.
Фильм «Вспоминая Виктора Бокова» в отличие от фильмов о Бродском и Коржавине приурочен не к юбилейной дате, а к печальной – исполнился год со дня смерти поэта. В фильме есть и стихи, читаемые самим Боковым, и кадры из его жизни, но всё же это как бы поминальный вечер, где звучат проникновенные слова, произнесённые Владимиром Дагуровым, Владимиром Костровым, Ларисой Васильевой… Никто из них не говорит о тяжком испытании, выпавшем на долю Виктора Бокова – не ссыльную, а истинно гулаговскую, – вот по кому безжалостно, с разудалым гиканьем прокатилось «Красное колесо». Да что об этом говорить! Лучше не скажешь, чем у самого поэта:
Утром хлеб выдавали бесплатно,
Я играл на горбушке и пел,
Шли по мне пеллагрозные пятна,
Весь я, словно змея, шелестел.
Но невозможно представить, чтобы даже после всего этого Виктор Боков уехал из своей страны.
Киньте, что ли, в меня презренье,
За терпенье ходить в рабах.
Я стою и целую землю,
И захлёбываюсь в слезах.
Есть два однотемных на первый взгляд стихотворения: у Коржавина и Бокова.
Но у Коржавина вопрос:
По какой ты скроена мерке?
Чем твой облик манит вдали?
Чем ты светишься вечно, церковь –
Покрова на реке Нерли?
У Бокова ответ:
Когда возводили собор Покрова на Нерли,
Всё самое лучшее в сердце своём берегли.
И каждый положенный камень был клятвой на верность,
Вот в чём красота и откуда её несравненность!
Это клятва на верность России, с которой поэт никогда не был разделим, ни физически, ни духовно, и никогда разделим не будет. Что же до модных ныне словопрений, будет ли жива Россия, то трагедия, пожалуй, может произойти только тогда, когда вместо боковского «Оренбургского платка» станут петь за российским застольем что-нибудь в разэдаком роде:
Нами правят теперь издалече,
Проморгали мы собственный бренд,
Ты накинь, май дир мазе, на плечи
Заграничный платок секонд-хенд.
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 5,0 Проголосовало: 1 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Полюбить НТВ...
ТелевЕдение
Полюбить НТВ...
ТЕЛЕАТТРАКЦИОН
Олег ПУХНАВЦЕВ

Бессильная ненависть – отвратительное чувство. Смотришь в упор, вяло перекатываешь языком слюну, но как в дурацком сне – парализован. И чтобы примириться со злом, начинаешь вдумчиво его изучать, ищешь способ сосуществования. Находишь – нужно верить, что всякое явление, преодолев высшую фазу развития, превращается в собственную противоположность. Примеры: храп в экстремуме будит храпящего, «оранжевые» теряют власть, присвоив звание героя Бандере…
Когда концепция примирения со злом сформулирована, можно смотреть НТВ более-менее спокойно и даже расчётливо: хорошо бы какой-то новый проект переплюнул «Чету Пиночетов» или «Суку-любовь».
Попытка перекодировки

«Бриллиантовая рука – 2» адресована юному зрителю. Алексей Кудашов популяризирует антисоветские идеи на примере безобидной советской комедии. Задача практически неразрешимая, поэтому без манипуляций не обойтись. Журналист тщетно пытается шутить, всё время движется, отвлекая внимание, тараторит. Выводить его на чистую воду – занятие неблагодарное. Всё равно что разоблачать провинциального фокусника на концерте в санатории, кричать из заднего ряда, что знаешь, откуда взялся кролик… Ладно, может, и смешно это выглядит, но всё-таки хочется спросить хотя бы о самом начале «фильма»: с какой это стати Михаил Светлов – «опальный поэт»? При чём здесь его «пятый пункт»? Жил себе не тужил благополучный советский литератор в Камергерском переулке… Однако то, что Гайдай назвал теплоход в честь Светлова, Кудашов почему-то считает «большой фигой в кармане» и тут же по-парфёновски актуализирует: «Это всё равно, что назвать сейчас теплоход «Эдуард Лимонов»…
Кудашовская манера повествования заставляет опровергать не только законченные предложения, но и каждое слово в отдельности, все буквы и даже знаки препинания. Но делать этого, конечно, никто не станет – кому охота разделять на волокна тухлое мясо. И в этом сила «Бриллиантовой руки – 2», залог её неуязвимости. Жанровая непритязательность, нагромождение постмодернистских приёмов, случайный выбор персонажей делают бесперспективной идею какой-либо критики. Так только, побрюзжишь, что потомку древнего рода Михалковых – Артёму – достался сомнительный текст: «В самой читающей стране мира даже проститутки цитируют классику. Лев Николаевич Толстой, «Воскресенье». «Невиноватая я», – истошно кричит в суде отравившая купца Катюша Маслова»…
Внутри «фильма» рядом с Пенкиным, Гошей Куценко, Светличной, Светлаковым и всеми-всеми остальными неожиданно появляется главный идеолог НТВ, верный парфёновец, директор «праймового вещания» Николай Картозия, который честно объясняет, зачем подарили жизнь проекту «Русский Голливуд»: «Эти фильмы – часть культурного кода российского, советского человека…». Монтажная склейка, мысль обрывается, но ясно и так: речь идёт о перекодировке общественного сознания. Обещают взяться за «Белое солнце пустыни» и «Место встречи изменить нельзя».
Шансов добиться какого-либо зловещего результата, понятное дело, никаких – нужен талант созидания и масштаб замысла «Неуловимых мстителей». К счастью, Кудашов и компания не обладают ни тем, ни другим, их постмодернистская природа позволяет только эксплуатировать и разрушать чужие мифы. Энтэвэшники в принципе не могут опираться на систему ценностей, а следовательно, создать новую мифологию. Значит, и в перекодировке общественного сознания они не преуспеют, хотя бюджет освоят наверняка.
Солодов, Мягков, Глухарёв…
Пиво – Солодов, каша – Быстров, водка – Мягков. Синтетические фамилии в названии брендов ассоциируются с желаемым качеством продукта. Бренд «Глухарёв» создан для той же целевой аудитории, потому и методология нейминга сходна. Подтекст – низкая раскрываемость преступлений, что наверняка должно радовать самых преданных зрителей НТВ – любителей «шансона». Канал решает сложную творческую задачу – эстетизирует блатную субкультуру. В качестве инструмента используется в том числе и синтетический актёр театра «Сатирикон» Максим Аверин.
Аверин/Глухарёв – телепродукт скоропортящийся, а потому следует вовремя выжать из него сок. Для этого НТВ вовлекает зрителя в игру, главный смысл которой – всё время менять правила. Киномиф о классном парне-милиционере будет разрушен с помощью телебенефиса артиста. Глухарь в компании Зверева и Пенкина окончательно утратит брутальность…
В один из вечеров НТВ три часа подряд пиарил свою звезду: показал фильм «Глухарь в кино», «Необыкновенный концерт с Максимом Авериным» и «Женский взгляд Оксаны Пушкиной» – тоже, естественно, с Глухарём. Удивило, что новой звезде НТВ не дали провести новости, хотя со временем, можно не сомневаться, этот недочёт будет исправлен, да и Лилия Гильдеева рано или поздно запоёт: «Хоп, мусорок, не шей мне срок». Последний оплот энтэвэшной респектабельности – новостийную службу – необходимо разрушить во имя целостности концепции.
Культ мультижанровости
В основе этой концепции, во-первых, мантра «НТВ – коммерческая компания»», во-вторых, эстетический принцип мультижанровости. Яркий пример: первое информационное шоу «Центральное телевидение». Вадим Такменёв, которого Союз журналистов России наградил знаком «Символ Свободы», облачён в приталенный концертный пиджак с контрастным кантом, побрит и причёсан с тщательно продуманной небрежностью, что, безусловно, роднит его с Димой Биланом, а следовательно, спорить бессмысленно – перед нами действительно шоу. Шоу не без информации.
Созданный энтэвэшниками культ мультижанровости вовлекает аудиторию в телеэксперимент. Принципы монтажа, ритм, интонация заставляют зрителя реагировать: разговаривать с телевизором, хлопать глазами, стучать ладонями о коленки – быть активным участником действа. Всё пространство канала становится парком развлечений: вот аттракцион криминальной хроники – здесь страшно, вот тир политических разоблачений – здесь увлекательно, вот карусель светской жизни – здесь любопытно, вот зал с кривыми зеркалами, где можно увидеть себе подобных, – отвратительное до смешного зрелище.
Приёмы вовлечения зрителя в процесс, средства манипуляции сознанием столь очевидны и напористы, что интеллектуальная аудитория не выдерживает – переключает канал. И здесь мы приближаемся к самому главному вопросу. Зачем её заставляют это сделать? Почему концепция предполагает отсечение тех, кого можно назвать «мыслящими»?
Профориентация «властителей дум»
Когда в 2001 году НТВ Гусинского–Киселёва прекратило своё существование, возникла проблема: что делать с «командой»? Энергичные журналисты, ориентированные на информационные войны, объединённые корпоративными представлениями о прошлом, настоящем и будущем страны, представляли реальную угрозу. Все эти «носители либеральных ценностей» не могли незаметно исчезнуть в коридорах телецентра – за годы работы на НТВ их значимость была (сколь успешно, столь и искусственно) закреплена в общественном сознании. Для образованщины НТВ стало источником разрушительного вдохновения, того самого, что в советские времена черпалось из эфира «Свободы».
Тогда, в 2001-м, заговорили о стратегии коммерциализации канала. Хотя необходимость реформирования НТВ, конечно, не была связана с отсутствием денег. Решалась другая, более важная задача – разорвать опасную для государства коммуникацию между либеральной общественностью и либеральными журналистами. Когда-то в СССР для этих целей использовали «глушилки». Государственная машина начала XXI века оказалась умнее. Уловка коммерциализации заставила вещать либеральных журналистов в манере, для них абсолютно не свойственной, публикой «властителей дум» стали деполитизированные маргиналы.
С тех пор НТВ превратилось в комфортабельную резервацию для либеральных теледеятелей. В ней собрана скопом самая опасная журналистская порода – продвинутые атеисты. Для поддержания корпоративного духа их брендировали – поставили клеймо энтэвэшников, им дали хорошие зарплаты, но ограничили жёсткими эстетическими рамками.
СВОБОДНЫЙ Монтаж
Кто руководит этой сложной операцией нейтрализации?
Чтобы ответить убедительно, применим принцип, который энтэвэшники называют мультижанровостью. В её основе – эйзенштейновский «монтаж аттракционов», «подвергающий зрителя чувственному или психологическому воздействию, опытно выверенному и математически рассчитанному на определённые эмоциональные потрясения…». Эйзенштейн научился сам и научил потомков свободно монтировать яркие, агрессивные, как будто ничем не связанные между собой сюжеты – «с установкой на определённый конечный тематический эффект».
Итак, кто же он, смотрящий над резервацией? Начнём издалека.
…В ноябре 1965 года у берегов Ливии с борта советского военного корабля Балтийского флота сбежал матрос. Позже он оказался в Мюнхене работающим на радиостанции «Свобода». Франт, модник, экзотическая личность, карьерист – дослужился до главного редактора Русской службы «Свободы», и только в 1986 году выяснилось, что Олег Туманов является агентом КГБ. Угроза предательства заставила тайно вернуться в Москву, где он и скончался в 1997-м.
Здесь должна быть монтажная склейка. Произнесём невнятную фразу, что-то туманное о преемственности поколений, предложим рассказ о другой экзотической личности: моднике, франте, руководителе программы «Либерти лайф», знаковом сотруднике московского бюро радиостанции «Свобода» с 1993 по 1996 год – Владимире Кулистикове, ныне гендиректоре НТВ.
Сошлёмся на анонимных экспертов: «История с Олегом Тумановым доказала, что на «Свободе» работали либо агенты ЦРУ, либо агенты КГБ – других не было».
Присовокупим реальную фразу известного российского журналиста-государственника, пожелавшего остаться неназванным. Вот что он скажет о Владимире Кулистикове, комментируя программную политику НТВ: «Странно, я давно его знаю, он ведь наш человек».
И, наконец, в рамках концепции мультижанровости, продолжая традиции «монтажа аттракционов», присобачим кадры из «Семнадцати мгновений», где Штирлиц отмечает 23 февраля, грустно поедая печёную картошку…
Теперь, когда доказательная база готова, сделаем вывод. «Конечным тематическим эффектом» данного материала является восстановление справедливости. Критические стрелы, которые то и дело попадают в фигуру Владимира Кулистикова, ранят не только его, но и прозорливых зрителей, видящих в работе гендиректора НТВ особую миссию. Да, у этой работы есть издержки: профессия журналиста обесценена, безвкусица стала нормой. Однако решаемую сверхзадачу нельзя не признать более чем актуальной, если мы говорим о самом главном – государственной безопасности: кому-то нужно держать энтэвэшников на поводке.
Длинный поводок, украшенный гламурными стразами, деликатно указывающий направление, даст возможность энтэвэшникам проявить себя полностью, саморазоблачиться. Никто не дискредитирует энтэвэшников лучше их самих. И тогда наверняка вдруг запляшут облака и в соответствии с законами диалектического развития НТВ окажется вывернутым наизнанку: добро победит бабло.
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 4,8 Проголосовало: 5 чел. 12345
![]()
Комментарии: