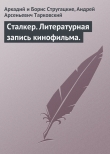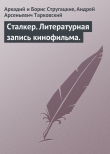Текст книги "Литературная Газета 6297 ( № 42 2010)"
Автор книги: Литературка Литературная Газета
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Высшая степень сосредоточенности
Литература
Высшая степень сосредоточенности

Имя Сергея Яблоновского (1870–1953), популярного журналиста, театрального и литературного критика, поэта и эссеиста, сегодня известно немногим. Родившись в Харькове, в раннем возрасте он печатал злободневные фельетоны, публиковал стихи, прозу, театральную критику.
В 1901 году стал соредактором газеты «Русское слово». Помимо занятий журналистикой Сергей Яблоновский руководил литературными «вторниками», был председателем Общества деятелей периодической печати и литературы, членом Партии народной свободы. После революции активно выступал против большевиков, предпринял попытку освобождения Николая II и был приговорён к расстрелу. В 1920 году эмигрировал.
В Париже писал для газеты «Общее дело», берлинского «Руля», бухарестской «Нашей речи» и других изданий, сотрудничал с «Русской мыслью». Верный политическим убеждениям, Яблоновский состоял в Парижском комитете Партии народной свободы, выступал в Русской академической группе, был членом Союза русских литераторов и журналистов в Париже.
У меня никогда не было самоуверенной и дерзкой мысли – отправиться к Льву Толстому: прежде всего мешало благоговейное отношение к гению и человеку, переросшему всех современных людей. Не позволяло сознание, что к нему и без того стремятся люди со всего света, по большим и малым поводам, подчас и вовсе без всяких поводов, только для того, чтобы поставить его в известность, что в таком-то городе живёт Пётр Иванович Бобчинский. Отнимать у Толстого своею персоною время мне представлялось почти кощунством. А затем: при всём благоговении к Толстому я никогда не был толстовцем, меня никогда не захватывали… нет, не идеи, а те пути, которыми он старался провести их в жизнь. Чужд я был и его религиозных исканий.
Для чего же я отправлюсь? Слушать, что он говорит, и делать вид, что я со всем соглашаюсь? – я для этого слишком искренен; возражать ему? – я недостаточно глуп, чтобы не понимать, что со всеми моими мыслями и взглядами он тысячи раз встречался и в личных беседах с людьми, и в тех самых книгах, которые вырабатывали мои взгляды; что было бы совершенно нелепо думать, чтобы я мог внести хотя бы самую ничтожную… поправку, что ли, в тот склад мыслей, убеждений и выводов, над которыми он так страстно, своими огромными силами, работал с младенческого возраста. Сказать ему: «Позвольте мне, Лев Николаевич, посидеть в уголку, послушать, как вы говорите с другими, дайте посмотреть на вас»? – это было бы слишком претенциозно. И ещё было одно соображение: мне казалось, что Толстой, писавший только о том, что он считал самым важным, и только тогда, когда не мог не писать, переделывавший десятки раз каждую свою фразу, должен с невольным и, может быть, вполне заслуженным презрением относиться к нам, журналистам, пекущим свои ежедневные статьи как блины. Как бы ни были мы искренни, как бы ни переживали то, о чём пишем, как бы ни откликались только на то, что нам действительно дорого и кажется важным (такое счастье выпало на мою долю), всё-таки поспешность писания, касание подчас недостаточно крупных и серьёзных тем – всё это не может не мельчить и заставляет стыдиться, когда подумаешь о тех, кто вынашивает своё остающееся вечно жить творчество.
Вот причины, по которым я не стремился к личному общению с Толстым, и тем не менее я имею от него отклики.
Первый случай описан секретарём Толстого, Гусевым, в его книге: «Два года в Ясной Поляне».
Как-то я получил письмо со штемпелем «Козлова Засека». Жена улыбнулась и шутя сказала:
– Тебе Толстой пишет.
Предположение, которое можно было высказать только в шутку. Писал действительно не Толстой, а его секретарь. Начало письма я помню почти буквально:
«Дорогой С.В. Сегодня Лев Николаевич, выйдя к гостям своим в Ясной Поляне, спросил их: «Читали вы статью Сергея Яблоновского в «Русском Слове»? Она меня тронула до слёз». И Лев Николаевич заплакал».
Склонная к юмору, жена не удержалась:
– Вот видишь, что ты делаешь с подлинными писателями, – плачут, когда видят, как ты пишешь.
Но – к письму:
«Наконец-то люди начинают понимать, о чём я говорю…» и так далее. За полную точность последней фразы я не ручаюсь. Было в нём и ещё одно место, чрезвычайно меня смутившее, но о котором в книге Гусева почему-то не упоминается:
«Лев Николаевич просит, чтобы вы прислали ему двадцать или тридцать экземпляров этого номера, чтобы он мог дарить их своим знакомым».
Это совершенно не влезало в моё сознание. Мне так легко было представить себя, дарящим Толстого, но Толстой, дарящий меня, – это не помещалось в совести. Как поступить? Не посылать? Не будет ли чем-то похожим на дурное жеманство? Да и мне ли рассуждать, если так хочет Толстой? К этому выводу я пришёл дня через три колебаний и наконец попросил контору дать мне нужные экземпляры. Оказалось, что номер разошёлся без остатка. Я вздохнул свободно, но не ответил: из великого смущения. Но оно могло показаться грубостью, и, может быть, поэтому Гусев и не упоминает о просьбе Толстого. Странное дело: такое необыкновенное обращение ко мне того, кто всегда представлялся мне слегка1 мифом, легендой, который, казалось бы, не должен был бы и знать о моём существовании, меня не обрадовало.
А произошло это потому, что я сознавал, что статья, на которую он обратил внимание, не только не возвышалась над обычным уровнем моих статей, но была ниже его: она понравилась Толстому не потому, что была хороша, а потому что говорила о том, что было для него «единым на потребу»2. Перед этим появилось интервью о Толстом, где собеседник упомянул об «Анне Карениной»; Толстой ответил:
– Я не помню этого романа.
– То есть вы не помните его подробностей?
– Нет, я не помню его так, как будто я его не только не писал, но и не читал.
Это, конечно, изумило, и я в статье: «Не помню… забыл» пытался найти причину этого забвения.
Ведь нам представляется, что созданное художником всегда неразрывно с ним: всю жизнь, может быть, даже больше, чем всю жизнь. Поэт, например, спрашивает:
«Ужели Рафаэль, на том очнувшись свете,
Сикстинскую Мадонну позабыл?
Ужели там Шекспир не помнит о Гамлете,
И Моцарт реквием свой разлюбил?»3
А здесь? Отбрасывая, одно за другим, неискренность такого признания, старческую потерю памяти и другие причины, приводя доказательства неправильности таких предположений, я остановился на той великой сосредоточенности, с какою Толстой, отдавшись определённому циклу стремлений и идей, отодвинул от себя весь тот мир, в котором мы живём; сделал его несуществующим для себя.
Гёте сказал: «Гений – высшая степень сосредоточенности». С некоторой поправкой это совершенная правда: не всякая сосредоточенность гениальна, но без высшей сосредоточенности нет гениальности. Дальше я говорил о том мире, в котором Толстой живёт.
* * *
Второе воспоминание: только что выздоровевший в Крыму от тяжёлой болезни Толстой проезжал через Москву в имение Черткова, Телятинки. На Курском вокзале собралась многочисленная толпа. Всё было охвачено возбуждённым любовным волнением. Маленькая деталь: в багажном отделении стоял чей-то гроб, и жена сказала мне, что Толстой может его увидеть и что это может быть ему неприятно. Сказала она это тихо, но оказавшийся вблизи полицейский пристав услышал, горячо поблагодарил за указание и рьяно бросился распоряжаться, чтобы гроб спрятали. Очевидно, и он был охвачен общим настроением.
Толстой показался на платформе, и здесь я, в первый и в последний раз в жизни, видел этого очень маленького ростом человека. Раньше он был, вероятно, среднего роста, но сейчас его спина была колесом. Он был одет в ту блузу, которую весь мир знает лучше собственного платья, в лёгкой белой войлочной шляпе крымского изделия, а описывать его наружность незачем: мне казалось, что я вижу одну из чертковских фотографий. Впрочем, нет, – ни на одной из фотографий не могло быть той подавленности, того ужаса, которые были в глазах Толстого.
Дело в том, что на вокзале и на платформе творилось что-то невообразимое: все рвались увидеть человека, почти переставшего быть человеком, и могла бы произойти новая Ходынка.
Было очевидно, что Толстому страшно не за себя, к тому же он стоял среди пустого круга, охраняемый цепями молодёжи от толпы. Его приводило в ужас, что из-за него сейчас люди могут начать лезть друг на друга, произойдёт стадное, звериное.
Толстой никогда не переносил толпы, никогда не участвовал ни в каких собраниях – это самое характерное в его натуре: и вот… Он стоял, заложив, как на картине Репина, руки за пояс: ему было тяжело, и на него было тяжко смотреть.
Всё, слава богу, окончилось благополучно: Толстой уехал. Я писал об этом проезде, взяв эпиграфом статьи слова Минского:
…«Толпа и внемля Богу,
Лишь воплями, как зверь, умеет отвечать…»4
В ответ я получил письмо, уже не из Ясной Поляны, а из Телятинок: писал не Гусев, а Анна Григорьевна Черткова, которой я никогда не знал и которой так никогда после и не увидел. Она писала, что Лев Николаевич просил прислать мне его портрет. Это была большая, подписанная Толстым фотография – вторая весточка от Толстого.
* * *
А вот и третий отклик, почти тотчас же после этого. В имение Черткова поехал интервьюировать Толстого сотрудник «Русских ведомостей», Нейфельд. Вернувшись, он сказал мне:
– А знаете, вас любят в семье Толстого.
– Почему вы думаете?
– Я застал Толстых за чтением вашей статьи. Сидели Лев Николаевич, Софья Андреевна и обе дочери. Одна из них читала вслух. И он передал несколько добрых слов.
<5> В Литературно-Художественном Кружке ставили мы спектакль литераторов в пользу нуждающихся сотоварищей. Играли «Плоды Просвещения». Участвовали: Телешев, Евгений Чириков, Ходасевич, драматург Гославский, Владимир Гиляровский, Ермилов, Екатерина Экк, я, моя жена, артистки Елшина, Ильнарская, других не помню. На этом спектакле обещал быть и сам великий автор вместе с семьёю.
Лев Николаевич, однако, чувствовал себя не совсем здоровым и не приехал: были Софья Андреевна, Сергей и Илья Львовичи.
По окончании спектакля, который, после множества репетиций под руководством известного режиссёра Синельникова, прошёл очень недурно, мы, исполнители, остались в Кружке ужинать, пригласив Толстых и кое-кого из зрителей. За ужином я сказал, что это редкий случай, когда для любителей словно не существовало публики, – они помнили только о том, что в зале находятся родные Льва Николаевича.
– Да какие же мы родные? – ответил на это Сергей Львович. – Мы родные по крови, а не по духу.
И никто из Толстых на это не возразил. Из памяти моей совершенно исчезло, были ли здесь дочери: думаю, что нет, потому что иначе возражение было бы, мне кажется, неизбежно…
Сергей ЯБЛОНОВСКИЙ
Публикация Владимира ПОТРЕСОВА
1 Зачёркнуто автором, вместо вписано: почти.
2 Святитель Феофан Затворник. «Наставления в духовной жизни»: Единое на потребу надо водрузить в уме и сердце: веру и жизнь по вере в уповании жизни вечной. (Вып. 8,
пас. 1266, стр. 36).
3 К.Р. (Константин Романов). «Нет! Мне не верится, что мы воспоминанья...».
4 Минский Николай. Белые ночи. Гражданские песни.
5 Вписано автором от руки: А вот и еще… (нрзб).
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Демократия по-итальянски
Литература
Демократия по-итальянски
ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

В Большом зале Центрального Дома литераторов состоялась церемония награждения лауреатов VI Международной литературной премии «Москва–Пенне». Четверть века назад культурное сообщество итальянского городка Пенне учредило национальную премию «Город Пенне». Оригинальность премии заключалась в её «некулуарности»: главного лауреата выбирали (и выбирают) очень демократично – голосованием среди читающей публики.
В 1996 году появилась российская «ветвь» премии – «Москва–Пенне». Помимо финансовой поддержки она давала возможность российским авторам перевести и издать свои книги в Италии. С момента её возникновения лауреатами премии становились Борис Васильев, Анатолий Королёв, Григорий Бакланов и другие.
В 2009 году жюри выдвинуло на премию повесть «Сон золотой» Владимира Личутина, роман «Цунами» Анатолия Курчаткина и повесть «Выскочивший из круга» Сергея Юрского. Первую часть церемонии посвятили обсуждению произведений-финалистов. В нём приняли участие авторы, члены жюри, студенты московских гуманитарных вузов и москвичи. Обсуждение завершилось тайным голосованием и выбором главного победителя, которым (с мизерным отрывом от Владимира Личутина) стал Сергей Юрский.
Елена СЕМЁНОВА
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Восемь его языков
Литература
Восемь его языков
ЮБИЛЯЦИИ

Во все времена уровень литературы во многом определяется степенью предъявляемых к ней требований со стороны общества. Критика призвана формулировать эти требования, а это значит, что она и сама должна им соответствовать. Критик кроме всей совокупности знаний, дающих ему право именоваться таковым, должен иметь к тому же и несомненный литературный дар, подкреплённый характером воителя. В этом смысле мнение о том, что объективной, качественной критики у нас теперь почти нет, а есть люди, оценивающие чужие сочинения с точки зрения внелитературных интересов, вполне убедительно.
К счастью, достойные ратники на критическом поприще до конца ещё не перевелись. И среди них – Сергей Андреевич Небольсин, доктор филологических наук, учёный с мировым именем, которого можно смело назвать воспитанником «Литературной газеты».
Дело в том, что его мать, Евгения Михайловна Небольсина, с 1948 по 1980 год работала в ней сначала библиотекарем, а затем библиографом, и Серёжа после школы регулярно приходил на мамину службу, где много читал и буквально варился в литературной атмосфере: к смышлёному и весьма начитанному мальчику проявляли интерес К. Симонов, А. Чаковский и другие.
И впоследствии владеющий восемью иностранными языками Небольсин своим глубочайшим знанием русской и зарубежной литературы приводил в восхищение даже корифеев. Его аналитическое пространство, по сути, включает в себя всех значимых прозаиков и поэтов. На это обратил внимание ещё В. Кожинов, который незадолго до смерти назвал книгу С. Небольсина «Пушкин и европейская традиция» (1999) воистину путеводной, снимающей многие недоразумения во взаимодействии русской культуры с мировой. Исходя из этой оценки Сергея Андреевича можно назвать маяком духовной навигации и поздравить с 70-летием!
Григорий КАЛЮЖНЫЙ
«ЛГ» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес юбиляров и желает своим давним авторам здоровья и творческих успехов.
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
В сражении и любви
Литература
В сражении и любви
ЮБИЛЯЦИИ

Михаил Петрович Лобанов уже давно никого не удивляет, когда без задержек и пауз почти вбегает на верхний этаж Литинститута, где расположена кафедра литературного мастерства. Здесь знаменитый критик и публицист работает почти пятьдесят лет. Не удивляют и лобановские книги и статьи, которые с завидной регулярностью выходят в свет. Библиографию вряд ли стоит приводить, она у друзей и врагов – и тех, и других у Лобанова достаточно – на слуху. От вызвавшей недовольство в политических верхах его знаменитой статьи «Освобождение» до последних мемуаров «В сражении и любви». Слово «любовь» в этом ставшем привычном лобановском словосочетании пропускать не следует…
Меня лично если не удивляет, то восхищает в Лобанове другое, чисто производственное.
Как уже давно известно, заочники всегда в Литинституте пишут лучше и ярче ребят с очного отделения. Это и понятно: они приходят, как правило, в вуз, вооружённые тем, что мы называем знанием жизни, а ребята с очного – очень часто прямо со школьной скамьи: это вопреки творческой логике позволяет закон об образовании. Так вот у профессора Литинститута Лобанова, а ведёт он всегда исключительно заочников, студенты всегда даже среди заочников лучшие. Не буду сравнивать мастеров – все они опытны и имениты, но есть какой-то лобановский феномен в поиске русского таланта и воспитании его в слове. Как это он умеет, я не знаю, впрочем, преподавание любой творческой дисциплины – это не только знание и собственный опыт, но и некоторая магия. В этом ряду уже отмеченное слово «любовь» не лишнее, без любви нет ни мастера, ни ученика.
Со своими учениками Михаил Петрович разговаривает очень просто. Он почти не употребляет иностранных слов и редко пользуется понятиями зарубежной литературы, которую прекрасно знает. Его литература – «святоотечественная». Говорит Лобанов в той манере, которую так любят в Англии и не любят у нас в правительстве и на телевидении: так иногда повторяя и проминая слово, что возникает ощущение только что возникшей мысли. Так оно искреннее и доходчивее.
Лобанову в эти дни исполняется 85 лет, и прошедший войну солдатом литинститутский профессор и писатель не собирается сдаваться, потому что по-прежнему чувствует себя победителем.
Сергей ЕСИН, заведующий кафедрой литературного мастерства Литературного института им. А.М. Горького,
профессор, доктор филологических наук
«ЛГ» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес юбиляров и желает своим давним авторам здоровья и творческих успехов.
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 4,0 Проголосовало: 1 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Перевести, понять, не озлобиться…
Литература
Перевести, понять, не озлобиться…
ЕВРАЗИЙСКАЯ МУЗА

IV Форум переводчиков и издателей стран СНГ и Балтии «Финансирование и продвижение переводной литературы» прошёл в Ереване под эгидой Министерства культуры Армении при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС). В его работе приняли участие более 130 делегатов из 22 стран.
Известная белорусская переводчица Ирина Магдыш как-то сказала: «Без взаимных переводов, минуя языки-посредники, национальные языки обречены на постепенное вымирание. Перевести – это понять. Понять – это не озлобиться».
Как показали последние 20 лет, понимать себя, находясь в национальной изоляции, стало неинтересно, а иногда невозможно. Несколько лет назад лингвисты в Узбекистане заметили, что дерусификация в стране привела не только к тому, что узбеки стали забывать русский язык, но и с родным узбекским у них большие проблемы. Парадокса здесь нет: Хачатур Абовян, Нодар Думбадзе, Василь Быков или Ян Райнис имели на русском языке тиражи, многократно превосходящие национальные. Благодаря русскому языку мир узнал о культурном наследии Азербайджана, Киргизии, стран Балтии… Общая кровеносная система рождала уважение не только к чужой культуре, но и к своей. Обычно принято говорить об обратной последовательности, но сегодня на постсоветском пространстве многие нации находятся в поиске если не национальной идеи, то ключей к пониманию собственной ментальности, потому что про соседей им как будто бы всё уже известно.
Исследователи, позаимствовав термин у Фрейда, говорят о «нарциссизме мелких различий». Это значит: чем малочисленнее нация, тем больше ей нужен чужак или враг, чтобы не сливаться с ним. Всё это привело к тому, что о литературе Германии, Скандинавии, Бразилии или Японии мы стали знать гораздо больше, чем о творчестве тех, с кем проживаем в одной социокультурной исторической парадигме.
Армен Смбатян, исполнительный директор МФГС, приветствуя участников форума в Концертном зале имени Арно Бабаджаняна, отметил, что первые три форума доказали жизнеспособность этого проекта, послужили серьёзным, реальным толчком и стимулом к пробуждению и сближению писательского сообщества в республиках Содружества. Не так давно создано мощное информационное поле – сайт переводчиков стран СНГ и Балтии. Зарегистрирована одноимённая общественная организация
Фонд создаёт общее гуманитарное пространство, которое вырабатывает и универсалии, понимаемые всеми одинаково, и те ценности, которые могут быть вскрыты только при глубоком и всестороннем изучении чужой культуры. Ярким примером последнего является переводческая деятельность украинского литератора, поэта Мирона Нестерчука, в 2001 году отмеченного наградой президента Армении – медалью Мовсеса Хоренаци. Самого Хоренаци, кстати сказать, он знает не только по медальному изображению. В его рабочем столе – перевод на украинский язык «Истории Армении», написанной великим историографом, учеником Месропа Маштоца, рукопись ждёт своего издателя и читателя. В этом году Нестерчук также был награждён медалью, учреждённой Министерством культуры Республики Армения за перевод на украинский язык и издание поэмы Паруйра Севака «Несмолкаемая колокольня».
На форуме прошла двухдневная серия круглых столов. На встрече, где обсуждались пути развития рекламы и распространение переводческой литературы через СМИ, одним из самых заметных было выступление обозревателя агентства «Франс Пресс» Дмитрия де Кошко. Он известен как один из авторов идеи единого культурного пространства от Атлантики до Тихого океана. В этот раз Дмитрий де Кошко говорил, что ещё пять лет назад имидж России во Франции был не особенно высок, и только возврат к изданию русской классической и современной литературы изменил ситуацию. Международная литературная премия «Русофония», учреждённая Фондом первого президента России Б.Н. Ельцина совместно с французской некоммерческой ассоциацией «Франция–Урал», стремится способствовать созданию образа России как неотъемлемой части европейской культурной цивилизации и повышению значения русского языка как сдерживающего фактора в условиях «чрезмерной стандартизации», связанной с распространением английского языка.
В центре внимания участников круглых столов была также «Декларация о поддержке книги», подписанная рядом государств СНГ. Студенты армянских вузов имели возможность встретиться с писателями, переводчиками, журналистами, задать им вопросы, подискутировать.
Ереван, кроме всего прочего, провозглашён Всемирной столицей книги 2012 года. Такое решение принято отборочной комиссией, состоящей из представителей трёх основных международных профессиональных ассоциаций мира книги и ЮНЕСКО.
Валерия ОЛЮНИНА, ЕРЕВАН–МОСКВА
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии: