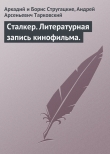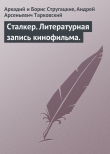Текст книги "Литературная Газета 6297 ( № 42 2010)"
Автор книги: Литературка Литературная Газета
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Русский купец Шлиман
Библиоман. Книжная дюжина
Русский купец Шлиман
ЧИТАЮЩАЯ МОСКВА

В. Воскобойников. Жизнь замечательных детей : Книга четвёртая. – М.: Издательство «Оникс», 2010. – 208 с.: ил. – («Жизнь замечательных детей»). – 5000 экз.
Биографии знаменитых людей изложены в этой книге так, чтобы юным читателям было интересно и весело узнавать о том, какими детьми были Архимед и Дмитрий Донской, Леонардо да Винчи и Авраам Линкольн, Генрих Шлиман и Павел Третьяков, Чарли Чаплин и маршал Жуков… И небесполезно – на кого же ещё равняться, если не на великих? Конечно, книга назидательна, но в меру. Многие дети мечтают найти клад или отправиться в путешествие… Хотя наше время внесло свои коррективы, соблазняя неокрепшие души зрелищами телевизионных шоу – но ведь и истинной звездой сцены суждено стать только тем, кто наделён немалой целеустремлённостью и прочими качествами, которые привели Генриха Шлимана к сокровищам Трои. Мальчик мечтал выучить греческий язык, чтобы прочитать Гомера в оригинале, но его отчислили из гимназии, поскольку у отца не стало денег. Придётся Генриху сменить немало профессий, вынести множество лишений и самостоятельно выучить полдюжины европейских языков, в том числе русский, – и преуспеть в России на деловом поприще. Выучив, наконец и вожделенный древнегреческий, «Генрих Шлиман, русский купец из Петербурга, на свои деньги решился начать поиски древней Трои».
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Дом милосердия
Библиоман. Книжная дюжина
Дом милосердия
ЧИТАЮЩАЯ МОСКВА

200 лет Странноприимному дому графа Н.П. Шереметева. – М.: Типография «Новости», 2010. – 34 с.: ил. – 500 экз.
Книга-альбом посвящена истории одного из самых известных медицинских учреждений Москвы – Институту скорой помощи им. Склифософского. Как известно, «каменная гошпиталь» и странноприимный дом были выстроены на средства графа Николая Шереметева во исполнение воли его любимой супруги Прасковьи Ковалёвой-Жемчуговой. Больница открылась уже после её смерти – в 1810 году – и была рассчитана на сто мест. Первый параграф устава гласил: «Оказывать помощь бедным и убогим, не спрашивая роду и племени». Здание Странноприимного дома – единственный в Москве ансамбль, выполненный знаменитым архитектором Кваренги.
А начато строительство Дома милосердия на Черкасских огородах за Сухаревой башней было «1792 года июня 28», как значилось на монетах, положенных в фундамент. Поставленный графом надзирать за строительством управляющий Алексей Малиновский первым делом осмотрел московские больницы и записал свои впечатления, особо отметив важность благотворительности: «Всякое доброе дело теряет свою цену, как скоро за исполнение его берётся хотя бы малая плата». О том же писал, одобряя проект, и сам император Александр I: «Во всех веках и у всех народов бедные люди, не имеющие способов к пропитанию, болезнями удручённые и от многочисленности семейств своих бедствующие, обращали на себя предусмотрительную внимательность государей и возбуждали сострадание избыточествующих граждан».
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
От центра до окраин
Библиоман. Книжная дюжина
От центра до окраин
ЧИТАЮЩАЯ МОСКВА

С.К. Романюк. Вся Москва : Путеводитель. – М.: АСТ, Астрель, 2010. – 319 (1), с.: ил. – 3000 экз.
В столице находится такое множество достопримечательностей, что для их осмотра нужно не только время, но и опытный гид, в роли которого и может выступить эта книга, написанная известным москвоведом. В издание включён краткий очерк по истории города в целом и подробный рассказ о прославленных соборах и церквях, улицах и площадях, причём не только в центре, но и в исторических усадьбах (Коломенское, Измайлово и другие). Текст богато иллюстрирован многочисленными фотографиями, как современными, так и двадцатых и шестидесятых годов прошлого века. Помимо описания общеизвестных архитектурных и церковных сооружений в книге зафиксирована и народная память: неофициальные названия отдельных домов и целых уголков города.
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Из деревни Клушино
Библиоман. Книжная дюжина
Из деревни Клушино
ЧИТАЮЩАЯ МОСКВА

Юрий Нагибин. Рассказы о Гагарине / Худ. Г. Мазурин. – М.: Дет. лит., 2010. – 93 с.: ил. – 5000 экз.
«Здесь покоятся русские воины, которые в семнадацатом веке гетману Жолкевскому путь на Москву заступили. Страшная была битва. Воевода Дмитрий Шуйский, царёв брат, чуть не всю рать положил. Но и от воинства гетмана не много уцелело. Жолкевский печалился: «Ещё одна такая победа – и нам конец!» Так оно после и сталось…» На таких героических примерах прошлого воспитывает школьная учительница в деревне под Гжатском своих подопечных. А совсем рядом полыхает Великая Отечественная война, недруги снова рвутся к Москве. Слушает учительницу вместе с другими детьми мальчик Юра, сын Алексея Ивановича Гагарина – человека «необычного, мудрёного и очень одарённого… Он всё может: и рассказать, и спеть, и любое ручное дело спорится в его ловких, умелых руках». Семья переживёт тяготы оккупации и послевоенные лишения, а потом мальчишка станет одним из славнейших сыновей Земли – тем, кому впервые доведётся посмотреть на наш шарик со стороны.
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Готика нового времени
Библиоман. Книжная дюжина
Готика нового времени
ЧИТАЮЩАЯ МОСКВА

Архитектурная сказка Фёдора Шехтеля : к 150-летию со дня рождения Мастера / Сост. Вера Калмыкова. – М.: Русский импульс, 2010. – 264 с.: ил. – 3000 экз.
Книга-альбом, посвящённая одному из великих архитекторов эпохи стиля модерн. Фотоработы Маргариты Фединой, большинство из которых публикуется впервые, показывают как здания целиком, так и примечательные детали интерьеров. В статьях анализируется творчество Шехтеля в общем контексте Серебряного века, раскрывается философский подтекст использованных им приёмов, благодаря которым здание «…превращается в символ города и мира и тем самым обнаруживает глубинное родство со средневековым храмом, православной церковью, романским и готическим собором. В «готических» особняках Шехтеля возрождается в равной мере присущая средневековому зодчеству Европы и Древней Руси ритмичность».
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Сохранивший веру
Библиоман. Книжная дюжина
Сохранивший веру
ЧИТАЮЩАЯ МОСКВА

Протоиерей Николай Балашов, Людмила Сараскина. Сергей Фудель . – М.: Книжница – Русский путь, 2010. – 256 с.; 8 л. фото. – 2000 экз.
Будущий известный богослов и духовный писатель Сергей Фудель родился в семье отца Иосифа, священника русского «Мёртвого дома» – московской Бутырской тюрьмы, – и был крещён в тюремной церкви. Когда ему было пять лет, отец взял его с собой в Оптину пустынь. Спустя годы в своих воспоминаниях С. Фудель так описывал то время: «Есть особое чувство детского благополучия, когда «всё хорошо» и «папа с мамой рядом». Всё это чувство живёт у меня от того крестного хода среди полей под широкий монастырский благовест». Но после Октябрьской революции Сергею Иосифовичу пришлось претерпеть многое – он трижды возвращался в Бутырскую тюрьму в качестве узника. Годы заключения и перерывы между ними, наполненные томительным и каждодневным ожиданием нового ареста, запрет на переписку, жизнь, полная скитаний, – не сломили мыслителя. Фудель вместе с единомышленниками выступал против церковного «обновленчества, разглядев в соблазне красного «живоцерковничества», переносящего в Церковь идеи и методы революции, апокалипсическую «церковь-блудницу». Сергей Фудель и его работы практически неизвестны широкому читателю – только одно его произведение было опубликовано под вымышленным именем в Париже, а именно книга о Павле Флоренском «Начало познания Церкви». Перу Сергея Фуделя принадлежат такие сочинения, как «Путь отцов», «Церковь верных», «Свет Церкви», «Соборность Церкви и экуменизм», «Наследство Достоевского», «Записки о литургии и Церкви», «Славянофильство и Церковь», и многие другие.
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Во славу России
Библиоман. Книжная дюжина
Во славу России
ЧИТАЮЩАЯ МОСКВА

В.И. Даль. Матросские досуги : Рассказы / Сост., предисл., обработка для детей и словарь Л. Асанова. – М.: Детская литература, 2010. – 206 с.: ил. – 5000 экз.
Имя Даля в нашей стране ассоциируется с уникальным четырёхтомным словарём русского языка и собранием пословиц и поговорок, загадок русского народа. Созданию «Толкового словаря» он посвятил сорок семь лет жизни. Но помимо этого В. Даль писал замечательные повести, рассказы и очерки, многие из которых были специально созданы для крестьян, солдат и матросов. В этих произведениях в простой и доступной форме рассказывается о самых важных и серьёзных вещах. Именно к таким книгам относится этот сборник, впервые изданный в 1853 году. В издание включены рассказы о большинстве знаменитых сражениях Русского флота (Чесме, Наварине), героизме отечественных моряков и подвиге брига «Меркурий». Многие истории посвящены любимому герою Даля – царю-реформатору Петру I, прорубившему окно в Европу и лично строившему корабли: «Царь при спуске распоряжался лично, как корабельный мастер, и, когда корабль сошёл прекрасно, в общей радости сказал всем бывшим тут такое слово: – Товарищи! Есть ли кто из вас такой, кому бы за двадцать лет перед сим пришло на мысль, что он будет со мной на Балтике побеждать неприятеля на кораблях, построенных нашими руками!»
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
«Арбат, мой Арбат…»
Библиоман. Книжная дюжина
«Арбат, мой Арбат…»
ЧИТАЮЩАЯ МОСКВА

Олег Грисевич. Три тысячи шагов по Арбату . – М.: ИПО «У Никитских ворот», 2010. – 144 с.: ил. – 2000 экз.
Какая ты, Москва? Как живут, любят и тоскуют твои жители, какие чувства испытывают приезжие, шагающие по твоим мостовым? Об этом и многом другом говорится в сборнике рассказов, который можно бы назвать «Московская мозаика». Наиболее характерен рассказ, давший название сборнику. Это история двух молодых людей, таких не похожих между собой и, может быть, поэтому так по-разному относящихся к Москве: «…Сергей был романтиком. Он родился и вырос в одном из арбатских переулков в типичной коммуналке… В этих родных переулках обитала... особая атмосфера». А приехавшая в Москву красавица Катенька оказалась особой прагматичной, строящей планы по завоеванию города, поэтому выбиравшая перспективных женихов. Сергей к таким не относился, но зато он верил в то, что родной город сможет помочь ему обрести любовь. Достаточно всего лишь пройти вместе с Катенькой три тысячи шагов по Арбату…
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Средний класс
Библиоман. Книжная дюжина
Средний класс
ЧИТАЮЩАЯ МОСКВА

Москва при Николае II (1894–1917). – М.: ЗАО «Издательский центр редакции газеты «Московская правда» совместно с ЗАО «Редакция газеты «Московская правда», 2010. – 320 с.; 8 л. ил. – 3000 экз.
Сборник старинных репортажей, заметок и воспоминаний о столичной жизни. Очень занимательно! И волей-неволей наводит на размышления. «Нынешний охотнорядец мало чем отличается от своего предка времён Минина и Пожарского. Эволюция отразилась на нём в той же мере, как на колокольне Ивана Великого или на соборе Василия Блаженного. Это незыблемый устой, краеугольный камень, национальная основа, квинтэссенция народной массы». Средний класс, говоря по-современному, тот самый, который принято считать опорой любого государства. Конечно, достаётся этому сословию от романтиков и бунтарей (которые, вполне возможно, сами из той же среды и вышли), но если вдуматься – так ли оно плохо: «Спокойный, уравновешенный, втиснутый в узкие рамки своего веками сложившегося «я», чуждый несбыточных мечтаний и заманчивых, но неверных далей, он продолжает жизнь предков и, приходя к неизбежному концу, завещает продолжать её своим потомкам».
О да, творческой натуре на таком заранее расчерченном пути станет скучновато. Но когда все кидаются в погоню за миражом, будь то оторванные от реальной жизни идеалы разных революций или американская мечта о непременной собственной корпорации, причём очень скоро – становится некому просто работать или честно торговать в маленькой лавочке.
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
За ними была Москва…
Библиоман. Книжная дюжина
За ними была Москва…
ЧИТАЮЩАЯ МОСКВА

В.Ф. Старостин. Участник и очевидец : Воспоминания о жизни, войне, учёбе, работе в авиационных и ракетно-космических конструкторских бюро. – М.: Московские учебники и Картолитография, 2010. – 192 с.: ил. – 1000 экз.
Автор, известный конструктор-ракетчик, один из руководителей прославленного КБ академика В.Н. Челомея, рассказывает на страницах книги не только о том, как он сражался с немцами в партизанском отряде, работал с легендарным разработчиком самолётов С.В. Ильюшиным, но и о своих далёких предках. Прадед автора, Иван Старостин, родившийся в 1820 г. в деревне Плоское Смоленской губернии, был местным старостой. Дед, Иван Иванович, уехал в Москву и стал работать в трактире.
Однажды ему довелось услышать пение Фёдора Ивановича Шаляпина на заре его всемирной славы во время московских гастролей частного театра Солодовникова, покровителем которого являлся Савва Морозов. «Дед познакомился с Ф.И. Шаляпиным и стал работать у него билетёром в Москве, а также ездил с ними на гастроли в волжские города». Автор подробно описывает Москву двадцатых-тридцатых годов прошлого столетия, свою первую школу, расположенную у Савёловского вокзала, памятные места столицы, быт простых горожан.
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
В кольце улиц и площадей
Библиоман. Книжная дюжина
В кольце улиц и площадей
ЧИТАЮЩАЯ МОСКВА

Л.Б. Рапутов. Архитектурные ансамбли площадей Москвы конца XIX – начала XX веков . – М.: Московские учебники и Картолитография, 2009. – 168 с.: ил. – 1000 экз.
Как и почему менялся облик столицы? На основании материалов из архивов и музейных собраний автор прослеживает связь московской архитектуры и градостроительства с новыми историческими условиями и купеческой благотворительностью: «Превращение Москвы в конце XIX века в один из наиболее крупных промышленных центров страны сопровождалось значительным притоком населения и расширением городской территории… Из «оседавшего» в Москве населения подавляющая его часть селилась на рабочих окраинах между Садовым кольцом и Камер-Коллежским валом, а также в ранее малолюдных предместьях, где появлялись различные фабрики и мастерские...» На страницах книги приведены планы площадей Москвы (датированных XIX и XX веками), дающие представление о том, как тогдашние столичные архитекторы разрабатывали варианты нового городского облика.
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Шатун
Искусство
Шатун
КНИЖНЫЙ РЯД

Дмитрий Быков. Медведь : Пьесы. – М.: ПРОЗАиК, 2010. – 272 с. – 5000 экз.
Однажды, в один совсем не прекрасный день в ванной комнате одной обычной столичной квартиры, где проживало семейство ничем особо не примечательного гражданина Миши Григорьева (по образованию врач, трудится риелтором, возраст около 50 лет, жена, двое детей), вдруг самозародился… бурый медведь. Последствия выдались феерическими и непредсказуемыми.
Однажды, в один прекрасный день, в одном видном русском литераторе внезапным образом самозародился драматург. Последствия вышли боком, а теперь вдобавок – ещё и книгой.
Одному богу, наверное, ведомо – какой по счёту в феноменальной и разносторонней библиографии литератора.
Стоит сразу оговориться – мы отнюдь не числим себя по разряду присяжных зоилов писателя. И даже более того. Автор данных строк, к примеру, весьма неравнодушен к творчеству поэта Дмитрия Быкова – как лирика с эпиком, так и эпиграмматиста. Его давний «рассказ в стихах» «Ночные электрички» он вообще во время оно «таскал за собою», что твой Пастернак. А нетленные строфы, воспевшие некогда «господина Коржакова, господина Барсукова и их духовного отца, господина Сосковца», могут быть отнесены к непревзойдённым образчикам поэтической сатиры новейшего времени.
Несомненное уважение вызывает и фигура Д. Быкова – журналиста, публициста, критика (и вдобавок переводчика). Далеко не во всём соглашаясь с его оценками и суждениями, я не могу не воздать должное почти неизменной лёгкости пера, широкому кругозору, подкупающей жадной охоте до новых впечатлений и новых трибун.
Так, на одной из сравнительно недавних для себя творческих делянок, а именно в серии «ЖЗЛ», Быков-биограф сумел выдать книги, ставшие одними из наиболее заметных под знаменитой аббревиатурой.
Несколько сложнее обстоит дело с Быковым-прозаиком. И здесь, на мой взгляд, впрямую сказывается внутренний творческий конфликт разных Быковых внутри одного. Будучи по складу своего дарования во первые головы лириком и публицистом, то бишь представителем ярко выраженного «Я», он испытывает очевидные затруднения с романной полифонией.
Очень сложно романисту подобного склада распасться на множество, раствориться в своих героях, создать ну пускай даже не объективную, а субъективную картину мира. Но Быкову, похоже, недосуг обращать внимание на подобные мелочи – он гонит строкаж (сейчас вроде как выпускает в свет очередное произведение в большой, главной для отечественного писателя форме). Но и этого ему недостаточно. На задней странице обложки сборника, в коем Быков позиционирует себя теперь как драматург, озаглавленного без лишней скромности «Медведь», напечатан следующий красноречивый пассаж: «Всякий русский писатель мечтает о пьесе даже больше, чем о романе. Потому что это не только массовый успех и прямое обращение к огромной аудитории, но и начало времён, когда твоё слово что-то значит, предвестие общественного подъёма».
Тому, кто, прочтя сие, замрёт в сладостном предвкушении, стоит, наверное, слегка охолонуться – общественный подъём может предвещать (как то действительно не раз бывало в российском театре) прецедент постановки пьесы на сцене (желательно высокохудожественной), но никак не факт её публикации. Отдельные выдающиеся исключения – вроде распространявшегося в тысячах списков «Горя от ума» – лишь подтверждают правило. И хотя давшая название сборнику пьеса будто бы готовится к воплощению на одной из столичных сцен, чаемого «прямо обращения к огромной аудитории» Быкову, думается, придётся всё же покамест обождать.
Дело даже не в том, что драматург пытается быть дьявольски острым и смелым, но выступает при этом в метафорическом плане и, добавим, несколько сомнительного (см. первый абзац настоящей статьи) толка. Те же горячо нелюбимые Быковым творцы «новой драмы» давно ухитрились сказать всё то, о чём он нам пытается намекнуть, в буквальном смысле своими словами. А вот что его с «новодрамовцами» отчётливо роднит – так это почти полное отсутствие «чувства сцены», непонимание её законов. Но у тех есть как минимум мощная и подкупающая энергия отрицания. А что есть у Быкова?
В его не то чтобы «волшебной», а скорее, престидижитаторской «коробочке» бродит множество маленьких Быковых. Произносят длинные выспренние монологи, много шутят (иногда удачно), последовательно выражают отношение своего создателя ко всему на свете – к истории, к политике, к искусству, к театру, в частности.
Не сказать, чтобы живые, но забавные такие – видно, что неглупые, что ироничные, что много читавшие и даже посещавшие порой театр.
Александр А. ВИСЛОВ
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Концерт для гобоя с литературой
Искусство
Концерт для гобоя с литературой
ПРИГЛАШАЕМ
Для своей совместной программы «Триумф художественного вкуса» актёр Александр ФИЛИППЕНКО и музыкант Алексей УТКИН нашли определение удивительное и необычное – литературно-музыкальная симфония. О том, что это такое, мы решили узнать из первых уст.
И поскольку литература в формулировке предшествует музыке, то первым делом мы обратились к Александру Филиппенко.
– Александр Георгиевич, как рождалась ваша «симфония»?
– После одного из концертов ко мне за кулисы зашёл Алексей. Оказалось, что по ходу он делал какие-то заметки для себя, потому что желание сделать программу, где музыка и слово имели бы равные права на внимание зрителя-слушателя, у него возникло достаточно давно. Мне тоже было интересно найти такое сочетание поэзии и музыки, где они не просто дополняли бы друг друга, а были сопряжены неким внутренним единством.
– И что с чем в итоге «сопряглось»?
– Пастернак, Бродский, Левитанский, Зощенко – с Бахом, Моцартом, Шостаковичем, Пьяццолой.
– Замечательных поэтов – немало, замечательных стихов – великое множество. Как получается, что в программу попадает именно это стихотворение, а не какое-либо другое?
– Всё определяется только моим жизненным опытом. При подготовке каждой программы, не важно, поэтической или прозаической, передо мной встают три «почему»: почему я в этом году выхожу на эту публику с этим тестом. У меня должны быть ответы на эти «почему». И если я попаду с ответами в «десятку» – программа получится. Но можно ведь угодить и в «молоко». Или, скажем, в «тройку». И перед каждым выступлением я тоже их себе задаю. Но ответы – они только мои, и публике их знать не обязательно.
– Название искали долго?
– «Триумф художественного вкуса» – это название одного из рассказов, вошедших в программу. А вот обозначение для жанра концерта мы искали действительно долго. На эти полтора часа мы вместе со зрителем отправляемся на прогулку-размышление. О жизни и смерти, любви и ненависти, о славе…
– Маршрут этой прогулки лёгким не назовёшь.
– На таких концертах случайной публики быть не может. Приходят люди чувствующие и думающие. Между сценой и залом возникает интенсивный энергообмен. Только не спрашивайте, как это получается. О природе взаимодействия публики и артиста диссертации пишут, горы бумаги изводят. И никто пока толком ничего объяснить не смог. Ещё Чехов говорил о том, что между сценой и залом повисает облако. Это и есть спектакль. Оно или повисает, или нет.
– Получается, имена тех, чьи произведения звучат со сцены, служат неким фильтром?
– Конечно! А как может быть иначе?
– И что, никогда ни одного человека, который попал, так сказать, не по адресу? Трудно поверить…
– Такое случается редко. Однажды ко мне за кулисы пришёл бизнесмен, который честно признался, что не был готов к восприятию того, что звучало в концерте: тут высокая поэзия, а я только что с деловых переговоров, на которых новый проект обсуждался, получилось – как без скафандра на другую планету. Но этот человек всё-таки смог переключиться. У кого-то получается, у кого-то – нет. Мне кажется, всё зависит от внутреннего желания человека.
– Ваши концерты разрушают стереотип, который в последние два десятка лет весьма популярен у дельцов от искусства: публика – дура и будет есть то, что ей дадут.
– Как у нас любят обобщать! Публика – не однородная масса. Она «рассредотачивается» по разным уровням. Вот что важно. Причём это происходит не только в зависимости от жанров искусства, но и внутри самих жанров. У меня есть программы на тысячный зал, а есть – на зал в триста мест. Разная атмосфера, разная энергетика. Выступаю не только в театральных и концертных залах. Клубы, пафосные и серьёзные, в последнее время тоже приглашают выступить. Я не очень люблю вносить коррективы в свои программы, но это необходимо делать – условие рынка.
– И вы его принимаете?
– Это мой выбор. Каждый сам выбирает, как ему жить на новой «планете», на которой мы все внезапно оказались. Перечтите Левитанского:
Мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе.
Не каждый музыкант, даже принадлежащий к когорте мировых знаменитостей, рискнёт «разделить» сцену с драматическим артистом, тем более если артист этот обладает таким вулканическим темпераментом, как у Филиппенко. Но Алексею Уткину нравится расширять горизонты своего любимого инструмента – гобоя – не только в пространстве музыки.
– Алексей Юрьевич, поверить слово музыкой так же сложно, как алгеброй гармонию?
– Это просто ещё одна грань того же процесса. Для нас с Александром Георгиевичем было очень важно понять, насколько мы близки и понимаем друг друга. Программа рождалась методом проб и ошибок, довольно медленно и не являет собой целостный монолитный спектакль. Это композиция, составленная из огромного количества ингредиентов, причём композиция достаточно динамичная: что-то исчезает, что-то возникает. Изменения появляются почти перед каждым выступлением.
– Сложно работать с Филиппенко?
– Он сам – человек-оркестр. Может изобразить звуками всё, что угодно. Тонкая перенастройка на него присутствует обязательно. Ситуация, когда мы оба свободны и оба в импровизации, в такой программе невозможна. Слово быстрее доходит до слушателя, чем музыка. Оно придаёт образам чёткую конфигурацию, поэтому на текст публика реагирует живее. Музыку же, в особенности не очень известную, воспринимать сложнее. Поэтому, чтобы хоть как-то приблизиться к подаче такого артиста, как Филиппенко, надо не просто играть хорошо, необходима, если можно так выразиться, избыточная театральность.
– Только приблизиться?
– Переиграть его невозможно. Но можно как-то оттенить, взять на себя те настроения и ипостаси, в которых он бывает реже. Мы сосуществуем на сцене как некое единство противоположностей.
– Вы сказали, что в программе звучит в том числе и редко исполняемая музыка. Вы намеренно усложнили себе задачу?
– А разве интересно решать только простые задачи? Александр Георгиевич – большой знаток джаза, мне было интересно дать ему то, чего он ещё в руках не держал. Сегодня его уже не пугают ни Бриттен, ни Шостакович. Есть и совсем неизвестные широкой публике композиторы, например Бернхард Бах, один из представителей многочисленного музыкального «клана» Бахов. Непростая музыка делает текст, с которым она сопрягается, более ёмким. Я знаю, как публика реагирует на то или иное произведение: бравурное воспринимают быстрее, на знакомое реагируют живее. Но мы не ставили перед собой задачу вызвать у слушателей ту или иную реакцию. Нам хотелось побудить их к размышлению о жизни. Ну а как это получается, судить тем, кто придёт к нам на концерт.
Беседовала Ксения ВИШНЕВСКАЯ
Вечер «Триумф художественного вкуса» состоится 20 ноября в концертном зале «Оркестрион» (ул. Гарибальди, 19)
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии: