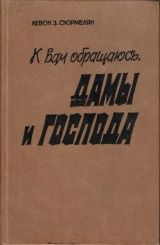
Текст книги "К вам обращаюсь, дамы и господа"
Автор книги: Левон Сюрмелян
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Глава двадцать пятая
СЕМЬ СЕДЫХ ВОЛОСКОВ
Сегодня утром, бреясь перед зеркалом в ванной, я обнаружил на правом виске блестящий белый волос. Поискав, я нашел ещё шесть на левом. Думаю, что есть и другие, но эти семь я увидел отчётливо – осязаемые узы, связывающие мою судьбу с прошедшими семью тысячами лет.
– Чёрт бы меня побрал! – сказал я себе.
Значит, седею, значит старею. Первые признаки наступающей зимы…
Я стоял перед зеркалом, подавленный этим открытием, затем пристально вглядевшись в себя, увидел за жёсткой щетиной бороды свежее, гладкое, с открытым мечтательным взором лицо юноши, и как странно, подумал я, что у меня борода и седые волосы. Что такое время? Ведь только вчера я приехал в Америку, а кажется – много веков назад. И сегодня, через столько бесконечных лет до и после моего паломничества в Новый Свет, который буквально таким и был для меня, этот мир на другой планете, мне хочется только вернуть обратно то изумление и восторг, с которым я впервые ощутил извечное чудо жизни – чудо дней и времён года, ветра и дождя, солнца и звёзд.
Я много размышлял о великом таинстве жизни и смерти. И этим утром, увидев седые волосы на голове, мне захотелось стать ребёнком, каким я когда-то был, и так всё время, до тех пор, пока закончится мой жизненный путь. Кто знает, может, я его закончу с японской пулей в груди, или же подорвусь на немецкой мине. Тем ребёнком, каким я был в Трапезунде, белом городе с красными крышами на берегу Чёрного моря, городе, которого больше нет, и который, тем не менее, будет жить вечно. Детьми мы все были замечательными и похожими друг на друга. Жили одинаково праведной жизнью и говорили на одном и том же праведном языке, хоть и звучание слов было иным. В детях весь мир един. И истинные поэты и философы, святые и герои всех времён, везде, в Канзасе или Трапезунде, в Номе или Ла-Плате, Типперери или Хенгчоу, – всегда оставались детьми. Детьми мы достойны общества богов. А сейчас даже самому лучшему среди нас, самому преуспевающему, я могу сказать только – смотри на себя, брат, смотри и плачь.
Я хочу жить как ребёнок каждый день, час, каждое мгновение – и не быть ограниченным пространством и временем, логикой и географией, народами и историей. Я хочу быть, а не иметь. Ибо быть – значит иметь всё. Я хочу быть похожим на яблоню, которая приносит плоды без труда, на красный цветок, растущий в поле, хочу быть чашею для солнца. Хочу быть похожим на шафран, цветущий ранней весной после ледяных ветров и унылого безрадостного одиночества зимы, хочу быть полным бодрости и оптимизма. Цветы не неудачники. Они не разочаровываются, не ожесточаются, они умеют жить. Это истинные успехи, они умеют жить по-настоящему, жить безмятежно.
Ибо если вся наша жизнь, все наши усилия и труды, счастье, любовь и знания должны увенчаться смертью, и если смерть – последний господствующий монарх наших жизней, если каждая победа и поражение, каждый выигрыш и проигрыш, всякая услада души и тела, каждая прочитанная и написанная книга, каждый увиденный закат и посаженное дерево ещё больше приближают нас к бесповоротной участи, всё равно день остаётся днём, час – часом, мгновение – мгновением, как бы много или мало мы ни жили.
И смерть лучше вина, лучше философии. Она – прекрасный возбудитель, и её сознание подобно прозрачному абсенту, согревающему нас изнутри. Могу сказать за себя, что никогда лучше и мудрей не жил, никогда ясней не видел окружающее и не получал от него большего удовольствия, пока не столкнулся со смертью лицом к лицу. Ибо тогда с мира упала завеса, и всё выступило отчётливо и рельефно, в истинном свете. Земля стала более земной. Море более похожим на море. Деревья более похожими на деревья. Я увидел, услышал, почувствовал запахи, потрогал и вспомнил всё с совершенной чёткостью.
И, помня о смерти, я должен быть смиренным. И сильным. Совершенно непобедимым. Такое смирение – прямой путь к миру, к радостям жизни.
Я хочу, сказал я себе, снова ощутить нескончаемые чудеса земли, всеобъемлющей, всеисцеляющей и созидающей матери-земли, щедро дарующей и принимающей напоследок то, из чего сделаны мы все, хорошие и плохие, великие и ничтожные. Мать-земля добра везде, луна и звёзды в Америке те же, что на моей родине, и они те же для всех детей повсюду, впрочем, взрослые их забывают. Солнце и дождь, утро и ночь здесь такие же, как в призрачных краях моего непреходящего прошлого.
Не принимать жизнь как должное и всегда помнить о смерти, познать её цену, как я познал это в детстве, – в этом отныне моя цель, говорил я себе, стоя перед зеркалом, пристально рассматривая седые волосы, первые признаки наступающей зимы.
У птицы времени всего лишь один выход —
Махать крыльями – и вот она в полёте.
Вспоминая эти строки, я говорю себе: нужно торопиться, нужно торопиться и начать жизнь снова, пока не слишком поздно. Мне нужно снова стать таким же сильным и совершенным, как тот мальчик, который смотрел на меня из-под моей щетины. Отныне, твёрдо решил я, что бы ни случилось, я стану жить, как ребёнок, – поеду в деревню, лягу на траву и стану вдыхать запах земли и зароюсь носом в благоухающие полевые цветы. Клянусь богом, говорил я, я позволю этим своим милым старым друзьям, красным жукам с блестящими чёрными пятнышками на спинке, ползать по мне, когда буду лежать под солнечными лучами, падающими на мои воздушные покои сквозь колючие кусты, и слушать, как дрозды играют коротенькие нотки на своих флейтах. Затем встану и босыми ногами побегу по прохладной траве, обниму деревья, как давно потерянных возлюбленных и, закатав брюки, перейду ручей вброд. Я найду иву и вырежу из её веток свистульки, побегу за бабочками и жуками-светляками, соберу безымянные полевые цветы.
Потом я спущусь к морю – прислушаюсь к шуму волн и буду смотреть, как они бегут к берегу, словно белые лошадки, тряся гривой, – как они это делали в Трапезунде. Буду смотреть, как заходит солнце, большой объятый пламенем галеон, и как луна прорезает в тёмных водах золотистую просеку.
Если бы мне удалось снова проделать всё это вместе с простой девушкой, которая разделит со мной потребность в земле и море, будет испытывать такой же восторг, бегая босиком по траве и мокрому песку, тогда я несомненно буду Счастливцем, богаче самого богатого человека, мудрее всех тех, что позабыли обо всём этом. А по ночам мы будем спать под небом, трепещущим от звёзд.
Возможно, после этой войны народы мира, помня о смерти, станут жить мирной жизнью, полной достоинства и мудрости, став в душе детьми. Это моё искреннее пожелание и моя надежда.
Этот прекрасный мир возрождается в детях. В них удивительно воскресает род человеческий. Душа ребёнка подобна шафрану, цветущему на солнце. В этом заключается тайна того мира-государства, о котором мы слышали, читали и думали. Ибо братство людей вновь станет свершившимся фактом, когда мы опять станем детьми, и наше окончательное освобождение состоится, когда мы обретём тот мир, которым владели, когда были детьми.
Мы должны их помнить
(предисловие автора к армянскому изданию ԼԵՎՈՆ ԶԱՎԵՆ ՍՅՈՒՐՄԵԼՅԱՆ. Ձեզ էմ դիմում, տիկնայք և պարոնայք: վեպ)
«Помните нас!» – воскликнула моя тётушка Азнив, и это были её последние слова, когда жандармы разлучили нас в Джевизлике и заставили женщин прошествовать к смерти. «Помните нас!» – говорили, казалось, все эти женщины, в то время как мы столпились в одну кучу перед каким-то «ханом» и ожидали, когда придут турки этой местности и заберут нас в свои сёла, переименуют нас в Гасана, Мехмеда, Сулеймана и вырастят как благочестивых, обрезанных турок, как людей, которым возбраняется помнить прошлое. Наверное, мы были настолько неоперившимися, что и не помнили бы ничего. Ни один армянин, способный что-либо помнить, не должен был оставаться в живых.
Вот уже более полувека мы, пережившие те дни, вспоминаем о них, ещё не придя в себя, не будучи в состоянии осознать случившееся или говорить о нём. Я не осмеливаюсь даже задумываться об этом. Для тех, кто не оказался жертвой этого почти смертельного удара, нанесённого нашему национальному существованию, слишком больно переживать прошлое, а потрясение всё ещё продолжается. Правда, я написал эту книгу, однако сумел дать лишь отрывочное, частичное представление об этих днях – когда в качестве проживающего в Америке совершеннолетнего человека я оказался в состоянии высказаться более определённо, более предметно. На протяжении всего времени, когда писал эту книгу, я носил чёрные очки и делал вид, что мои глаза воспаляются от яркого солнца Калифорнии; причём, я поступал так не только на открытом воздухе, чтобы скрыть слёзы. «Врач посоветовал», – бормотал я.
На самом деле я не плакал. Тот мальчуган, который перенёс столь ужасное бедствие, ходил с высоко поднятой головой, он был «смелым армянским воином», и я всё ещё продолжал играть воина. Был невозмутимым и хладнокровным. Отчуждённым и самоотчуждённым. Казалось, писал не я, а кто-то другой, какая-то холодная моя частица, настолько холодная, что я уже не мог её ощущать.
Я запретил себе что-либо ощущать, мысленно впрыскивал в свой организм новокаин – чтобы приглушить боль; вместе с тем, моё спокойствие приводило меня в изумление. Я должен был бесчувственно, без прикрас изобразить события – так, как я их помнил, но в уютной тишине моей комнаты слёзы невольно катились по щекам: годами сдерживаемые слёзы катились – словно из чужих глаз, тогда как человек прятался за чёрными очками.
Я написал и переписал набело, раздумывая, каким образом буду расплачиваться за комнату в следующем месяце, и бывали дни, когда у меня не оказывалось даже десятицентовика, чтобы купить буханку пресного хлеба, но мне было не до этого. Важность представляли непосредственный фрагмент или ощущение, абзац, предложение, всё то, что я должен был привести в надлежащий вид, причём это всё должно было звучать настолько правдиво, что, если бы даже не осталось и следа от Западной Армении, моя книга призвана была бы помочь историкам и этнографам воссоздать эту исчезнувшую жизнь. Я пишу для музея наций, говорил я себе, я даю показания на всемирном процессе, перед всеми людьми доброй воли. Вместе с тем меня не покидало ощущение, что этим своим откровением я низвергаю в себе что-то священное.
Писатель всегда стоит перед задачей сказать нечто несказанное. Вся трудность затеянного мною дела усугублялась ещё и тем обстоятельством, что, приступая к этой книге, я был в сумеречном пристанище между двумя языками. К тому времени я ещё не полностью забыл мой родной язык и, с другой стороны, ещё не полностью овладел английским, если, конечно, человек может когда-либо овладеть каким-либо языком, включая родной. Я надеялся, что читатель так просто не забудет то, что помнил я, и мне был необходим один из распространённых языков для пересказа этой истории. Другие очевидцы пусть пишут по-армянски; я же должен был рассказать свою историю на английском. И только свою историю, поскольку всю историю – даже если бы я её знал – рассказать было бы невозможно. В этом я был уверен. Я констатировал только то, что пережил сам и видел воочию. Я хотел рассказать всё об этих событиях с точки зрения чудом спасшегося от смерти мальчика, у которого, естественно, ограниченные знания и узкий кругозор, рассказать, не прибавляя ничего, что стало мне известно в дальнейшем. Это исказило бы историю. Я подумал: история будет более правдивой и достоверной без комментариев, и в данных обстоятельствах пара глаз, читай: глаз юного героя, будет лучше, нежели две пары, причём, вторая пара не была очевидцем событий, которые я пытался изобразить, она не принимала участия в первоначальном испытании. Мне органически претят автобиографии детского или юношеского периода, написанные с позиций зрелого человека, когда автор то и дело вмешивается в ход повествования, чтобы прокомментировать тот или иной момент, дать разъяснение тому или этому описанию или событию. Итак – именно то, что случилось со мной, и именно так, как случилось. Ничего не изменено, ничего не прибавлено.
Вся история в целом, повторяю, не рассказана и не может быть рассказана. Мёртвые ничего не рассказывают, а очевидцы всё ещё молчат. «Сорок дней Муса-Дага» написаны не армянином. Мы, очевидцы, разбрелись на все четыре стороны света и всё ещё прячем наши раны. Мы – мастера самообмана. Маскарад необходим для сохранения нашего равновесия и для упорядоченного хода будничных дел в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, Буэнос-Айресе или Сан-Паулу, Париже или Бейруте. Мы можем с негодованием говорить о той или иной новости дня, но ничего не сказать, даже не пикнуть о вещах, которые тревожат и беспокоят нас более всего. Армянин, живущий на чужбине, полон невысказанных дум, и в нём живёт большое безмолвие. К примеру, когда в день Памяти жертв геноцида, 24 апреля, американские армяне в знак протеста собираются в Сан-Франциско или перед зданием Организации Объединённых Наций, они шествуют безмолвно.
Знаю – в моей истории есть упущения. Эта книга должна была иметь двойной объём. Многое я не включил в книгу. Многие из глав были предварительно опубликованы в периодике в качестве отдельных рассказов или очерков. А в американских журналах страницы настолько перегружены, что нет возможности для публикации более пространных историй. Для напечатания торгового рекламного объявления необходимо уплатить пять или десять тысяч долларов только за одну журнальную страницу. И в этой богатой стране, имеющей двести миллионов жителей, литературные журналы до убожества малочисленны и не в состоянии платить своим сотрудникам или же платят очень мало, а предоставляемые страницы, и без того ограниченные, сокращаются из года в год. Поэтому главы моей книги короткие, это скорее резюме, нежели рассказы в полном объёме, и других глав, которые должны были занять место в книге, нет.
Я счёл необходимым снискать себе определённое литературное признание, прежде чем кто-либо из издателей взялся бы напечатать всю рукопись, и поэтому разрезал её для публикации в периодических изданиях. Ни один американский издатель не станет издавать книгу, не усмотрев в ней выгоды. Он продаёт книгу так же, как бакалейщик бакалейные товары. Молодые американские писатели не питают иллюзий по поводу издателей. Издаётся все то, что продаётся. То, что не продаётся, тотчас же отвергается. Стимул выгоды душит все ценности. Как председатель Конгресса писателей-пацифистов и как профессор английского языка и литературы университета я проповедую благочестивую нищету. За три года до выхода в свет моей книги одна из её глав – «Америка у меня в крови» – была напечатана в учебном пособии по английскому языку, изданном Оксфордским университетом. За год до выхода книги другая глава – «Моя русская фуражка» – была напечатана в сборнике «Избранные американские рассказы» в 1944 г., антология эта пользовалась большим авторитетом. Наконец, какой-то издатель соизволил поставить мою книгу на кон, и её сразу раскупили. Из-за нехватки бумаги в Америке издатель не мог иметь запасных экземпляров. Все книжные магазины Лос-Анджелеса неделями и месяцами не имели ни одного экземпляра. Я же был недоволен тем, что моя книга стала предметом купли-продажи. Стеснялся получать за неё деньги. Издателю сказал: «Мне было бы нипочём, если бы я не заработал на этой книге ни одного доллара».
Это была моя первая книга на английском языке, она была несколько простоватой: я ещё не начал обучать американских юношей их языку и литературе. Я решил не прибегать к эффектным литературным формам и приёмам, а попросту рассказал правду – так, как я её знал. Я не взывал к жалости читателя или даже – к его симпатии. «Будьте добры, оставьте шипы сострадания при себе» – вот облик всех гордых армян. Первоначально книга эта называлась «Прелюдия жизни», и я хотел было прославить жизнь вообще, всё сущее. Несмотря на то, что это была личная история, меня очень волновали общечеловеческие истины, и с самого начала моей целью было превратить эту историю армянских подростков времён Первой мировой войны и послевоенных дней в песнь юношеству, и я перешёл от личного к общественному. Хотя история эта подчёркнуто армянская, она вместе с тем не только армянская. Я постарался добавить новую главу к апофеозу всемирного юношества, добавить, так сказать, армянскую главу.
Во времена моей «благочестивой нищеты» и самых мрачных дней, когда я жил безалаберно, мне была опорой и поддержкой чистая радость воссоздания юношеских ощущений. И, может, в этом кроется причина, что эта книга или отдельные её куски нашли отголосок в сердцах большого числа американских, английских, шведских, итальянских, греческих, немецких и даже бирманских читателей.
Как говорит Д. Лорэнс, мы освобождаемся от своих болезней в своих книгах, а моим недугом была армянская болезнь. Я должен был написать эту книгу, иначе моя душа никогда бы не умиротворилась. «Помните нас!..» – звенело у меня в ушах. Ещё ребёнком я хотел знать, почему должны были случиться события, описанные в моей книге. Думаю, ответ на это «почему?» дан в главе «Моя русская фуражка». Это узловая, стержневая глава. Всё армянское население Западной Армении было вырезано на месте или угнано навстречу смерти – с русскими шапками в сердцах, а русская шапка олицетворяла собой Бога, Европу, Цивилизацию и вообще всё. Русская шапка означала электричество, защиту жизни и имущества, элементарное человеческое достоинство. Царская Россия, невзирая на свои прегрешения и пороки, была для нас «Тётушкой». Могу ли я когда-нибудь забыть, что русские солдаты спасли мне жизнь, когда я скрывался в каком-то греческом селе, куда сбежал из турецкого села и поменял имя Джемал на Янко? Дни и ночи я молился об их прибытии.
То чувство, которое я питаю к русским, – больше, нежели благодарность. Я преисполнен любви и уважения к русским ещё и по другим причинам. В конечном счёте, существует одна нация – человечество, и, так или иначе, русские являются для меня человечеством. Я очень чувствителен по отношению к русским. Для меня удовольствие смотреть на русское лицо, слушать русскую речь, русскую музыку, быть сопричастным Толстому и Чехову, Достоевскому и Горькому, героям и героиням старинных русских деревенских романов и сказок. Мне кажется, русские – это всё человечество, они воплощают в себе весь человеческий род. Я согласен – это опоэтизированное представление о русских, но моё представление о человеческом роде также опоэтизировано. Младотурки приговорили к смерти беззащитную нацию, потому что знали, что она влюблена в Российскую тётушку. И мы не скрываем своей любви. Когда, будучи школьниками, мы увидели в Трапезунде нескольких военнопленных казаков, устроили в их честь овацию. Это было непреднамеренно. Независимо от нас. Если бы могли, мы бы выбросили наши фески в грязь и надели бы на головы русские шапки. Пожалуй, эта любовь к России объясняется последовательностью армянского духа на протяжении веков, и Джемал-паша был прав, когда говорил об армянах: «Стойкие – в своей дружбе, стойкие – в своей ненависти». Другие меняются, армяне – нет.
Когда летом 1964 года я вернулся в Армению, впечатления от увиденного воодушевили меня. Миля за милей – виноградные сады и плодовые деревья, современные дома с красными крышами, мчащиеся по современным дорогам грузовые машины, заводские трубы, и снова заводские трубы. Зелень, зелень, зелень была повсюду, и от запомнившейся мне пустоши в окрестностях Еревана не осталось и следа. Это не было оптическим обманом, образ был вполне реален. Арарат устремлялся в небо передо мной и сопровождал великолепный поезд, в который я сел в Джульфе, поезд, похожий на левиафана, который парил в искрящейся пустоте небесной синевы и заполнял собой космос. Для вернувшегося армянина это страна-мечта, претворённая в жизнь кровью наших предков, их потом и слезами; и она блистает золотом наших древних церквей и монастырей, где Платон и Аристотель изучались наряду с посланиями апостола Павла. Казалось бы, Армянская республика была стать миражом в пустыне. А пустыня исчезла, но мираж остался здесь.
Я готов был лопнуть от гордости. Здесь, в Америке, я представляю себя в аудиториях такими словами: «Меня зовут Левом Сюрмелян, и я – гордый армянин…» Моим студентам запоминается «гордый армянин». Иные стремятся последовать моему примеру и быть гордыми. Я был гордым и в Ереване – на каком-то спешно созванном собрании в Доме писателей. Какой-то поэт вскочил и задал вопрос: «Если вы такой хороший армянин, почему не пишете по-армянски, почему пишете по-английски?» «Это попросту разделение труда, – ответил я. – Вы пишете по-армянски, а я – по-английски, и оба мы служим одной и той же цели. Я приехал сюда с английской рукописью армянского национального героического эпоса „Давид Сасунский“ и прошу, чтобы кто-либо из присутствующих писателей сказал мне, что как армянин он лучше, чем я». Я не сказал, что начал работать над новой книгой – «Яблоки бессмертия», книгой армянских сказок на английском языке, которые, подобно сасунскому эпосу, были изданы в Америке и Англии в качестве классических армянских произведений, и шефство над этими изданиями взяло на себя ЮНЕСКО.
Я пешком и на машине обошёл и объездил Ереван в поисках хотя бы одного здания, одной улицы, которую я видел в годы юности. Ереван ещё не завершённый город: есть возможности для благоустройства, которые, я уверен, хорошо известны нашим архитекторам, но на посетителей он производит неизгладимое впечатление. А великолепный Матенадаран свидетельствует о признании и любви к древним рукописям, рукописям, многие из которых бесценны. Матенадаран вмещает в себя мысль и сердце Армении. Традиционный стиль армянской архитектуры – это далеко не единственное, что придаёт Еревану блеск. Есть у него и свой характерный размах и вес – как у столицы вечно стремящейся вперёд республики. Его бесподобная вода струится из фонтанчиков, бассейны и озёра искрятся на солнце. Я ликовал, глядя на вывески с армянскими буквами. И мне хотелось видеть как можно больше. Вот очень уютный город, в котором удобно жить, – думал я. Ритм жизни здесь, хотя и быстрый, не изнуряет. Люди спокойны, сердечны. Сдержанные манеры, интеллигентные лица, крепкие рукопожатия. Скромные, улыбчивые мужчины и женщины занимают высокие должности, есть место смеху, дружелюбию.
Заведующий рестораном гостиницы «Армения», который обучался английскому, практиковался со мной в английском. Группы писателей, художников, артистов, певцов и музыкантов собирались в просторном зале ресторана, словно это один из жизненных центров города, место встречи для людей умственного труда. «Завен джан, я Согомон Таронци. Не помнишь меня? Мы были однокашниками в Нор-Баязете». «Ну да, конечно, теперь помню». «Отец мой был учителем в этой школе». «Да, да». «Завен джан, я Вардан». «Вардан?» «Мы были вместе в Армаше, учились на агронома». «Ванец?» «Да, ванец». «Я восторгался тем, что ты был уроженцем Вана. Мы были очень дружны». Арман Котикян, актёр и поэт и мой бывший учитель в Трапезунде, знакомил меня со всеми и дни и ночи напролёт был со мной, когда не был занят репетициями в новой пьесе. Бывшие мои однокашники приходили в гостиницу, чтобы увидеть меня. «Арутюн?», «Мкртич?».
Свой армянский я восстановил очень быстро. Прежде чем выступить по телевидению и радио, я сказал своим собеседникам, что не нуждаюсь в шпаргалке, что могу говорить без предварительной подготовки, так и поступил. Меня посетил поэт Ованес Шираз. «Завен джан, я видел вчера вечером по телевизору – ты читал своё стихотворение. Его заглавие должно быть не „Боги о посадке деревьев“, а „Молитва о посадке деревьев“». Мои друзья из Лос-Анджелеса, которые выстроили в Ереване свой собственный красивый дом и, по всей вероятности, были счастливы в своей новой жизни, пригласили меня на обед и в соответствии со своей доброй традицией сервировали стол самыми разнообразными армянскими закусками, еды было раза в четыре больше, чем мы смогли бы отведать. Могу сказать, что в Ереване обеды были вкуснее, нежели во всех первоклассных гостиницах, в которых мне довелось побывать. Хлеб-лаваш и масло были замечательные. «Это масло лучше, чем калифорнийское, – сказал я официанту, который был репатриантом из Греции. – А армянский хлеб вообще бесподобен. Это хлеб, благословленный богом. Принеси ещё немного». «А каковы ваши впечатления?» «Очень хорошие». Я понизил голос: «Но, брат мой, страна крайне маленькая. Нам мало что оставили». «Не такая уж она маленькая, если на то пошло. Вы побывали в Зангезуре?» «Нет, не было времени. А ещё я не успел побывать в Гарни, Аштараке и многих других местах, которые я очень хотел бы увидеть. Но завтра едем на Севан и в Дилижан».
Арно Бабаджанян исполнил на рояле раскатистую мелодию. Эдвард Мирзоян, председатель Союза композиторов, показал мне коттеджи с садом Дома творчества композиторов – в сосновом лесу Дилижана, идеальном месте для сочинения музыки или – а почему бы нет! – романов и стихов. «Шостакович провёл здесь несколько недель. Три-четыре дня назад уехал в Москву». Вместе с этой компанией деятелей искусства мы собрались на даче Мартироса Сарьяна, и я снова выпил коньяку и поел дыни, винограда, персиков, абрикосов, черешен. Эти дыни, виноград, персики, абрикосы, черешни были лучше, чем те, которые я когда-либо ел в Калифорнии. Моя сестра Евгинэ, репатриантка из Бейрута, была со мной, хотя случалось и так, что она по четыре, пять, шесть часов ожидала меня в гостинице «Армения» и так и уходила, не дождавшись. Мой брат Оник был очень занят в Ереване. Я думал: сумеют ли писатели Сильва Капутикян и Хачик Даштенц поехать с нами на Севан и в Дилижан, и вот, несмотря на свою занятость, они выкроили время, чтобы провести один день со мной. На Севане мы случайно встретились с Наири Зарьяном, который работал над своим переложением героического эпоса «Давид Сасунский». Когда вечером мы вернулись в Ереван, я страшно устал, но должен был увидеться с историком Ашотом Иоаннисяном и его супругой – скульптором Айцемик Урарту. А позже, близко к полуночи, я посетил поэта Веспера, он показал мне фотографию, на которой были я и мой брат Оник, и которая была снята в Ростове или Новом Нахиджеване летом 1919 года. Веспер и я вспомнили нашу жизнь в Караклисе, когда оба работали в Комиссариате внутренних дел. Я был его помощником. Я рассказал ему, что Оник проживает в Бейруте, где содержит своё семейство игрой на скрипке, и ещё я сказал, что провёл с ним два дня по дороге в Армению. Я не видел Оника и Евгинэ целых сорок два года. Старшая сестра моя, Нвард, умерла в Алеппо от тропической лихорадки, как раз в те дни, когда роман «К вам обращаюсь, дамы и господа» выходил в свет в Америке. Один из первых экземпляров книги, которую она уже не могла прочитать, положили у её изголовья.
Пришлось отказаться от поездки в Батуми, которая была намечена по программе, для того чтобы увидеть Патриарха Всех Армян в Эчмиадзине, когда он вернулся из отпуска.
Хачик Даштенц, истинный сасунец и переводчик Шекспира, прочитал рукопись моего перевода «Давида Сасунского», и академик Карапет Мелик-Оганджанян просмотрел её слово за словом и предложение за предложением. Благодаря им книга стала ещё лучше. Мелик-Оганджанян напоминал мне древних царей и нахараров Армении. Как только я входил в его квартиру по улице Киевян, его прелестная дочь открывала холодильник и доставала ещё одну дыню для меня и в придачу персики и абрикосы, виноград и черешни – эти дары земли армянской, которая некогда была пустыней, а ныне стала садом. Я целыми днями бывал в их квартире, и пометки постепенно умножались. Сердце и душа Мелик-Оганджаняна вросли в сасунский героический эпос. Он знал о нём больше, чем кто-либо другой, и не пожалел времени и сил, чтобы помочь мне пересмотреть книгу и сделать её такой, которая удовлетворила бы нас обоих. Затем я сдал рукопись директору Института литературы имени М. Абегяна Академии Наук Армянской ССР доктору-профессору Гургену Овнану – для окончательного и официального утверждения, чтобы привести в движение колёса ЮНЕСКО в Париже. Наконец, ЮНЕСКО получило одобрение своего советского отделения. Одобрение это было получено значительно раньше, нежели ожидало ЮНЕСКО, благодаря секретарю Союза писателей Эдварду Топчяну, председателю Комитета по культурным связям с зарубежными армянами Вардгесу Амазаспяну и другим ереванским и московским товарищам. Издатели почувствовали: наш героический эпос и сказки будут пользоваться достаточным спросом на книжном рынке и взяли на себя все материальные обязательства.
Мой последний вечер в Ереване: Вардгес Амазаспян и его сослуживцы устроили банкет в зале гостиницы «Армения». Евгинэ сидела рядом со мной. Стол был заставлен едой и напитками. Какая-то армянская джазовая группа играла в главном зале. Ах, если бы я мог оставаться в Ереване больше двух недель! Сам будучи учителем, я очень хотел бы посетить Университет и средние школы. Но в Америке я устроил так, чтобы ещё две недели провести в Тбилиси, Москве и Ленинграде. В моём номере в гостинице накопилось множество бутылок коньяка. Повезти с собой столько бутылок я не мог. В моём саквояже было два глиняных кувшина, которые я достал в каком-то магазине керамических изделий, так что приходилось выбирать между этими кувшинами и коньяками. Кувшины находятся сейчас в моём рабочем кабинете, я время от времени смотрю на них, и перед моими глазами встают образы армянских девушек-сельчанок, которые наполняют свои кувшины водой из родника, переговариваясь и пересмеиваясь друг с дружкой. Этот образ является для меня Арменией, и я с удовольствием встречаю его среди иллюстраций ко многим книгам, изданным в Ереване. Это ни с чем не сравнимо и безгранично обвораживает меня.
У меня не оказалось времени для посещения второго города Армянской ССР Ленинакана, а также Кировакана, бывшего Караклиса. На кироваканском вокзале я невольно вспомнил детей, умиравших посреди улиц, и моё упоение лопатой и киркой, когда началось переустройство Армении под звуки «Интернационала». Вспомнил трагическую братоубийственную войну, марширующие по улицам отряды Одиннадцатой Красной Армии, вспомнил своего однокашника Вазгена Шушаняна, который сосредоточенно бормотал свои стихи, в то время как я, бегая взад-вперёд по рынку, продавал семечки, вспомнил, как я переписывал на русском и армянском документы и подписывал свидетельства о рождении, смерти, бракосочетании в Комиссариате внутренних дел. Хотя бы один день мне следовало провести в Кировакане, который, как мне сказали, теперь стал важным промышленным центром, очень красивым городом с большими химическими заводами.








