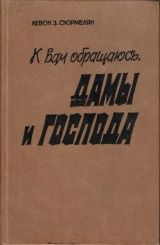
Текст книги "К вам обращаюсь, дамы и господа"
Автор книги: Левон Сюрмелян
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Глава восемнадцатая
МНЕ ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ. ХОЧУ ЕХАТЬ В АМЕРИКУ
Моя работа в качестве помощника секретаря в Комиссариате внутренних дел Армянской ССР становилась скучной и гнетущей, потому что наступила весна: невероятно, сверхъестественно, но весна наступила. Я перестал подкладывать под рубашку газеты, чтобы согреться. В последние месяцы я с горечью думал, что при распределении земель между народами мира бог нам ничего, кроме камней и льда, не выдал. Но теперь сосульки, похожие на сабли, растаяли, и долина Памбак зазеленела, переливаясь яркими пятнами шафрана и других цветов Кавказа.
Мне хотелось написать книгу, которая стала бы Библией для человечества – «Земледелие как прямой путь». Хотелось, чтобы люди жили в белых домиках с садами, пчелиными ульями и цыплятами, а вокруг бегали здоровые и весёлые дети. Но чтобы написать подобную книгу и повести соотечественников за собой к этому идиллическому золотому веку, чтобы искоренить бедность, неграмотность, несправедливость и жестокость, – мне нужно было стать самым мудрым человеком своего времени, думал я, и самым сильным, самым совершенным.
Посему мне хотелось повидать свет и изучить всё. Больше всего хотелось увидеть Америку. Я поднялся и подошёл к окну. На тополях и акациях пели птицы, ничуть не озабоченные судьбами классов и народов. Я стал насвистывать мелодию глупой песенки, потом перешёл на итальянскую оперную арию, сопровождая её театральными жестами.
– Ха-ха-ха! – засмеялся чахоточный молодой служащий нашего отдела, показывая на меня. – Товарищи, посмотрите на него! – И у него начался приступ кашля. В свои восемнадцать лет он был самым молодым в комиссариате служащим после меня. Этот впечатлительный, бледный юноша с красивыми глазами никогда не снимал с себя грязную рваную шинель. Его шинель и моя полуобгоревшая потрёпанная фуражка прославились на весь отдел. Когда служащие подшучивали над моей фуражкой, я заявлял, что храню её для государственного музея, и что в один прекрасный день её положат под стекло и сохранят для будущих поколений.
Я повернулся и посмотрел на разрывающегося от кашля парня. Подошёл к столу. Слёзы протеста стояли в его глазах, казалось, они говорили: мне не хочется умирать, я слишком молод, я не успел ещё пожить, и сейчас весна.
– Сирак, – сказал я, – с сегодняшнего дня погода будет отличной.
Он откашлялся в платок и вытер рот.
– Ещё одна такая зима убьёт меня.
– Когда ты едешь в Тифлис лечиться?
– Я не поеду, – сказал он тяжело дыша. – Обстоятельства не позволяют.
– А как насчёт разрешения на выезд? Что ты с ним будешь делать?
– Ничего, просрочу.
Я понизил голос:
– Послушай, отдай мне. Я смогу его использовать. Поеду в Тифлис вместо тебя. Я тебе заплачу за него. Даю три фунта хлеба и месячный рацион чая и мыла.
Он задумался над моим предложением.
– Но если тебя поймают, арестуют нас обоих.
– Никто меня не поймает. А если и поймают, ты скажешь, что я его у тебя выкрал.
Он продал мне разрешение на выезд за четыре фунта хлеба и месячный рацион чая и мыла. Я пошёл к нашему заведующему отделом, смуглому маленькому человеку, в прошлом военному инженеру, никогда не снимавшему с головы форменную фуражку. Он ненавидел себя за то, что родился армянином, но я к нему привязался. Мы часто спорили с ним о достоинствах русской и армянской литератур – он ничего не знал о наших великих поэтах. Я утверждал, что Даниэл Варужан и Сиаманто не хуже Пушкина и Лермонтова.
– Я ухожу с работы, – сказал я. – Вам придётся найти другого помощника со знанием армянского языка.
– Почему? – нахмурился он.
– У меня свои планы. Хочу поехать в Константинополь, оттуда в Америку. Мне многое надо изучить, много сделать. Но когда-нибудь я вернусь. Мы снова встретимся.
– Можешь уходить с работы, если хочешь, но я ничего не знаю о твоих намерениях ехать за границу, слышишь? Ровным счётом ничего. А как ты поедешь? Есть у тебя паспорт для выезда за границу?
– Нет, он мне не нужен. Стоит только добраться до моря, оттуда я уеду куда угодно. – Я не сказал ему о только что приобретённом разрешении на выезд, с которым, по крайней мере, можно было ехать в Грузию на «поправку здоровья».
Он согласился дать мне отпечатанную на машинке рекомендацию, которую написал я сам; в ней отмечалось, что я работал в Комиссариате внутренних дел Армянской ССР и отличился по службе.
Я выехал из Советской Армении и прибыл в Тифлис самым роскошным образом – на крыше товарного вагона. В этом чудесном городе я провёл несколько дней с приключениями, носил на вокзале вещи, спал на вокзальной скамье и мысленно представлял белые домики, ульи, цыплят и счастливых ребятишек того прекрасного мира, который создам. Из Тифлиса я зайцем добрался до Батума, моего самого любимого после Трапезунда города. Я затрепетал при виде Чёрного моря, запах апельсинов и анчоусов показался мне божественным. Первое, что я сделал по приезде в Батум, – съел тарелку жареных анчоусов с грузинским кукурузным хлебом.
Не найдя никого из родственников и друзей, я присоединился к группе армянских беженцев из Армаша, устроившихся в палатках вдоль линии железной дороги. Некоторые из них хотели поселиться в Армении, другие надеялись вернуться в Константинополь.
Я разжёг костёр из краденого угля и, натянув на уши фуражку, свернулся рядом с ними на земле. Фуражка обгорела ещё больше. Я принялся сочинять первую главу книги «Земледелие как прямой путь».
Мимо костра прошла девушка, остановилась, посмотрела через плечо на сгрудившихся вокруг огня мужчин-беженцев. Потом медленно продолжила свой путь, очевидно, ожидая, что кто-нибудь из них последует за ней.
– Вот ещё одна маленькая шлюха, – сказал кто-то из мужчин.
– Братец, да здесь хуже, чем в Кемер-Алти в Стамбуле! – сказал другой.
Она ещё раза два обернулась, но никто из мужчин не двинулся с места, и она исчезла в темноте. Я встал и, притворившись, будто иду совсем в другое место, посвистывая, последовал за ней. Она замедлила шаг. Мне не было страшно: в свои шестнадцать лет я был достаточно взрослым. Она остановилась, когда я подошёл, но, увидев перед собой подростка, скорчила презрительно-скептическую гримасу.
– Добрый вечер, – сказал я по-русски, с трудом глотая слюну. – Можно пройтись с вами?
Она заколебалась на мгновенье, потом равнодушно пожала плечами:
– Как хочешь.
Она, как и я, дрожала от холода. Я взял её худенькую руку. При свете фонаря я вдруг увидел хорошенькое, нежное личико, бледное и измождённое. Ей можно было дать не больше пятнадцати. Черты лица были не русскими, волосы чёрные.
– Еврейка? – спросил я.
– Грузинка. Деньги есть?
– Конечно.
– Меньше двадцати рублей я не беру.
– Хорошо, – сказал я и с чувством собственника сжал ей руку. Да, полненькой она не была.
– Ты далеко живёшь?
– Нет.
Ещё несколько минут мы шли по колее, потом свернули на узкую тёмную улицу, обсаженную хурмой. «А вдруг у неё венерическое заболевание, – подумал я, – не лучше ли вернуться?» Но мне хотелось стать мужчиной, узнать, что это такое.
Мы вошли в маленькую однокомнатную хибарку с железной крышей. Она чиркнула спичкой и зажгла керосиновую лампу. Я осмотрелся. В углу стояла кровать; на маленьком столике, накрытом красной клеёнкой, пустая консервная банка из-под сардин и грязная посуда. Тут и там – окурки. На подоконнике – гвоздика в горшке.
– Не думал, что сардины ещё существуют, – сказал я, взяв консервную банку, чтоб рассмотреть ярлык. Итальянские. Громко прочёл, чтобы показать, что знаю итальянский.
Она села на край кровати и стала развязывать шнурки на ботинках. А я переминался с ноги на ногу, не зная что делать и с чего начинать. Она сбросила ботинки на грязный истёртый коврик и взобралась на постель.
– Ну, чего ты там стоишь? – сказала она после того, как я заплатил вперёд двадцать рублей, которые заработал, таская багаж на вокзале в Тифлисе. Сняв пиджак, я повесил его на спинку единственного стула в комнате. Она полулежала на кровати, приподняв юбку выше колен и выставив модные розовые подвязки. Я был уверен, что под юбкой у неё ничего не было…
Я старался казаться спокойным и опытным. Но так как я стал волынить, на её губах появилась насмешливая улыбка. Когда она улыбнулась, мне вдруг показалось, что я её где-то видел.
– Как тебя зовут? – спросил я.
– Анна.
Теперь я уже был уверен, что видел её прежде. Странно.
– Где твои родители?
– А ты кто, тайный агент? – Она подозрительно посмотрела на меня.
– Конечно, нет.
– Ну, тогда…
– Батум – красивый город, – сказал я, чтобы выиграть время и набраться духу. – А я только что приехал из Тифлиса. На Кавказе нет другого такого города, как Батум. Он мне почти как родной, хотя родился я в Трапезунде. Я жил здесь пять лет назад у сестры своей бабушки по улице Бебутова-Корсакова.
Она призадумалась:
– Бебутова-Корсакова? Я тоже там жила.
Мы уставились друг на друга. И вдруг я вспомнил – соседская девочка! Мать её была гречанка, а отец – грузин. Она часто приходила к нам во двор поиграть с девочками.
– Мария Баришвили! – вскрикнул я, хватая её за плечи. – Ты Мария Баришвили!
Она закрыла лицо руками.
– Помнишь смешного часовщика в нашем дворе с большим красным носом, которого мы передразнивали?
Она кивнула.
– А русского дьячка с длинными седыми волосами?
Она снова кивнула.
Вытащив бумажник, я показал ей снимок, на котором был сфотографирован с двумя товарищами в Батуме.
– Вот это ты, в белой панаме и с пистолетом, – сказала она. – Ты всегда играл в солдаты. Но как же ты вырос с тех пор!
– Уж эта панама! – рассмеялся я. – Терпеть её не мог из-за того, что она не русская.
Она глубоко вздохнула:
– Да, многое изменилось с тех пор.
– Да, многое. – Я пододвинул стул и сел у кровати. – Что случилось с твоими родителями, где они?
– Мама умерла. Где отец – не знаю. Он был пьяницей и всегда избивал мать. Она заболела, стала кашлять. А отец ушёл, ему было наплевать, что будет с нами. Иностранные моряки меня заставили… делать это. Они мне давали белый хлеб, колбасу, сардины, одежду, всякие хорошие вещички.
– Придёт день, когда не будет больше бедности и голода, Мария, – уверил я её. – Люди станут жить в белых домиках с садами и пчелиными ульями; все будут добрыми и довольными. Ты тоже. Никогда больше не делай этого, никогда.
– Я не хотела, моряки заставили.
Она была такой наивной, совсем ещё ребенок. Я ничего не рассказал ей о своей книге, о том, что на моих плечах – судьбы народов, но убедил её продавать жареные семечки, чтобы зарабатывать на жизнь. Я сам их продавал когда-то. Довольный тем, что перевоспитал её, я поднялся.
– Куда ты идёшь? – она села на постели, скрестив ноги и обхватив руками колени.
– Поздно уже, спать пора. – Я надел пиджак.
– Где ты собираешься спать?
– Под звёздами.
– На улице холодно и сыро. Можешь остаться у меня. – Она робко улыбнулась.
– Но здесь только одна кровать.
– Достаточно большая для двоих.
Я заколебался, но она настояла.
– Ну, ладно, – сказал я.
Я задул лампу. Разделись мы в темноте и легли. Я стойко держался края кровати, как можно дальше от неё. Мы немного поболтали. Я рассказал ей, что собираюсь в Константинополь, а потом в Америку, что буду учиться в больших университетах и в один прекрасный день вернусь в Батум совсем уже другим человеком.
Она хотела, чтобы я её тоже забрал в Америку, но это было совершенно невозможно в данных обстоятельствах.
Когда она повернулась и прижалась ко мне, моё сердце готово было вырваться из груди. Я почти не дышал. Тихонько отодвинулся. Мы молчали, я притворился спящим. Вскоре и она глубоко дышала. Я слегка тронул её. Мария не проснулась. Выскользнув из кровати, я схватил в охапку одежду и обувь и выскочил из хижины. Огонь, который я тогда разжёг, почти угас, и я добавил краденого угля.
Я спал под открытым небом, но с чистой совестью.
Однако следующим утром я снова её встретил.
– А я решила, что ты уже в Константинополе или в Америке, – сказала она, лукаво улыбаясь. – Ты меня испугался?
– Я себя испугался.
День мы провели вместе. Ходили купаться. Стройная, как берёзка, с грудью, похожей на две половинки граната, в воде она оказалась красивым, резвым существом. Затем мы пошли в порт. В док вошёл итальянский пароход «Рим» компании Ллойд Триестино – замечательное судно! Мария отказывалась подойти поближе.
– Моряки меня знают, – объяснила она.
В воде вокруг парохода плавали кусочки белого хлеба, бутылки из-под пива и консервные банки. Перегнувшись через поручни, матросы наблюдали за часовыми и голодными оборванными жителями города, которые подобно мне жадно уставились на плавающие кусочки белого хлеба. Я стал думать, как попасть к ним на судно. Позже, прогуливаясь с Марией по бульвару, мы заметили сидящих на скамейке трёх итальянских моряков.
Оставив Марию чуть поодаль, я подошёл и по-итальянски приветствовал их. Затем продекламировал итальянские стихи:
Ha самом лучшем литературном итальянском, на который я был способен, я рассказал им, что и сам похож на странствующую ласточку из печальной песни. И пропел:
Да, говорил я им, я тоже рождён нести своей крест. А когда за этой песней я спел «Санта Лючию», матросы были заметно тронуты. Мы разговорились. Я узнал, что «Рим» отплывает в Стамбул в тот же день в шесть часов вечера с остановками только в Трапезунде и Самсуне. Тогда я честно признался, что хотел бы поехать зайцем на их пароходе до Константинополя. Они обещали никому не говорить об этом и по возможности помочь. Но надо было быть очень осторожным, потому что если уж меня поймают, они ничего не смогут поделать.
За полчаса до отплытия мы с Марией стояли у причала, но близко к пароходу она не подходила. Все пассажиры были иностранцы, в основном персы, хорошо одетые, солидные мужчины и несколько женщин в чадрах. Я ломал себе голову, как бы проскользнуть на пароход незамеченным. Оставались считанные минуты, когда меня осенило: конечно же, носильщиком! Ведь в некотором смысле я был профессиональным носильщиком. Итак, схватив багаж какого-то перса – два тяжёлых сундука, – я вместе с ним поднялся по трапу мимо всех – и наших, и итальянских представителей и охраны. Никто не остановил меня. Поставив вещи в каюту перса, я поблагодарил его за чаевые… и остался на палубе. Для окончательной проверки паспортов наверх поднялась группа служащих. Один из них подозрительно посмотрел на меня, но я притворился итальянцем, членом судовой команды. Одежда моя была хоть и грязной, но, в общем, её мог носить любой итальянский мальчишка. В эту критическую минуту, завидев одного из матросов с бульвара, я прокричал ему что-то по-итальянски. Подозрительные служащие перестали на меня коситься, и я на некоторое время оказался в безопасности.
Мощный вибрирующий шум моторов привёл в трепет каждую клеточку моего тела. Я стал молиться: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твоё, да придёт царствие твоё, да будет воля твоя и на земле, как на небе». Я бросил взгляд на Марию, на покрытые снегом вершины гор, окрашенные закатом в малиновый цвет, и на здания, – мне хотелось запечатлеть в памяти все подробности этих минут, и всегда их вспоминать, даже в далёкой Америке. Мария помахала мне рукой, а я украдкой махнул в ответ.
Трап подняли, громадное судно тронулось. Вспенивая воду до молочной белизны, величаво разворачивалось громадное морское чудовище – «Рим». Мария вместе с берегом скрылась в синеве сгущающихся сумерек. Прощай, Мария! Прощай, Батум! Прощай, Арарат!..
На палубе я приискал себе убежище. Один из моих знакомых моряков принёс тарелку спагетти с жареным мясом и несколько ломтиков белого хлеба.
– Оставайся здесь, – сказал он. – Не выходи. Не нужно, чтоб тебя видели.
Пароход бросил якорь в Трапезунде глубоко за полночь. Я выполз из укрытия и печально посмотрел на родной город. На берегу мерцали огни. Виднелись очертания Гузел-Сераи, старого Генуэзского замка, кипарисов турецкого кладбища, креста армянской церкви, высеченного в скале византийского монастыря на Сером холме. Позади них возвышалось понтийское царство тёмных елей.
Приблизившись к пароходу, флотилия длинноносых гребных лодок, похожая на морских верблюдов, выгрузила своих пассажиров. Турки вскарабкались вверх по трапу. Знакомый страх сковал меня.
Вдруг я очутился лицом к лицу с начальником пассажирской службы.
– Tichetta[39]39
Билет (итал.)
[Закрыть], – сказал он, намереваясь закомпостировать мой билет.
Я покачал головой.
– Passaporte[40]40
Паспорт (итал.)
[Закрыть], – потребовал он.
Я снова покачал головой. Сжав зубы, он схватил меня за плечи и сердито толкнул к трапу. Дав знак турку-лодочнику, чтобы тот забрал меня на берег, он пытался оторвать мои руки от поручней, за которые я изо всех сил уцепился.
Вокруг нас, наблюдая за схваткой, собрались пассажиры. Дважды я чуть не угодил за борт. Глубоко внизу, в чёрной бездне моря, ударяясь о высокие железные бока парохода, меня ждала турецкая лодка, а Трапезунд в ночи с мерцающими огнями проливал по мне слёзы. Я увидел в море множество вперившихся в меня мёртвых глаз, с нетерпением ожидающих, что я присоединюсь к ним, войду в подводное царство мёртвых, чьи тщетные крики и мольбы о пощаде никто не услышал, когда их топили во время резни.
Начальнику уже удалось столкнуть меня на две ступеньки вниз по трапу, когда для выяснения происходящего явился капитан «Рима», и я тотчас же обратился к нему, как один культурный человек к другому, на смеси итальянского с французским:
– Monsieur le capitaine, je suis un étudiant Arménien[41]41
Господин капитан, я армянский студент (франц.)
[Закрыть]. Я хочу уехать в Америку изучать науку о земледелии. Моих родителей и родственников турки убили здесь, в Трапезунде. Мне удалось спастись. Этот лодочник не довезёт меня до берега, а утопит в море. А если и довезёт, они меня расстреляют. Мы, армяне, являемся распространителями la lingua e la cultura Italiana[42]42
Итальянского языка и культуры (итал.)
[Закрыть].
Он слушал меня с трубкой во рту. Турки и персы почтительно расступились. Даже начальник пассажирской службы ослабил хватку.
– Пусть остаётся, – сказал капитан.
Теперь я мог свободно передвигаться по пароходу. На палубе было холодно. Какой-то турок-пассажир предложил мне свою койку, но я вежливо отказался. Волнение улеглось, и пассажиры вернулись в свои каюты. Многие вынесли постели на палубу и спали там. Я стоял один на носу корабля, подняв воротник пиджака, засунув руки в карманы, и вглядывался в море, в то время как «Рим» прорезал его гладь.
Голос моря звучал теперь как органная месса при лунном свете. «Сердце моё – как твёрдый красный щит, – бормотал я. – Сердце – как звезда на моей груди. А грудь моя – вселенная. Я плыву в Америку, в большое будущее на плоту своей мысли. Маяком мне служит горящее сердце мира – мой проводник в звёздной ночи».
Мне виделось, как из вод выходит Мария, и мы плывём вместе по лунной дорожке в широкий простор моря. Со всех сторон нас окружают морские духи, а звёзды осыпают цветами апельсина. Взмахнул крыльями ангел и улетел с веточкой к Святой Марии. Седовласый старец, морской бог, упёршись головою в звёзды, а ногами в воды, поженил нас, и стаи сирен закружились в волнах в свадебном хороводе.
Когда «Рим» вошёл в Босфор и прибыл сторожевой катер, капитан отослал меня в котельную, где я спрятался в корзине с углём. После того, как сторожевая служба удалилась, а «Рим» бросил якорь в Галате, я выскочил на палубу, стряхнул с шапки угольную пыль, лихо нахлобучил её на голову и зашагал завоёвывать мир.
Глава девятнадцатая
БОЛЬШОЙ ОБМАН
Меня мучила совесть, и не раз мне хотелось сознаться во всём, но я не осмеливался. Всё это зашло слишком далеко. К тому же я не был уверен, что если и скажу правду, мне поверят.
После того, как я сходил в турецкую баню и смыл с себя грязь, копоть и вшей, накопившихся в мою бытность бродягой и безбилетником, меня приняли в один из приютов в Пера, где я нашёл своего брата Оника чистеньким и невредимым. Вместе с двадцатью другими приютскими мальчиками мы стали посещать Армянскую Центральную школу.
Паломничество к Арарату стоило мне года: Оник был уже в пятом, а я в четвёртом.
– А ты помнишь, отец собирался отправить нас именно в эту школу, когда подрастём? – спросил Оник.
Я помнил. Это была старая известная школа, но меня всегда удивляло, что она находится в трущобах Галаты, в левантийских лабиринтах, кишащих проститутками, пьяницами и подонками со всех частей света.
Оник показал мне фотоаппарат – первый приз за лучшие оценки в школе, а это кое-что значило, потому что в школе было много блестящих учеников.
– Отец был бы счастлив, – сказал я, рассматривая фотоаппарат. – Он всегда хотел, чтобы мы были первыми в учёбе.
У Оника судорожно скривился рот, и мы отвели взгляды. Даже через несколько лет мы старались не упоминать в разговоре убитых родителей и родственников. Я всё ещё не мог видеть аптеки, не представив за прилавком смуглое, стареющее лицо отца, а вспоминая мать, с трудом сдерживал рыдания.
Я считал, что учусь в Центральной временно, до отъезда в Америку. А пока нужно только немного натаскаться по математике, естественным наукам и английскому. К счастью, английский оказался обязательном предметом, и преподавал его выпускник Робертовского колледжа. Большая часть учебников была на французском, и программа в основном соответствовала программе французского лицея. Как и большинство армянских школ, Центральная была крайне бедна.
Я мечтал о поездке в Америку, и соответственно строил свои планы. Однако хранил их в тайне. Даже брат не догадывался, что у меня на уме. Но как попасть в Америку? Денег не было. Может, попытаться доехать до Нью-Йорка зайцем? Это было бы чудесным приключением. Но я боялся, что какой-нибудь современный Нат Пинкертон или Ник Картер, чьими подвигами и ловкостью я так восхищался, в конечном счёте схватят меня и бесславно отправят назад.
По непонятным мне причинам законы об иммиграции благородной и гуманной Америки были слишком строги и бесчеловечны. Не могу же я изучать земледелие и всю американскую культуру подпольно?
Однажды в приют пришёл человек с сигарой в зубах.
– Я – коммерсант из Багдада, – сказал он. – Клуб армянских женщин Багдада собрал денежный фонд, чтобы дать образование двум сиротам, имеющим способности к изящным искусствам. Дамы хотят, чтобы мальчиков отправили в лучшие школы Европы для усовершенствования. Я приехал выбрать двух счастливцев среди вас.
Мы были потрясены. Вот так Багдад! И как это похоже на армянок! Однако эти патриотки скинули меня со счетов, потому что я не имел способностей к изящным искусствам. Неужели они не знают, что спасти нацию можно только приняв на вооружение американскую науку? Зачем попусту тратить деньги на искусства?
Наши музыканты достали свои скрипки, флейты, трубы и стали неистово упражняться. Другие ребята принялись ожесточённо рисовать. Один из них всё рисовал красивые головки турчанок. Снова появился у нас похожий на английского лорда богатый коммерсант с неизменной сигарой во рту, богатый и щедрый. Позже мы узнали, что он ещё и поэт и учёный, местная газета печатала его переводы четверостиший Омара Хайяма.
– Только искусство стоит чего-то в жизни, – говорил он нам. Он прослушал старательную игру наших музыкантов, просмотрел рисунки и картины, посоветовался со специалистами и, наконец, объявил своё решение: послать в Вену изучать живопись мальчика, рисовавшего головки турчанок, а моего брата Оника – учиться игре на скрипке. Таким образом, их будущее было обеспечено.
Коммерсант тем временем подыскал себе жену и вернулся в Багдад с обаятельной учительницей в роли счастливой невесты.
Наши математики надеялись получить право на французскую стипендию на конкурсных экзаменах, проводимых Alliance Française, чтобы изучать инженерное искусство в Ecole des Ponts et Chausses или даже в St. Cyr-е[43]43
Alliance Française – ассоциация основана в 1883 г. в целях распространения влияния Франции на остальной мир с помощью пропаганды французского языка и культуры. St. Cyr-e – специальная военная школа, готовящая офицеров сухопутных войск, создана в 1803 г. Наполеоном Бонапартом. Ecole de Ponts et Chaussées – высшее учебное техническое заведение. (Примечание И. Карумян).
[Закрыть]. Но в математике я считался классическим тупицей. Внезапный скачок от арифметики к аналитической геометрии принёс мне несказанные мучения. Директором школы был известный математик – «армянский Пуанкаре» – и нас начиняли огромными дозами математики. Блестящие знатоки этого предмета чувствовали себя в школе хозяевами положения. Слушая, как они болтают о дифференциальных уравнениях и о ряде Фурье, я глубоко страдал от чувства собственной неполноценности.
Только двое ребят с литературными наклонностями – Ваграм и Ашот, одноклассники Оника, – могли ещё как-то сохранить свои позиции в школьной иерархии. Ваграм считался литературным гением, да и внешность у него была примечательная: большая курчавая голова, которую никогда не покрывала шапка, и свободно повязанный галстук, какие носили в то время в Латинском квартале. Он переводил для «Голоса народа», редактором которого был один из наших самых выдающихся поэтов, Достоевского, Максима Горького и Леонида Андреева. Сознавая своё превосходство, Ваграм всегда над кем-нибудь или чем-нибудь подтрунивал. Всякий раз при встрече он пристально разглядывал меня, но никогда не удостаивал беседы.
Ашот, красивый мечтатель, слыл Аполлоном нашей школы. Как молитвенник, носил он в кармане пиджака «Цветы зла» Бодлера и шептал про себя их мелодичные строки. Но я не читал ни Бодлера, ни Верлена, ни Малларме, ни Флобера, ни Пруста, и потому Ашот не проявлял ко мне интереса, хотя и не игнорировал так сознательно и жестоко, как Ваграм.
Я долго обдумывал, что же такое мне сделать, чтобы привлечь к себе внимание людей, доказать им, что я существую? Нужны были друзья, которые помогли бы мне уехать в Америку. Я стал заниматься бегом, чтобы принять участие в Армянской олимпиаде и выиграть медаль, – если стану чемпионом, какой-нибудь влиятельный и денежный поклонник лёгкой атлетики окажет мне покровительство. Начал боксом заниматься. Но от этого плана пришлось отказаться, потому что, я ещё больше исхудал и извёлся. Мне нужно было в день на две тысячи калорий больше, чем обеспечивал наш скудный рацион.
Отчаявшись, я решил выдать себя за поэта.
Поэтов уважали даже больше, чем атлетов и математиков. Моей непосредственной целью было обеспечить о себе хорошее мнение «Армянского агрономического общества», которое время от времени посылало бедных студентов в Америку изучать земледелие.
И вот как я стал поэтом. Напевал я русскую песенку о Днепре, которая всегда навевала яркую картину колышущихся в лунном свете пшеничных полей и медленно текущей широкой полноводной реки. Песенка привела меня в нужное настроение. Схватив бумагу и карандаш, я принялся сочинять стихотворение. Вначале я заявил, что хочу быть «красным маком на пшеничном поле, чашею для солнца». Затем пустился описывать всё, чем бы мне ещё хотелось стать, превращаясь попеременно то в сверчка, то в деревянный мостик, просёлочную дорогу, крестьянского мальчишку, маленький серебряный крестик на груди у босоногой девчушки. Слова шли сами. Я озаглавил стихи «Пожелание». Переписав начисто красивым почерком, я послал их редактору «Голоса народа», но никому об этом и словом не обмолвился.
В следующее воскресенье, когда мы вернулись с бойскаутской экскурсии на Принцевы острова, ко мне в возбуждении подбежали малыши с газетой:
– Твои стихи! Твои стихи!
Я не верил своим глазам. Вот же они, на первой странице, у всех на виду! Теперь, когда их напечатали, мне стало стыдно. Они казались глупыми и сентиментальными. Мне не хотелось выставлять свои чувства на всеобщее обозрение. Ребята смотрели на меня как на восьмое чудо света, вновь и вновь читая напечатанное в газете моё имя, словно оно стало их собственным, качали головами, вздыхали, пророчили, что я стану «великим человеком».
Когда на следующее утро я вошёл в класс, мои одноклассники захлопали в ладоши и закричали:
– Поэт идёт!
Некоторые даже повскакали с мест и комично поклонились. У меня стали гореть уши.
Что подумает Ваграм? Я вторгся в его владения, а ведь это он – поэт, избранник «Голоса народа». Мои стихи он сочтёт за пощёчину.
– Позволь поздравить тебя, – сказал Ваграм, протягивая мне руку. – Я начал читать твоё сочинение с… презрением, мысленно рвал его на куски, но закончил с уважением. Мне особенно понравились третья и четвёртая строки второй строфы.
– Ничего особенного, – сказал я, волнуясь и нервничая.
– Я бы не сказал, что стихотворение выдающееся. Тебе ещё много надо учиться.
– Конечно, – охотно согласился я.
– Но на меня оно произвело необычное впечатление. У меня появилось странное ощущение, будто я прочёл свою собственную вещь. Странно, не правда ли? Ты в точности выразил мои чувства. Можно пройтись с тобой?
Неужели это наш гордый, аристократичный Ваграм? Неужели он беседует со мной? Пока мы шли, он продолжал:
– Проанализировав это странное чувство, я понял, почему ты мне не нравился. Ты не против, если я откровенно выскажусь?
– Ничуть.
– Ты мне не понравился с первой же встречи. Тогда ты только что вернулся из Армении и поучал группу мальчиков. Потом я заметил, как ты ходишь взад-вперёд по двору, заложив руки за спину, как Наполеон накануне битвы, и не хочешь, чтоб тебя беспокоили. Твоё высокомерие действовало мне на нервы, – сказал он со смешком.
– Я знал, Ваграм, что ты терпеть меня не можешь.
– Знал? Ха-ха-ха! Да, я тебя невзлюбил. Ты раздражал меня. А ведь мы с тобой и словом не перекинулись. Я ненавидел тебя, чёрт бы тебя побрал, потому что ты так похож на меня! Казалось, я вижу в тебе собственный призрак, а ты же знаешь пословицу: «Кто увидит свой призрак, недолго проживёт»?
– Не пугай меня! – сказал я, и мы оба засмеялись.
Ашот тоже стал мне другом. Подружились мы так крепко, что даже в Америку решили ехать вместе. Но у Ашота была мать, и он не был свободен.
«Армянское агрономическое общество» и в самом деле заметило мои стихи. Обратили внимание на напечатанные вслед за ними и остальные мои стихотворения, восхваляющие природу и деревенский быт. Решив, что время подоспело, я подал им заявление на получение стипендии. И тотчас получил. Стипендия давала мне возможность учиться в земледельческом колледже американского штата под названием Канзас, о котором я никогда прежде не слышал. Община помогла мне получить рекомендацию и все остальные необходимые бумаги, а американский консул обещал дать визу.
Но мне ещё нужно было купить билет на пароход, а в Америке подрабатывать на жизнь.
Представитель пароходства предложил мне билет за полцены, если я подпишу ему благодарность, которую он опубликует в газетах, когда я уеду в Нью-Йорк. Он полагал, что для него это прекрасная реклама, и его компания заполучит больше заказов от армян. Я подписал ему благодарность.
Одна студенческая организация выделила мне пятнадцать долларов. Мальчики, с которыми мы вместе ездили в Армению, теперь все вернулись в Константинополь и работали учениками у гравёров, портных, каменщиков, плотников, ювелиров и кузнецов. Днём они расходились по разным мастерским, а ночью спали в «Доме Викри». Поскольку они зарабатывали несколько пиастров в неделю, то собрали без моего ведома сумму, достаточную для приобретения билета по льготной цене и даже сберегли ещё несколько долларов.








